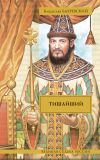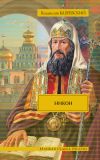Текст книги "Тишайший"

Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Пусть! – согласился Алексей Михайлович. – Борис Иванович, на вечерню я опаздываю.
– Государь, я тебя держать не хочу, но завтра надо тебе в Думе быть. Посла в Польшу посылаем, приказ Большой казны надо у Федора Ивановича Шереметева забрать, болеет князь, в приказ не ездит, глаза стыдно показать – недостача у него большая. Оттого и казна пуста.
– А без меня не обойтись?
– Не обойтись, государь!
– Ну ладно. Я завтра приду в Думу, посижу. А уж сегодня, будь милостив, отпусти. Люди меня ждут.
– Смею ли задерживать твое царское величество? – поклонился боярин. – Одно скажи, лепо ли воеводой Большого полка поставить князя Никиту Ивановича?
– Очень хорошо! – согласился Алексей Михайлович, ныряя в шубу, которую принес и держал Федя Ртищев.
Одевшись, государь стал вдруг медлить, перчатки попросил на рукавицы заменить. Рукавицы принесли красные – попросил зеленые. Вспомнил, что надо бы на дорожку облегчиться, скинул шубу, наскоро простился с Борисом Ивановичем, а стоило тому за порог – шубу на плечи, рукавицы взял красные, Федю обнял:
– Прости, брат!.. При Борисе Ивановиче уходить из дворца не хотел. Пришлось бы по-царски, а мы – тишком!
Никон слушал радостный шепот царя и глядел в сторону. Тишком, тайком… Он мечтал быть с царем на людях, чтоб все видели, чтоб во всем великолепии.
– Святой отец! – услышал Никон царя. – Идем-ка в малую какую церквушку.
И опять у Никона сердце печально екнуло: мечтал явиться с царем в Успенский, чтоб митрополитам, самому патриарху кинуться в глаза, а у царя на уме одно мальчишество.
– Великий государь, это изумления достойно, что ты не забываешь самых сирых во владениях своих… – Голос у Никона дрожал от обиды, но все приняли скоки в голосе за умиление.
6
В церквушке было тесно. Алексей Михайлович весьма удивился: церковь убранством бедна, свету в ней мало, иконами не знаменита.
Служили три попа. Скоро стала государю понятна завлекательность этой церквушки. Здесь пели священные тексты в шесть голосов сразу. Шесть человек читали разное. Понять ничего было нельзя, но служба зато кончилась так скоро, что государь и его спутники в себя еще не успели прийти от изумления.
Народ, весьма довольный, тотчас покинул церковь, а государь все стоял на месте – губы сжаты, глаза узкие.
– Никон!
– Слушаю тебя, великий государь.
– Вертеп!
– Вертеп и есть.
Царь сорвался с места, вбежал в алтарь, схватил изумленного попа за грудки. Поп был огромный, краснощекий.
– На Соловки! – крикнул государь в лицо молодцу в ризах. – Всех на Соловки!
И пошел из церкви вон.
– Чего это он? – улыбаясь, оглянулся на своих товарищей поп-молодец. – Да кто это? Да как он смел за грудки-то меня? Догнать бы…
Старый поп одной рукой схватился за сердце, другой замахал:
– Это – царь! Это – сам царь! Погибли!
Поп-детинушка почесал в затылке, но тотчас скинул с себя облачение, взял у послушника кружку с деньгами, высыпал в полу рубахи, зажал полу в кулак, шубу да шапку подхватил и двинул в ночь не оглядываясь.
Государь в сердцах тоже расшагался, Никон не отставал, а Ртищеву приходилось петушком семенить.
– Великий государь, – говорил Никон с напором, – весь этот срам и блуд искоренять надобно рукой железной. В Москву надобно собрать таких попов, которые Москвы достойны. Вот в Нижнем, знаю, поп Неронов служит. Брошенную церковь к жизни вернул. К тому тоже народ валит, но не затем, что служба скорая, – слово хотят слышать. Неронов-то Иван словом Божьим как пламенем прожигает.
Алексей Михайлович снял рукавицу, пожал холодную большую руку Никона:
– Спасибо! – И позвал: – Федя, где ты?
– Я здесь, великий государь.
– Запомни: Неронова из Нижнего в Москву надобно позвать. В Успенский собор!
Они стояли на засыпанной снегом улочке.
– Великий государь, во дворец пора, спохватятся! – сказал Ртищев.
И тут из переулка с факелами выскочила ватага халдеев.
– Эгей! Ликуй! Жги! – Они вскрикивали звонкие слова без всякого смысла, веселия одного ради. Увидали людей без огня. Закричали, загалдели пуще прежнего: – Держи! Держи их!
– Государь, к церкви! – закричал Федя, загораживая Алексея Михайловича. Но размалеванная, разухабистая толпа была уже вот она.
– Откупиться надо! – Ртищев рвал на шубе петли, чтоб достать в кафтане деньги.
Опережая толпу, выскочил мальчик с факелом.
– Копеечку! – И шапку лубочную скинул, кудри просыпал на плечи.
– Сгинь! – Никон в черном одеянии своем шагнул толпе навстречу, взметнул кверху руки, словно крылья развернул. В правой руке тяжелый медный крест – с груди сорвал. – Ис-пе-пе-лю!
Халдеи остановились, смех умер.
– Монах!
– Игумен!
– Да это Никон, заступник! – Толпа качнулась, распалась, огоньки прыснули во все стороны.
– Прибирать нужно Русь-матушку, – сказал государь тихо и печально.
– Куда? – не понял Ртищев.
– Прибирать! Как в горнице прибирают. Чтоб чисто было!
Быстро, молча шли по темным улицам к центру. Вдруг государь остановился, Ртищев чуть не налетел на него.
– А мальчишка-то! Ведь я его видел. Точно ведь видел, только где?.. Вот царская доля: мелькнет человек, посветит и канет, как звездочка слетевшая.
У Спасских уже ворот Алексей Михайлович тихонько засмеялся:
– Вспомнил! Я этому мальчику рубль пожаловал, когда к Троице шли.
– До чего же глаза у тебя, государь, остры! – удивился Ртищев, а сам о другом подумал: не робок сердцем царь, такая горячая минутка удалась, а он лица рассматривал.
– Сокольнику без хороших глаз в поле делать нечего! – очень довольный собой и похвалой Ртищева, засмеялся государь и стал прощаться с Никоном…
А у того кровь в висках все еще бухала: «Прости меня, Господи! Прогневил понапрасну. В Успенский собор жаждал с государем явиться. А ты вон что послал – заслонить кесаря от нечестивцев».
Глава седьмая
1
На обоих оконцах, огораживая от света Божьего, висели шубы, а свет все ж трепыхался по избе. Печь белела, как побитое крестом, оробевшее привидение. Серебряная потухшая лампада выступала из черного тумана, ризы на иконах мерещились. Дух в избе: вдохнешь, воздух не течет по груди – колом пробадывает.
Волосатый, как домовой, громадный, лежал мужик на полу, раскинувшись во все стороны. Завозился. Сел. Пошарил вокруг слабыми от многозелья руками. Охая, придвинулся к окошку, потянул шубу. Как ножом резанула голубень.
– Бело-то! Господи, Царица Небесная, де-ень! Который только? Марковна, который сегодня день?
– Святой мученицы Агафии, февраля пятый…
– Э-э-э! – сказал грустно мужик. – Со Сретенья, стало быть, себя не помню. Третий день…
Задрожал. Обнял руками колени, подтянул к груди, пытаясь согреться.
– Господи! Трясуница! Марковна, чего холода напустила? Печь-то, чай, не топлена? Господи! Да ведь Масленица! А блины и не поставлены, чай?
– Как во тьме-то кромешной поставишь? Огня запалить не даешь. Окна шубами закутал.
– Ты на печи, что ли?
– А где ж, как не на печи! Себя и младенца от лютости твоей спасаю.
Весело заверещал Ванюшка, откликаясь на подобревший голос отца: второй годок идет первенцу.
Мужик закрутил головой, жестоко двинул лбом стену в затих.
– Петрович, ты чего? Ай зашибся?
– Стыдно мне, Марковна! – И выдохнул из себя скопившийся смрад. – Дай, Бога ради, квасу и прости.
Сдернул шубу с окна. Подождал, пока брюхатая, пострашневшая жена подаст квасу, выпил, стуча о ковш зубами, и опять лег.
– На постель ступай! – попросила Марковна. – А печь я затоплю, блины поставлю.
– Куда мне, псу, на постель? И на полу больно хорошо.
Марковна нагнулась, накрыла мужа шубой.
– Спасибо, голубушка! И прости меня, прости!.. Сама знаешь, не пил никогда. Отцовское, видно, взыграло. Он, царство ему небесное, ни себя, ни вина не щадил.
Закрыл глаза.
Марковна отошла на цыпочках, захлопотала у печи.
– Марковна! – позвал, не разжимая век. – Зарока, убоясь гнева Божия, не даю. Но было сие и не будет больше. Иван Родионович на грех навел… Ванюшка не упадет с печи?
– Я его загородила.
Встал, подошел к бадейке с квасом, хотел зачерпнуть кружкой, но передумал. Кружку поставил, поднял бадью, прильнул.
– Петрович, не лопни! – всполошилась Марковна.
Петрович, улыбаясь, показал бадью жене:
– До гущи высосал. Новый заправь квасок… Теперь легче. – И хватил кулаком по столу. – Будь он проклят, антихристов сын.
– Господи, кого ж ты этак? – испугалась Марковна.
– Ивана Родионовича, вестимо.
– Не шумел бы ты, Петрович! У начальников руки длинные, а ум короток. Разорит он нас, до смерти прибьет.
– Все равно – негодяй, собака, прыщ вонючий. Таких на привязи надо держать.
– Ну вот, – тихо заплакала Марковна. – Опять ты за свое. Опять гневен и неистов.
Петрович кинулся к жене. Обнял легонечко, живота драгоценного чтоб не потревожить.
– О матушка! Прости! Прости! Бесы загрызли вконец. Пойду в лес, помолюсь. Успокою душу, молитвой натружу.
И тотчас шубу на плечи, малахай на голову, рукавицы под мышку и за дверь.
Не человек – буран.
Петрович вылез из избенки своей и не возрадовался, что вылез.
– Ой, да ты мать твою! Ой, да мать?.. Уу-ух! Мать твою-ю-ю! – давил в себе стон, перемогался на все Лопатищи, знать, терпеливый какой мужик. За тыном, на широком воеводском дворе Ивана Родионовича, перемогался.
Петрович шмякнулся спиной об избенку, пятерней по груди завозил, замотал головой, словно самого пластовали.
Петляя по утонувшим в снегу тропкам, трусил с воеводского двора, с оглядкою, шабер Петровича Сенька Заморыш. Увидал, как попа ломает, остановился:
– Ты чего, батько Аввакум? Ай угорел?
– Терпежа нет слушать… Все забавляется, ворог мой?
– Пластует! – засмеялся Сенька. – Всех пластует! Все Лопатищи, в очередь. Я, слава Господи, свое оторал.
– Чего же весел?
– А я кату посул сделал. Он и надоумил, добрая душа.
Сенька пооглядывался, присел на крыльцо, скинул валенки и стал вытягивать из-под штанин длинные толстенькие дощечки.
– Во! – И залился счастливым смехом. – По ногам лупцуют. Без валенок! А как же? Чтоб чуял. К столбу веревкой и по ногам. А мне ничего. Только все равно ору, аж визжу. Сам Иван Родионович заступился. Ух, рявкнул! «Не обезножь, кат, мужика». Правду сказать, напоследок перепоясал меня, мерзавец, по заднице, за то, видно, что орать перестарался. Ну да задница – не ноги, на пузе посплю.
– Сколько же изверг измываться будет над людишками? – опять покрутил Петрович лохматой головой.
– Недоимков за десять лет. Да хоть до смерти запори, много не выбьешь. С палачом туда-сюда, а с царем расплатиться, хоть сам себя продавай, – кишок не хватит. И оброчные деньги требуют, и четвертные, данные, доимочные, стрелецкие. Покойный царь стрелецкие деньги в семь раз повысил. Виданное ли дело?.. А потом, ты посуди, Петрович, за десять лет народу из посада ушло – да вполовину! Кто в бега, кто в стрельцы, кто на монастырские земли переметнулся. А кто не убег, тот и плати за всех.
Дурным голосом завыла на воеводском дворе баба. Петровича передернуло, сунул пальцы в уши, в лес кинулся. Прямиком, как лось.
По лесу пахал, пока сил не стало. Повалился лицом в голубой пуховик сугроба.
– Господи! – шептал. – Возлюбим друг друга… Возлюбим друг друга… – Поднялся, махнул руками на лес, закричал что мочи: – Возлюбим друг друга! Ой, да возлюбим друг друга!
Плакал как ребенок. На снегу лежал.
Когда опять поднялся, почувствовал – застыл. Синё и в небе, и на земле. Вечер.
– «Свете тихий святыя славы Бессмертнаго Отца, Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит».
Возликовал душой Аввакум, выбрался из снегов по следу своему, домой не заворачивая, пошел в церковь.
Служил вечерню, светом невидимым осиянный. Слезу из прихожан вышибал словом. Слово – звук, но макни его в иордань сердца – без кресала и камня высечет огонь.
В тот вечер жена Ивана Родионовича исповедалась со слезами и стоном.
Оттого, видно, воевода и стукнулся за полночь в домишко поповский.
– Отвори, Петрович! – захрипело за дверьми. – Не пужайся. Один пришел.
Аввакум отодвинул засов.
– В избу не пойду. В сенях поговорим.
Иван Родионович мужик был статный и нестарый и лицом недурен. Нос тонкий, зубы белые, ровные, глаза от висков узки, а к носу в полную луну. И все ж таки – зверь. Бог его знает, на какого нетопыря он походил, а только страшно с таким вблизи жить. Говорил медленно, словно трудно ему было языком ворочать и словно думал очень, прежде чем сказать, а думать ему было нечем. Над переносицей едва взбугрило да тотчас и поросло конским негнущимся волосом. Глаза хоть и горят, да весь огнь – бабу за подол ухватить. Ухватить бабу за подол, за подол бы ухватить… Вот и весь пых. Щеки у него лоснились, губы пунцовели. Перстни на пальцах, белых, длинных, искрами сорили. Такой воевода упрямому попу – крест и крест. Умный бы – трети не углядел, а Петровичу во всех кучах покопать нужно, расшевелить, чтоб все дерьмо поверху плыло, всем на погляд.
Тут еще строгости московские пошли: подавай новому царю налоги сполна, и про недоимки забыть тоже не захотел. Твердая рука Ивану Родионовичу как бы дождь после засухи, тосковал без указующего перста.
Лопатищи – глухомань-матушка. Для худородного дворянина оно, может, и больно хорошо: кормление, службишка… А все ж вроде бы и на выселках. Иван Родионович, конечно, рад расстараться, чтоб углядели сверху. На такой правеж Лопатищи поставил – крику не хватало кричать.
Увещевал поп Аввакум воеводу. Просил, молил, грозил… Да попу-то двадцать пять лет всего, петушок. Довел дело до бури. После вечерни прихватили на пустыре подосланные, кто по уху, кто по животу. Постукали и разбежались. Нет бы и самому до дому кряхтеть – вдогонку кинулся. У ворот воеводских другие ребята переняли. Побили на глазах у воеводы. Тот только похрюкивал.
Гордыней как колесом переехало. Ни спать Аввакум не мог, ни есть, ни службу служить. Право слово – осатанел. Бегал к воеводскому двору с колом и с огнем. Колами и отваживали от дурости.
Повесил тогда Петрович шубы на окна, отгородился от белого света и запил. Первый раз в жизни. Отец его, известный мытарь, так не пивал.
– Прости ты меня, Петрович! – сказал воевода.
– Бог простит!
Возликовал Аввакум. Как же! Одолел ворога, на поклон ворог явился. А Иван Родионович посопел в темноте да и зашушукал:
– У тебя баба моя на исповеди была?
– Была.
– Всякое такое говорила?
– Не мне, Иван Родионович, говорила, – грудью напыжился Аввакум. – Богу говорила.
– Все равно тебе. – Воевода пошелестел губами: перосохли, видать. – Держи, Петрович, ефимок, а мне про то, чего тебе баба говорила, все как есть и доложи.
Тут дверь из сенец на волю фыкнула, из сенец Ивана Родионовича выдуло, а на крыльце кособоконьком ох уж и размахнулся Петрович да со всего плеча по роже. Хруст был и вихрь – подняло воеводу на воздуси и опустило в снежную купель.
Аввакум крест сорвал с груди, вознес над головой да и грянул на все Лопатищи:
– Изыди!
На карачках уполз воевода за свой острозубый тын.
А Петрович помог Марковне с печи слезть, в узелок, что под руку попало, сгреб, да и бежали ночью, дороги тореные обходя.
Притащились в макарьевский Желтоводский монастырь.
2
Ох ты, большая вода! Да какая же ты, большая вода, умница! Без оглядки катит, без мыканья взад-вперед, вдаль все, вдаль – вечный укор, пример недостижимый. Стоят берега, поглядывают вослед. Вот уж воистину человеческой судьбы символ. В одну сторону обратись – грядет, накатывает, в другую – безвозвратно пронеслось, а тебе – только плеск да ветром по глазам.
Вода суть время, время суть жизнь. Да вот и на воду, на большую, есть свой хомуток. Успокоилась подо льдами, утихомирилась.
Глядит Аввакум на Волгу. Сил нет взгляда отвести. Бело на сто верст.
За спиной людишки ворохаются: возы скрипят, лошади фыркают, мужики матерки роняют, монахи на высоком старославянском языке шакают да вшикают – проходит человечья жизнь.
– Ну что, дружок, раздумался больно!
Повернулся Аввакум тучей, да тотчас и просветлел:
– Иван Миронович, отец мой, здравствуй и благослови!
Стоит мужичонко в зипуне. Щеки круглые, рыжие, нос между щек круглый, рыжий, глаза синие – морг, морг, брови косицами на глаза сползают. Усы и бороденка жидкие, где рыжо, где русо, а где уж и сединой взялось.
– Славно, Петрович, что и ты сюда пожаловал. Я-то попрощаться притащился. В Москву царь зовет.
– Сам царь?! – охнул Аввакум.
– Кто бы подумать мог, а вот и до царя дошло: есть, мол, в Нижнем старатель Божий. А я ведь, Петрович, много стараюсь. В великий грех впадал, плакал и жизни и себя решить силился, – Господи, прости, – и били меня. Много били. И все за веру, за правду, за порицание греха. О, Петрович! Чаю, мыслишь, люди хуже волков? Волк, мол, неразумен, человек же на семи хитростях замешен? А ты поверь мне – дитя он, человек, неразумное. Слышал я про твои беды. И не говорю тебе – смирись. Живи, душа моя, как живешь. Дай Бог тебе силы. Правдой живешь. – За руку взял. – Пошли, помолимся вместе.
3
Келья, в которой остановился Иван Миронов, была и подслеповата, и тесна – двоим в ней, прежде чем поворотиться, сообразить нужно, куда ногу поставить, куда руку протянуть. Иван Неронов, так перекрестила Мироныча косноязычная молва, по своей теперешней славе мог бы в покоях игумена гостем быть, но любил он эту келейку. А теперь, когда самой Москве стал желанный человек, келья – лучше и не придумаешь. В каждом русском сидит это – постником прикинуться на пиршестве скоромном. Впрочем, Иван Неронов за собой такого греха не знал – жить напоказ.
В свои пятьдесят пять лет был он совсем старик. Поистратила жизнь христолюбца.
Родом он был с реки Сары. Из местечка Лом Водожской волости. Это верстах в шестидесяти от Вологды.
В Смутное время какая-то шайка – поляки ли, свои ли – сожгла гнездовье, всю родню вырезала. И бежал Иван от пожара и смерти в Вологду. Было ему в те поры пятнадцать лет.
В пять лет человека угадаешь, а в пятнадцать не берись. Да только не про Неронова это сказано. В пятнадцать был Иван тот же, что в тридцать. Богу молился, меры не зная. Упрям и упорен, как мельничный жернов: зерно насыплют – зерно перемелет, насыплют камней – камни будет молоть. Жернову – лишь бы вода колесо крутила; Неронову – лишь бы веровать, лишь бы кровь не захолодала.
В Вологде, в тот приход свой, когда жизнь спасал, искать кинулся архиерейский дом. Не о том думал, где пропитание найти, а о том, как ему жить, познавшему от людей, от христиан, такое немыслимое зло. Отца с матерью тати убили ради куража только.
Показали Неронову, в какую сторону идти, и по дороге набрел он на гульбище. Ему говорят: «Это и есть архиерейский дом. Слуги гуляют». А Иван головой – как мерин от мух: «Быть этого не может! Архиерейский дом – пристанище стаду аристову, в нем от грехов удаляются всячески, а в этом беса тешат. Не верю! Не архиерейский это дом!» На всю улицу возопил, кулаками только и вразумили.
Нашел он пристанище под Великим Устюгом. Взял его в учение дьячок Тит. Бил его дьячок нещадно, выбивал тупость: полтора года одолевал Неронов букварь, одолел-таки. Однако, научившись плавать в книжном море, поплыл с великой охотой. Научился у дьячка читать вечерню, повечерие, Псалтырь.
В поисках места забрел в Юрьевец-Повольский. Взяли псаломщиком. Благочестием, строгостью до того пронял попа, что тот отдал за него дочь замуж.
Жить бы да жить!
Только где же это видано, чтобы русский правдолюб о правду шишки себе на лоб не присадил?
Героев издали любят.
Об усердии Неронова-молитвенника слава по всей Волге шла, а жители местечка, где подвижник сей обретался, настрочили донос патриарху Филарету. Простого человека тоже надо понять. Ну, любишь правду – и люби. Да хоть в постель ее с собой положи, если жены мало. А то степенных людей при всем честном народе поносить взялся. Как это, мол, православный человек жену свою за куш, не моргнув глазом, заложил? Да ладно бы заложил, но ведь и не выкупил! А теперь ее, православную, в воровство блудное продали. Оно хоть все – чистая правда, но нехорошо, когда вслух такое при многих людях говорят. А Неронов чешет!
Или набьются людишки в церковь зимой. Холодно. Ну, шапок и не снимают. Или забудутся. А Неронов налетит, руки распустит. По шапкам без разбору бьет. А шапка шапке рознь.
Или купец, молодой, богатый, все ему должны, а Неронов и на него лает: «Как же ты, сукин сын, посмел на родной сестре жениться? Божьего страха не знаешь? Ужо тебе вспомянется!»
Вот и написали о праведнике такое, хоть сей же час на плаху. Стража приехала с ружьями, да успел в монастыре укрыться. Архимандрит заслонил. Дал письмо к патриарху. Прибежал Неронов в Москву. Патриарх Филарет к руке его допустил, выслушал, одобрил. Недели после того не прошло, посвятили в дьяконы, а через год в попы. Приход получил на Нижегородчине, в селе Лыскове. Служил Неронов там с Илларионом, сыном попа Анания.
У Анания приход был в Кирикове. Село это против Лыскова неприметное, однако ж окрестные попы за мудростью к Ананию шли своей охотой. Неронов неделями у него жил. Народ Анания любил, а воеводы делали вид, что любят. Уж какие соколы на воеводстве сидели! Им с разбойниками взапуски бы – пограбить, а в Кирикове рук не распускали, и не потому, что поп ученый. Дело было в том, что сын Анания женился на Ксении, сестре Павла, епископа Коломенского, а Коломенское – любимая царская вотчина, место царева отдохновения и душеспасительных бесед.
Поучившись у попа Анания книжной мудрости и правилу, понес Неронов слово Божие в народ. А народ в Лыскове, что ли? Народ – в Нижнем Новгороде. Туда и приволокся поп Иван.
Сначала по книге Златоуста «Маргарит» возвещал на базарах путь спасения, потом церковку брошенную облюбовал, стал служить в ней. Сам был и за звонаря, и за дьячка, и за священника. Народ пошел к нему.
На тайный взнос церковь подновили, построили келий для Божьих невест.
У Неронова на дню нищих кормилось человек по ста. Ученость, как сад, разводил. Учил детей и взрослых, награды не требуя.
Со скоморохами войну затеял. На Святки с богобоязненной дружиной ходил отнимать рожки, дудки, бесовские колпаки.
О спасении воеводских душ пекся. Правду искал. Били его и в тюрьму сажали, а теперь в награду за побои, многотерпение и непреклонность ждало его место ключаря в московском Успенском соборе. Чин невелик, но Успенский собор – первый на Руси.
Беседовать с Нероновым молодому попу Аввакуму было лестно. Сидел, глаза в пол, стеснялся на святого отца в упор глядеть.
– Не знаю, кто про меня государю рассказал, – делился радостью Неронов. – Воеводам выгоды нет. Я от них натерпелся, да и они от меня тоже. Разве что Никон, игумен кожеозерский.
– Тот, что из Вальдеманова? – встрепенулся Аввакум. – Вальдеманово от моего села, от Григорова, верстах в пятнадцати всего.
– Вальдемановский… От верных людей слышал – в Москве он теперь. Через него простой народ жалобы царю подает. Я Никона хорошо знаю. Суровый человек, к себе без жалости, а для других на доброе дело охоч. Одним словом сказать – мордва. Эти если веруют, так, хоть убей, не отступятся. Если, конечно, от своих идолов откачнулись.
Тут Неронов разулыбался, положил руки Аввакуму на плечи, притянул к себе, облобызал:
– Брат мой, прости! О себе говорю, занятый своею радостью, а ты душой страждешь.
Аввакум голову еще ниже опустил.
– Не по силе моей замах. Один против всей неправды выпятился. Это ведь тоже гордыня.
– Вижу, сильно тебя напугал воевода. Не за себя, думаю, напугался: дите малое, жена на сносях…
– Нет, батько Неронов! Я побоев не боюсь! Я все готов перетерпеть ради Христа. А вот когда стадо, к которому я приставлен пастырем, в долгах и слезах и когда постоять за него всей моей силы – зареветь в три ручья, такого, батька, стерпеть никак нельзя.
– Аввакумушка, меня воевода голодом хотел живота лишить, а я вон жив. А другой воевода по пяткам меня велел бить. И били. Кинули в яму, на шею, как на пса, цепь накинули. Сорок дней сидел. Дождь на меня падал, пыль садилась, листья засыпали, с дерев ветром отрясенные, – а я пел. Все сорок дней пел во славу Христа. И в ледовитые Корелы меня отсылали, в монастырскую тюрьму. Сам Филарет сподобил на сей подвиг. Оно хоть в царях Михаил был, а все деяния умыслом Филарета совершались. Услыхал я, что затеялись воевать с поляками, и бегом из Нижнего в Москву. В самом деле бежал. К царю припыхал, а он – ни то ни се, от царя к патриарху поволокся. Увещевал не лить христианской крови. Послушал меня Филарет – и с глаз долой, в Корелы… Думаешь, я не знал, на что иду? Знал. А не пошел – совесть загрызла бы. Чего с других спрашивать, коли с себя спросить не сумел. Тяжело за правду стоять. Нет слов, как тяжело. Но ведь и награда велика. Ты, Аввакумушка, раздумайся да и реши, как тебе жить. Правдой жить – век тужить. Меня в Москву зовут. Думаешь, на сдобное житье? Нет, брат мой! На му́ку. Я-то уж знаю. Да чему быть – того не миновать. Я про свою жизнь все знаю. Господи, прости меня! А ты раздумайся, чтоб в горький час от себя же самого не отречься.
– Отец, будущего не ведаю. За тот полог сокровенный не то что глазами, умом страшусь проникнуть. Всё в руках Господа. Но про себя мне решать нечего. Решено.
– А семейство?
– Горько мне на родных людей своим неспокойствием бурю наводить, но Марковна терпит.
– Дай нам, Господи, всем терпения.
Неронов опустился на колени и указал Аввакуму место возле себя.
А помолиться как следует не довелось. Приехали к Неронову гости: из Лыскова поп Илларион да его отец поп Ананий.
Ананий усыхал. Остался от него тонконогий, с веточками-руками старичок, голубой лицом, волосенками бесцветный, подлунное улыбчивое существо.
– А! – припал он к Неронову, улыбаясь, но как бы про себя, как слепцы улыбаются. – Рад, что дал Бог обнять тебя. Благослови, отче.
– Смилуйся, отец Ананий! – заплакал сокрушенный добродетелью старца Неронов. – Ты всем нам отче. От тебя принять благословение – все равно что воды испить истомившемуся в пустыне.
– Не упорствуй! Я знаю, у кого прошу благословения, – улыбался все той же лунной улыбкой Ананий.
Стоять ему было тяжело. Острые коленки упирались в лавку, сзади напирал животом плохо поместившийся в келье Илларион. Был Илларион лицом бел и породист. Волосы каштановые, кудреватые, губы как бы прорисованные, пущенный в рост живот нисколько не портил молодца – огромного, властного.
Неронов благословил старика Анания, все свободно вздохнули и сели на кровать, рядком.
– Вот и мы! – сказал Илларион. – Надолго ли в наши края?
– Теперь можно хоть поутру ехать. Коли благословит меня отец Ананий в дорогу, завтра и поеду.
Отец Ананий искоса откровенно разглядывал Аввакума.
– А это кто?
– Аввакум я, – потея от неловкости, осипнув, назвал себя Аввакум. – Из Лопатищ. А родом из Григорова.
– Знал твоего отца, – покачал сокрушенно головой Ананий: то ли Аввакума пожалел, то ли и теперь еще удивлялся какому-то воспоминанию.
– Наслышан о тебе, – сказал Илларион Аввакуму. – Молодой еще совсем.
– Хороший он человек, хороший, – закончил этот разговор Неронов. – Ну, отцы, на что вы меня в Москве благословляете?
– А будь таким, как был. – Ананий улыбнулся. – Мудреная Москва простоту любит.
– Жалеет, – поправил отца умный Илларион.
– Любит, – не согласился Ананий.
– Пускай любит! Не о том речь! – От волнения Илларион встал, но тотчас сел – у Неронова в келье не разбежишься. – Вы подумайте только, отцы мои! Никон – у царя ближний советчик. И тебя, батько, в Москву позвали. Подпереть Никона. А как же? Кому, как не землякам, подпереть… Если все подопрем да подтолкнем, эко как взлетят нижегородцы. Ныне нижегородцам друг за друга крепко нужно стоять.
Неронов развел руками:
– Илларион, ну что ты, право! Меня зовут в ключари, а Никон покуда еще не митрополит – игумен, каких много. Да и велика ли будет прибыль Церкви, если нижегородцы митры наденут? В какой такой святости наш брат нижегородец преуспел?
– Батько, но ведь мы и не хуже других.
– Лучше были бы, а то – «не хуже»…
– Но ведь тебя, батько, зовут в Москву. Отчего, скажи?
– Может, оттого, что людей вокруг меня много. Многие ко мне идут. А знаешь, почему идут? Потому что верю.
Илларион покраснел, дорожки пота катились по толстым его щекам.
– Но я-то о чем говорю? Я о том и говорю, что, если праведники, подобные тебе, отец наш, придут со всех концов земли в стольный град, быть Москве Третьим Римом. Быть русскому народу избранным народом Божьим, как были жиды, потерявшие благодать.
– Илларион! – вскричал тоненько Ананий. – Что говоришь?
– А то и говорю. Вымолим у Бога благодать. Всенародно.
Илларион опять вскочил, отдавливая ноги Аввакуму, протиснулся под иконы, опустился на колени и, обернувшись, сделал жест рукой, призывая быть с ним заодно:
– Помолимся.
Аввакум стал гадать, как ему пристроиться, но на плечо ему легла рука Неронова:
– Пошли, Аввакумушка, на волю. Душно в келье. А ты, Ананий, когда Илларион помолится за нас, грешных, отдохни… Игумен обедать приглашает.
4
Зимний день отблистал. С поголубевших сумеречных снеговых полей летел, драл лицо жгучий огонь холода.
– Засиделись, – сказал Неронов, раздвигая плечи, чтобы набрать грудью свежего воздуха. – Пошли, Аввакумушка, к твоим, благословлю Марковну. Знаю, каково ей.
– Я в крестьянской избе, на постое, – покраснел Аввакум. – Тесно.
– Что же ты бедности, неразумный, стыдишься? – укорил Неронов. – Сын Божий в яслях родился. Помнить про то надо и радоваться, коли Господь послал тебе испытание.
Шли вдоль монастырской деревеньки.
– На краю избенка-то, – опять повинился Аввакум. – Я тебя, отец, провожу обратно. Марковна больно будет рада тебе.
– Погляди, как звезды радостно загораются. Воистину Онисима-овчарника день. – Неронов остановился, оглядывая налившийся густой синевою небесный купол.
С того конца села, куда шли, вдруг звонко окликнули:
– Эгей!
И тотчас окликнули с другого конца:
– Эге-ге-ей!
– Ой ли! Ой ли! – позвала певуче женщина совсем недалеко где-то.
– Ишь ты! – заулыбался Неронов. – Звезды окликают. В честь Онисима. Дай, Господи, хорошего приплода овечкам.
Кривенькой тропой пробрались к избе. Словно по бревну шли, размахнув руки, чтоб в снег не оступиться.
Изба на чистом снегу чернела, как подсохшая, отболевшая язва. Шагов за десяток ударило в нос скисшим дымом, детскими поносами, сгнившей в грязи овчиной, собачьей шерстью…
– Петрович, ты? – От стены отделился человек.
– Марковна, чего это на морозе?
– Душно! Мутит меня. Ой, да ты не один!
Неронов отстранил Аввакума, подошел к Марковне:
– Прими благословение мое, женщина!
– Это Неронов, Марковна! – сказал из-за спины Неронова Аввакум.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?