Текст книги "Ворожей (сборник)"
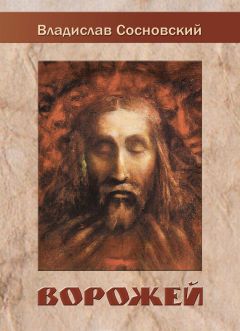
Автор книги: Владислав Сосновский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Верно, – улыбнулся Хирург, обнаружив у Боцмана удивительные познания.
– Ты, Михайло, может быть, даже не подозреваешь, – продолжал научное сообщение моряк, – что на восемьдесят процентов состоишь, как все остальные студенты и прочее человечество, исключительно из морской воды. Но в отличие от настоящих моряков, другие этот неопровержимый факт почему-то забывают, а то и вовсе не знают до конца своих печальных дней. Понятно тебе такое положение? – спросил Боцман словами недавней старушки.
– Чего ж тут непонятного, – согласился Михайло. – Это как раз очень даже вразумительно.
– Ну вот, – продолжил повествование Боцман. – Попросился я служить на флот, а потом так там и остался. До того зловредного дня, когда я замполиту вот этим кулаком чуть голову не отбил. А дальше уж всё наперекосяк пошло. Ну и черт с ним. Как будет – так и будет. На всё воля известно чья. Так что, я – моряк! – гордо заявил Боцман. – Слушай сюда, бродяга.
Боцман остановился, приобрел вдохновенный вид и, набрав воздуху в свою морскую грудь, стал читать стихи:
– Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.
– Ах, Магадан! Магадан! – пожалел город моряков Боцман:
– Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из пристани вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.
Я прежний сын морских факторий
Хочу, чтоб вечно шторм звучал,
Чтоб для отважных был он – море,
Чтоб для уставших – свой причал.
– Ну Боцман, – сказал Мишка. – Я в шоке. Не ожидал.
– Та, то не я, – опустил голову Боцман. – То Коля Рубцов за меня постарался. Тоже моряк был. Своего рода.
Вышли на лесную дорогу. Шагать стало действительно легче.
– Да, поросеночка жареного сейчас бы не помешало, – согласно с Боцманом помечтал Борис. – С перчиком, хреном. Да, Петро?
– Ложись! – вдруг рявкнул Боцман и плюхнулся в незамерзшую жижу дороги.
Вся команда, ещё не понимая, в чём дело, стадно попадала кто где.
– Не шевелиться и молчать, – прохрипел Боцман лежавшим товарищам.
– Чего там, Петя? – тихо спросил упавший рядом с Боцманом Хирург. – Метель – ничего не вижу.
– Шатун, Дима. Вон вдали темное пятно движется. Хорошо, ветер в нашу сторону. Иначе он бы нас всех в куски порвал. Что мы имеем: топор ржавый, пару ножей. Это для него – семечки. Так что будем лежать, покуда не исчезнет. Другого выхода нету, Дима. Поколдуй, прогони его, а то он так и будет шастать вокруг, пока, не дай бог, нас не обнаружит.
– Попробую, – сказал Хирург. – Вот только я руку себе здорово рассадил, когда упал. Кровь так и хлещет. Камень какой-то попался острый. Смотри, вроде небольшой, а тяжелый, как железо.
– Камень, Митя, потом поглядим. Сейчас гони медведя от беды к такой-то матери. Иначе мне придется самому с ним в бой вступать. Тут уж неизвестно, что из этого выйдет. Кто кого в этой битве сломает. Медведь, тем более шатун – не заяц и даже не волк. Сам знаешь.
Хирург облизал кровь с ладони и, держа в руке зловредный камень, сначала сотворил обычную молитву, а затем мысленно, властно приказал зверю сгинуть в гущу тайги, чтобы добыть там своё пропитание, раз уж у него такая нездоровая для медведя в эту пору бессонница.
Затем целитель набрал из воздуха защитного эфира и выстроил из него для всей команды прочную стенку, чтобы зверь уж никак сквозь неё не мог пробраться.
Медведь постоял некоторое время, поводил в разные стороны мордой, нюхая воздух и как бы внимая голосу Хирурга, а затем повернулся и побрел в чащу, как того и требовал народный лекарь.
Через десять минут праздничный отряд, мокрый и злой, вылез из-за кочек, кляня пургу, болота, медведя и гнусную жизнь.
Хирург хотел было выбросить тяжеленький камешек, который как раз умещался в кулаке, но Боцман потребовал освидетельствования.
– А ну, Дима, покажи эту железяку, – попросил он. – Средний камень тяжелым быть не должон. Дай-ка я его проанализирую. На чего ты там напоролся? Давай я тебе рану слегка водкой спрысну, а то, хоть ты и лекарь всенародный, но дезинфекция, сам знаешь – дело до первой степени важное. Вон, гляди, вся клешня в крови. Открой руку, покажи булыжник. Что ты его зажал, как щегла. Эта каменюка тебе, можно сказать, руку обратно изувечила, а ты вцепился в неё, будто мёртвый.
У Хирурга в тот момент в голове стояла какая-то туманная пелена, подобная внешней метели, и он не соображал, что с ним происходит, отчего он намертво зажал в окровавленном кулаке проклятый камень, где, в какой точке земли в данный момент находится он сам, и какие слова исходят от Боцмана. Возможно, Хирург употребил слишком много энергии для изгнания бессонного, праздношатающегося медведя, может, ему в голову вошла некая «пробка» и закупорила все имеющиеся мысли, а может, старость, рожденная унылыми прожитыми годами, тронула его костлявой рукой и на мгновение отодвинула в сторону общее сознание.
– Ты чего, Дима? – испугался Боцман.
Уже все товарищи обступили очумелого Хирурга, а он всё стоял на болотной кочке, как памятник, с возможной пробкой в мозгу и зажатым в руке булыжником, который был тяжелее обычного камня.
Тогда Боцман произвел единственно верное, на его взгляд, но по-своему лечебное действие. Он просто размахнулся и вкатил Хирургу жесткую оплеуху исключительно в терапевтических целях, чтобы привести дорогого друга в реальное состояние.
Хирург упал задницей в лужу. «Пробка» при этом из мозгов выскочила. Он помотал головой и горько засмеялся.
– Представляешь, Петя, – взглянул он на Боцмана. – Мне показалось, что вся эта просека увита колючей проволокой, а там впереди – кирпичная стенка. И вот я стою и размышляю, как же мы проникнем сквозь кирпичи к Богданову дому. Да ещё медведь этот клятый у стены бродит. А из кирпичей – глаза. Одни глаза из кирпичей глядят. Затмение какое-то, Петя, ей-богу.
– Да, – посочувствовал Борис. – Пора тебе, Хирург, на воды ехать. В Сочи, скажем, или Цхалтубу какую-нибудь. Намаялся ты здесь, бедолага. Пора, дядя, отдохнуть тебе. Не то крыша съедет – на место не поставишь.
Хирург наконец разжал пальцы и отдал камень Боцману. Тот мельком оглядел его и быстро сунул камень Хирургу в карман шинели. И тут же распорядился:
– Боря, иди не спеша впереди. Остальные – за ним. Я пока перевяжу Хирургу клешню. Вот ведь как расковырял руку из-за шатуна поганого. Так что потихоньку двигайтесь и ухом чутко прислушивайтесь, как бы этот людоед опять не объявился. Тогда нам придётся военные действия открывать. Сруби, Боря, где-нибудь рогатину хорошую да пару кольев затеши. Инструменту против медведя у нас не имеется никакого. Понимаешь команду? Вот и действуй. А я Хирурга починю и присоединюсь немедля.
– Ладно тебе бубнить одно и то же, – остановил Боцмана Борис. – И так всё ясно. Не первый день в тайге. Пошли, ребята.
Трое осторожно двинулись по дороге вперёд, оглядываясь по сторонам и наводя ухо на каждый шорох.
Боцман не пожалел водки, промыл другу рану. Затем снял бушлат, свитер, исподнюю рубаху и, оторвав от неё нижнюю часть шириною со средний бинт, перевязал Хирургу руку.
– Вот теперь на палубе порядок, – удовлетворился Боцман.
Во всё время этих медицинских операций Хирург упирался и отбрыкивался. Мол, прекрати, Петя, заниматься ерундой, на что Боцман многократно и однозначно отвечал: «Цыц!».
Когда же лечение было закончено, Боцман по-отечески потуже замотал шарф на шее Хирурга, поплотнее нахлобучил ему на затылок роскошную его лисью шапку и лишь затем, умиротворившись «полным порядком на палубе», спросил:
– Ты, Дима, знаешь, что у тебя в кармане лежит?
– Что? – с неожиданной тревогой в сердце поинтересовался Хирург.
– Вот ты, Дима – классный, чудодейственный врач, но извини меня, дурак. У тебя в шинели, Дима, самородок золотой, каких, прости, в музеях – раз-два и обчелся. Поверь мне, я в этом толк знаю. Не один десяток лет на Колыме торчу. По приезду в Магадан сбросим камень ювелирам, и полетишь ты в свой Питер как капитан – в белом кителе. Сыну своему не то, что «Волгу» – пароход на эти деньги купишь, Жене… ну, я не знаю – платье бархатное. Вишневое. И возьмешь ты её под белый локоть, пойдешь с ней в театр какой-нибудь. Или в ресторан хороший. Закажешь «Шампанское», как человек. Вспомнишь меня, Хирург. Жизнь нашу собачью. Выпьешь «Шампанское», Дима, и обязательно хлопни тот бокал об пол. На счастье. Чтоб уже ничего в твоей жизни не было наперекосяк. Чтоб хотя бы в старости ты пожил без вывертов. Без ментов и скитаний. Одним словом, Господь наградил тебя, Дима, за твои напрасные страдания. За все мытарства. А главное, за то, что ты никому, ни одному человеку, сколь я помню, не отказал в помощи. И делал все в основном бескорыстно. Ну, что совали тебе невзначай, так это так водится. Да и то сказать, ты злился всегда при этом до прыщей. Вот тут, Дима, и собака закопана. Такое у меня внутри существует размышление.
Боцман ощутил, что ему весьма понравилась его собственная речь, продиктованная, конечно, исключительным обстоятельством падения Хирурга на золотой самородок. О себе он в этот момент не думал вообще. Боцман вдруг налился необыкновенным внутренним счастьем и, напрочь позабыв о медвежьей опасности, заорал на всю тайгу любимую песню про то, как «раскинулось море широко, и волны бушуют вдали…»
Шедшие впереди осторожные попутчики, похожие на минеров, с рогатиной и копьями, в изумлении обернулись, решив, что заплечный Боцманский мешок со спиртным стал на одну бутылку легче. Однако никто из них не подозревал, в чем истинная причина боцманского веселья на самом деле.
Хирург после сообщения Боцмана брел позади всех в явном смятении чувств.
С одной стороны, картина, изображенная другом-Петром, была по душе. Действительно, мысль о встрече с сыном и женой в нормальном человеческом виде, в хорошем костюме, при немалых материальных возможностях грела его, щемила сладкой тоской.
С другой же, Хирург презирал себя за эти, как ему казалось, преступные помыслы. Всю жизнь он не то, чтобы ненавидел или не любил деньги, но относился к ним с пренебрежением, считая их весьма вредным материалом, препятствующим развитию Духа. А Дух-целитель в какие-то моменты отождествлял с Душой и ставил Его выше всего на свете, выше жизни тела и даже Судьбы. Он жалел людей, подверженных заразной болезни обогащения любыми путями. Не презирал, а именно жалел, потому что презирать – означало бы судить. Судить же Хирург не имел для себя никакого права. Он православно полагал, что в мире есть только один Судия, и этот закон был для него непреложным.
И вот Хирург переступал с кочки на кочку, трогал в кармане холодный самородок и ощущал внутри себя тугие разнородные волны. В какой-то момент целитель уже готов был выбросить проклятое золото прочь, чтобы не мучиться, не болеть сердцем, не думать, что будет дальше, а чего не будет. В конце концов, ведь мог же он, падая, упереться рукой пятью сантиметрами дальше. Или ближе. И все! И не было бы раздумий, разговоров, бесед с совестью, лишних потуг и каверзных порывов. А может, размышлял Хирург, это еще одно страшное испытание?
«Господи! – взмолился лагерный лекарь. – Чем я так провинился перед Тобой? За чьи грехи я плачу? Ну не вижу я за собой ничего такого, что могло бы опорочить меня в Твоих глазах. Разве не помогал я страждущим или, может, оскорблял, предавал кого-либо? Зачем Ты сунул мне в руку кусок этого дерьма, который и выбросить невозможно, потому что в нем – свобода, и держать при себе гнусно, так как он пахнет ядом и смертью? Зачем?»
А впереди, разбивая метель, широко шагал Боцман и весело, с хрипотцой, орал:
– Товарищ, мы едем далеко, подальше от родной земли…
И странно, от этого хмельного, хриплого пения Боцмана ледяные колючки, проросшие в душе Хирурга, таяли, вяли, превращаясь в некие цветы, обволакивающие теплом и покоем. Злость на все неслучайные совпадения стихала, и Хирург уже трогал минеральное золото в кармане без лишнего напряжения, оставив судьбу этого вредоносного куска до своего определенного часа. Хирургу даже показалось, что камень обладает собственным сердцем, и сердце это начинало все больше теплеть.
Хирург на ходу достал самородок и вгляделся в его очертания. С одного бока природа изваяла минерал в виде кроткой овцы, и лекарь улыбнулся – надо же, золотое руно. Противоположная сторона была вылитой львицей.
Такое неожиданное сочетание снова повергло Хирурга в некие мистические размышления:
«Умно ли было со стороны всевозможных стихий поселить рядом в одном золотом ломте столь разнородных по происхождению животных? По какой причине произошла такая совместимость? Не то львица взялась охранять беззащитную овцу, не то кудрявый овен какой-то чудодейственной овечьей мудростью сразил свирепую львицу до степени добровольной покорности. Таким образом слились они вместе нос к носу в одном камне и так застыли на вечные времена».
Выходило, что золотой слиток изображал тот самый сказочный рай всеобщего, увы, несбыточного теперь единства, какой изначально прочитывался в Великой Книге. Выходило так же, что затея с походом к товарищу, в прошлом, бандеровцу-Богдану, была отнюдь не случайной. Хирург вообще не признавал случайностей. Он полагал, что всё в мире имеет свои закономерности, свои причины, и потому ничего случайного быть просто не может.
Вот катились они в автобусе и повстречали пьющую, героическую в прошлом партизанку, проживающую под опекой участкового Цемашко. И вдруг эта боевая старушка превратилась в юное, прекрасное существо из прошлого, которое совсем недавно Хирург созерцал, находясь в космическом путешествии. Случайно? Конечно, нет. Целитель понимал, что в этой неслучайности сокрыт определенный, глубинный смысл.
Или, к примеру, просочилась в автобус очаровательная Люси, пешая бахаичка из Канады. И вот неожиданно привнесённые ею идеи единства всего живущего отлились и застыли неким символом в золотом самородке.
Явь, сотканная из метели, стрельчатого леса и заснеженной дороги, обернулась бродячим медведем, повергших всех на землю, да так, что Хирург упал покореженной своей рукой на этот самый золотой, острый камень.
«Всё происшедшее, – размышлял целитель, – конечно, было не случайно. Всё это было рассчитано, выверено до одного сантиметра, до широко мелькнувшего видения моря ли, сопки, до внезапно скользнувшей новой мысли, до взлёта чайки или лесного чуждого крика».
Что делать с самородком он не знал, несмотря на все радужные перспективы Боцмана. Однако камень странным образом сделался для него чем-то вроде любимой собаки, которая, тем не менее, тихо грызла его совесть, как старую кость, и в то же время нежно лизала душу и воображение.
Боцман, покончив с песенной повестью о печальной доле морского кочегара, вышел затем на широкий берег Байкала, где разгуливал буйный ветер «Баргузин». Дальше, опять же в хриплой песенной форме, старый моряк доложил, что «тот, кто рождён был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке морской города…». Какой должна была прогреметь следующая морелюбивая ария, слушатели узнать не успели, потому что Борис, шедший впереди всех, вдруг остановился и громко, видимо, от внезапного испуга выкрикнул: «Медведь!»
Тот вышел с левой стороны просеки, примерно оттуда, куда и зашел, и прорисовался среди поредевшей теперь метели отчетливо и недалеко.
Накликал-таки Боцман зверя своими разудалыми песнями.
Медведь шел угрюмо и спокойно, словно зная, что сила на его стороне. Уверенность лесного хозяина была очевидна: он был мускулист, собран и набирал шаг в направлении растерявшихся людей.
Все одновременно почувствовали оцепенение и тяжесть в ногах. Хирург ощутил дрожь в коленях, но совладать с собой не мог, так как хорошо знал, что представляет собой дикий шатун.
Медведь двигался к вольной бригаде со своими дремучими, недвусмысленными планами, невзирая ни на погодные условия, ни на праздник сенокоса, ни на что-либо другое. Шатун, испытывая страшный голод, желал мяса и крови. Однако никто из сенокосчиков не хотел делиться ни тем, ни другим. Первое оцепенение прошло, и Боцман четко скомандовал:
– Все к лесу! Быстро! На просеке нам с ним не справиться. Боря давай рогатину. Гегелю и Хирургу – колья.
И уже на бегу моряк сообщал дальнейший план боевых действий.
– Когда он поднимется на задние лапы, я возьму его на рогатину. Хирург с Гегелем воткнут с двух сторон колья и тогда, Боря, ты самый резкий, ты нырнешь под него и вспорешь ему ножом брюхо снизу доверху. Ты, Михайло, зайдешь сзади и, что будет силы, разнесешь топором череп. Вот и весь план. Иначе он всех нас порвет в куски.
Выскочили на опушку леса, и Боцман, тяжело дыша, сказал:
– Все. Баста. Биться будем здесь. – Он накрепко перехватил рогатину громадными своими ручищами и стал ждать зверя.
Медведь приближался легкой рысью.
– Я не смогу, – бледнея, объявил Борис.
– Что не сможешь? – холодея, спросил запыхавшийся Хирург.
– Нырнуть под медведя не смогу. Боюсь, ребята. Не хочу врать. Боюсь и всё.
– Мурло ты, – прохрипел Боцман. – Боксер недобитый.
– Я нырну, – сказал твердо Мишка. – Пусть Борька сзади с топором.
– Сзади-то не убоишься? – ехидно уколол Гегель.
– Ты-то уж молчи, херувим несчастный, – огрызнулся Борис. – Ладно, ребята. Я нырну. Это – так… минутная слабость. Всё будет по плану Боцмана. Он верно рассчитал.
– Ну смотри, – крикнул Боцман. – Сдрейфишь, тебя же первого закопаем.
Вся боевая рать с надлежащим оружием спряталась за спиной Боцмана, а вернее – за сосной, у которой, как Дмитрий Донской, намертво встал бесстрашный моряк.
Наблюдая за тем, что живая пища теперь никуда не разбегается, лесной великан замедлил ход, только глаза его стали как бы мельче и злее.
Мужской отряд напрягся в ожидании смертоносного сражения, которое для каждого могло закончиться трагически. Всем известно, что медведь – свирепый, сильный и ловкий хищник, и справиться с ним очень даже не просто. По отдельности бойцы имели натруженные за лето от кос, пил, молотков и топоров деревянные ладони и железные пальцы, способные гнуть гвозди, но сейчас всякий испытывал некую грустную жалость по всей, может быть, напрасной или непрожитой жизни, словно смотрелся в разбитое зеркало. Отступать было нельзя, медведь покачивался на тяжелых лапах уже в десяти шагах.
– К бою! – как-то по-пиратски скомандовал Боцман, будто собирался брать приближавшееся судно на абордаж.
Пройдя пару шагов, шатун встал на задние лапы, поднял передние и, как огромный мохнатый человек, со свирепым хрипом пошел на Боцмана.
Тот отважно принял его на рогатину, уперев двухконечную вилку прямо в шею зверю. Медведь взревел и передними лапами попытался сломать боевое оружие Боцмана. Рогатина затрещала, но так как была изготовлена из свежего дерева, не переломилась, хотя Боцману потребовалось немало усилий, чтобы удержать царя Колымской тайги в том же положении.
Эта первая боевая атака добавила медведю ярости, а моряку – злости и отваги. В тот момент он даже забыл обо всех остальных и готов был сражаться с ревущем зверем один на один. Бороться с ним и задушить собственными мощными руками, которыми когда-то в порту переносил пятипудовые мешки, словно кульки с конфетами.
– Ах ты, зелень подкильная! Медуза ржавая, – объяснял Боцман зверюге его истинный облик и шел на него, тесня ближе к дереву, за которым уже затаился с топором и ждал своей боевой секунды Мишка.
Оценив некоторое превосходство ситуации, словно два брата, выскочили из-за спины Боцмана Гегель с Хирургом и, соответственно плану командующего сражением, кольнули разом с обеих сторон медведя острыми пиками. Вот это, как потом понял Боцман, было его тактической ошибкой. Особого вреда, а тем более ранения, ни Гегель, ни Хирург медведю не причинили, лишь раздразнили зверя до бешенства. Он рванулся в сторону кроткого и неуклюжего евангелиста, достал того лапой, глубоко разодрал щеку и оторвал пол-уха.
Боцману стоило невероятных усилий, чтобы удержать медведя и снова поднять его на задние лапы. Зверь почуял кровь, слюна пеной вздулась у него вокруг рта. От него несло потом и псиной. Медведь попытался еще раз сломать рогатину, и та хрустнула сильнее, чем в первый раз. Но в этот момент Борис, словно кошка, нырнул под древко рогатины, под лапы шатуна, в доли секунды вспорол ему брюхо снизу до ребер и в следующую секунду кубарем вылетел прочь. Медведь взревел так неистово и дико, что даже у пострадавшего Гегеля содрогнулась какая-то внутренняя жила, напрямую соединенная с сердцем и душой. Гегель прижимал рукой окровавленное ухо и с ужасом взирал, как шатун обеими лапами схватился за живот, пытаясь соединить две рассеченные части. В этот роковой момент, затаенный в засаде, Мишка нанес смертельно раненому животному сильный удар топором сзади по голове.
Шатун медленно, будто в полусне, стал поворачиваться к Михаилу и вяло поднял лапу для мщения. Но Михаил, несмотря на гуманное образование, вторым ударом совершил медведю безжалостную, сокрушительную пробоину прямо в виске.
Животное издало жалобный крик, очень похожий на детский, и замертво рухнуло на землю, оголив пожелтевшие от возраста зубы. Стеклянные глаза его быстро заносило снегом.
Гегель отошел в сторонку, присел на кочку и зарыдал навзрыд горячими слезами, катившимися по окровавленным щекам на шею, которая содрогалась от внутренних всхлипов. Он плакал не от боли разорванного уха, а страдал оттого, что в первый раз пришлось участвовать в самом откровенном, жестоком, немилосердном и беспощадном убийстве. И это ему, Гегелю, то есть, Василию Андреевичу Панкову, который с детства обожал всякую козявку, бабочку и птицу и ненавидел отца, когда тот, случалось, рубил курам головы.
Слава богу, отец вовремя понял ребёнка и стал поручать убиение домашней скотины шурину, проживавшему на другом конце деревни, так, чтобы сын ничего об этом не знал.
Сам отец был человеком набожным, регулярно посещал церковь, шествуя туда вместе с женой и маленьким Васей, за пять километров, в любую погоду Василий хорошо помнил, как однажды зимой, в далеком детстве, на пути из церкви их всех троих, отца, мать и его самого, встретила стая волков. Тогда отец приказал встать на колени и молиться, не обращая внимания на лютых зверей. И странное дело, волки расселись вокруг и словно бы слушали и приобщались к общей молитве, а затем отправились восвояси, ничуть не тронув богомольцев.
Однако кроме десяти библейских заповедей да нескольких молитв отец ничего не знал, и в глубину богословия проникать умом не пытался, считая это дело слишком мудреным для личного разума. Есть Бог, есть корни, молитвы, посты и праздники. А что сверх того, то для избранных: монахов, священников, святых и прочего божьего народа. Вот почему Гегель и получился Гегелем, знающим ровно столько, сколько знал родной батька.
Василий Андреевич понимал, что есть-существует некий огромный, милосердный, но и карающий Разум, то есть – Бог, вместилище всей взаимной природной любви. Однако это всемирное чудо Гегель понимал так: имеется на свете основная глубокая середка, как бы навроде женщины, проникая в которую испытываешь безумие в виде общего восторга. И самое замечательное, что в ответ тебе рождается и дается взаимообразная любовь, не имеющая определения на людском языке.
Такую глубинную «середку» мыслитель видел во всем: в цветке, дереве, человеке, сверкнувшем олене, в белой звезде среди голубого раннего неба, в луне, солнце и во многом другом, что, в целом, он называл Богом, тепло уважая Его за то, что Он есть, что Он разлит во всем, что Он является той самой глубинной «середкой», куда можно безоглядно провалиться вместе со всей своей наличной любовью к миру.
Потому сейчас, когда убитый насмерть шатун валялся на снегу с распахнутым настежь брюхом, а вокруг него в радиусе полуметра снег протаял от теплой медвежьей крови, да и все бойцы, сидевшие молча кто где, оказались заляпанными темными, свекольного цвета пятнами, Гегель не смог по-мужски удержать душевного страдания.
Боцман курил, разглядывая содранные в бою ладони и водворяя съехавшую отдельную кожу на прежние места.
Хирург достал из-за отворота шапки припасенную на все случаи жизни иголку с ниткой, окунул ее в бутылку со спиртным, из которой Боцман промывал ему пораненную о золото руку, подошел к Гегелю и погладил его в утешение, как слабого, испуганного ребенка по голове. Зная втайне, что тем самым он восстанавливает в тоскующем человеке энергетическое равновесие, а стало быть, сообщает спокойствие горюющим нервам. Действительно, от действий целителя Василий Андреевич Гегель утих и перестал содрогаться горлом и телом. Тогда Хирург, опять же как бы в утешение, заставил проповедника выпить целый стакан сорокаградусной жидкости. Дальше лекарь приказал Боцману держать пострадавшего, пьянеющего на глазах Гегеля за тело и голову, чтобы тот не дергался и не производил никаких вибраций. И со словами: «Терпи, казак» быстро пришил ему, как оторвавшийся ворот, кусок болтавшегося по воздуху уха.
Операция была содеяна быстро, умело и четко, так что опьяневший Гегель ни понять, ни ощутить произошедшее просто не успел. Три глубоких царапины на щеке проповедника Хирург, не изменяя традиционного лечения, промокнул тампоном, смоченным лечебной брусничной водкой.
Оздоровительные манипуляции выполнялись Хирургом настолько виртуозно, что православный адепт закусывал во время операций бутербродом с икрой, впрок заготовленной в пору нереста горбуши, взирал мокрыми глазами на узорчатые метельные миражи, причудливо самоткущиеся над черным лесом и теплел сердцем. Его Господь снова возвращался к нему.
Когда Хирург в окончание медицинских действий осторожно обрезал лишнюю нитку, неожиданно над просекой появилось мутное от слабой метели багряное солнце и ободряюще глянуло на воинов. Гегель, наконец, улыбнулся. Жизнь продолжалась.
К этому времени Борис с гуманистом-Мишкой отняли у медведя ненужные ему теперь лучшие съедобные куски. Получился целый мешок дополнительного деликатесного провианта. Остальное оставили волкам, лисам да росомахам. Эти тоже, небось, не откажутся от свежей медвежатины.
Хирург обнаружил так же израненные руки Боцмана и заставил вытянуть их горизонтально. Однообразно, как и Гегелю, промыл их брусничной настойкой, а затем исключительно посредством личного воображения спаял лопнувшие куски ладоней. Через десять минут Боцман к огромному собственному изумлению смог спокойно и безболезненно сжимать и разжимать кулаки. Моряк думал, что дело с болячками затянется не меньше, чем на месяц. Во всяком случае, в течение этого месяца за весла он сесть не смог бы. А сейчас Боцман уже трудно различал, где, в каком месте у него съехала на ладонях кожа и обнажилось красное, горевшее огнем, мясо.
– Ты, Хирург, знаешь – кто! – восхитился Боцман. – Паразит ты и больше никто, – определил друга старый моряк. – Вот сейчас попразднуем у Богдана, и лети в свой Питер. Или прямо в Москву. К чертовой матери. Что ты болтаешься здесь, как пес? Ты чудеса творишь! Тебе среди людей быть надо. Найдешь товарищей, учеников, семью… Все будет нормально. А тут что? Мишка правильно сказал: «Все мы псы бродячие. Но самое интересное, Хирург, нам это нравится. Пусть мы порой холодные, голодные, битые, израненные, зато мы – ветер, шквал и живем одной свободной волей. Куда хотим – туда летим. Потому что мы – стая бродячих псов. Все равно что уток стая. Нас отстреливают, ловят, изводят, а мы снова возникаем. Не тут, так в другом месте. Как щетина на морде».
– Врешь ты все, – сказал Борис, завязывая мешок с медвежатиной. – Псы – это псы. А люди – это люди. Вот ты, Боцман, больше всего на свете мечтаешь снова стать боцманом, а не болтаться тут холодным и голодным. Я, честно говоря, хотел бы строить самолеты. Или даже летать. Получать хорошие бабки и жить как человек. Мишка мечтает снова залезть за университетскую парту. Как ни крути. Про Гегеля, правда, ничего не могу сказать. Может, ему и в самом деле на роду написано бродячее житье. В таком случае Василию тоже учиться надо, потому что у него опилки в голове, а теперь еще при оторванном ухе. Он толком-то не знает, чего от Луки, а чего от Матфея и чем отличается грех от прегрешения. Что он людям может принести без знаний? А ты, Боцман, врешь, как пацан, себе и другим. Да, сейчас мы псы. Но никто из нас не желает быть псом до конца. Что ты, Боцман, глаза опустил, как девушка? Или я неверно говорю?
Наступило общее молчание. От слов Бориса прежняя жизнь путешественников стала медленно тонуть, словно подбитый корабль. И наблюдая еще недавно живое, а нынче тонущее судно, на коем находилась вся горемычная команда, «псы» пригорюнились, хотя особых причин для печали как будто не было.
Суровая битва с медведем окончилась сокрушительной победой, но радости не было ни у кого.
– Пошли отсюда, – сказал Хирург, глядя на распластанный труп зверя, уже хорошо припорошенный снежным покрывалом – зимней могилой – до самой весны. Могилу, конечно, разроют, разгребут голодные обитатели тайги, но это уже будет их дело.
– Давайте опустим по глотку за упокой. Живое существо все-таки, – сказал Мишка. – Что-то муторно на душе. Будто дурное предчувствие печет. А с чего бы? Вроде, поводов не предвидится. Зверюгу сразили. Каждый вел себя достойно. С чего, казалось бы, в хандру впадать. Попразднуем и разлетимся в разные стороны. У каждого свои планы. Своя дорога. Главное, не забывать друг друга. Как-никак, хлебнули немало. Авось, когда-нибудь свидимся.
Помянули.
И снова тронулись в путь, прихватив теперь, как первую необходимость, рогатину и колья. Было даже удобней: на палки подвесили сзади мешки с рыбой, медвежатиной и спиртным. Нести их таким образом оказалось гораздо легче.
Гегеля освободили от всякой ноши, так как его после операции впору самого нести было. Он со своим пришитым ухом бесстрашно нырял вниз головой с каждой горбатой кочки. Проповедника, слегка матерясь, поднимали, ставили на ноги, но он, видимо, утомившись в битве, потеряв немало личной крови и окончательно опьянев, снова выбирал кочку повыше и с нее штопором входил в жижу болота.
– Мы так до завтра не доберемся, – высказал Мишка Хирургу. – Что с ним делать?
– Может, его к двум палкам привязать, – предложил Борис. – И понесем учителя на плечах. Как фараона. Не то он себе самостоятельно еще одно ухо оторвет.
Хирург развязал свой рюкзак, вытащил какой-то целебный пакетик, какие самолично изготавливал, сохраняя в них собранные за лето корешки, травы, кору деревьев, толченые сосновые иголки, измельченные шишки, сушеные ягоды, чей-то помет и бог знает, что еще. Затем он заставил Гегеля проглотить содержимое пакета, зажевать этот порошок снегом и немного посидеть на павшем бревне. Сидя, философ пошатался минут пять, а затем, что молодой олень, рванул в кусты. Там он издал неприличный звук и вздох облегчения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































