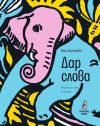Текст книги "Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Каторга меня не интересует.
И в этом ответе послышалось обычное на Сахалине, типичное полное пренебрежение к каторге, к ее жизни и быту.
– Меня интересуют только чисто научные вопросы.
Как будто изучение этих «отбросов общества» не представляет уже никакого научного интереса.
Быт каторги меняется в связи с переменой взглядов на преступление и наказание. Веяние великого гуманного века, теплое и мягкое и согревающее, как летний ветерок, все-таки чувствуется и здесь. Многое, что вчера еще было ужасной действительностью, сегодня уже отходит в область страшных преданий. И какой бы богатый, поучительный материал по истории каторги мог бы собрать сахалинский музей!
Я уж не говорю о том неоцененном материале для ученых, для антропологов, для юристов, для врачей, который погибает на Сахалине благодаря тому, что там, на каторге, меньше всего интересуются каторгой. Несколько времени тому назад один из врачей начал составлять коллекцию типов преступников. Для съемки так называемых антропологических карточек он устроил при лазарете фотографию. Работы шли прекрасно. Коллекция шла прекрасно и обещала быть ценным вкладом в науку. Как вдруг такое невинное занятие было найдено почему-то предосудительным. Фотографию приказано было уничтожить.
Почему?! По недоразумению, по незнанию… И неоцененный материал для науки гибнет, с одной стороны, вследствие незнания, с другой – вследствие пренебрежения к каторге.
– Изучать кого же? Каторгу! Это на Сахалине кажется таким же смешным, как у нас серьезным.
Жизнь сахалинских служащих – жизнь унылая, серая, однообразная. Все их ежедневное общение с миром состоит в получении телеграмм «Российского телеграфного агентства». Телеграммы имеются ежедневно за исключением, конечно, тех случаев, когда телеграф испорчен. А это случается часто и подолгу. Тогда сахалинские служащие чувствуют себя окончательно отрезанными от всего мира и, по их словам, чувствуют тогда гнетущую, давящую, ноющую тоску.
– Словно заперли умирать в каземат, и никто не услышит ни крика, ни вопля, ни стона, – как говорила мне одна из сахалинских дам.
Телеграммы, этот последний нерв, соединяющий «мертвый остров» с живым миром, получаются служащими в складчину и в посту Александровском печатаются в казенной типографии. Зайдем туда. Здесь действительно можно на минуту забыть, что находишься на каторге. Знакомая близкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стук литер о верстатку. Запах типографской краски. Из всех сахалинских мастерских здесь мы можем рассчитывать на прием наиболее теплый, дружеский, в котором есть даже что-то родственное. Журналист и наборщик, когда они встречаются между собой, – как во встрече двух солдат одного и того же полка. К тому же приятно и поговорить на этом особом языке типографских терминов, близком и понятном нам обоим. На языке, на котором давно не приходилось говорить.
– Чисто, как в Москве, – улыбаясь, говорит мне метранпаж.
Мы оказываемся старыми знакомыми. Он из Москвы, набирал в той газете, где я писал. Судился за преступление, которое слушалось при закрытых дверях.
Бедная техническими средствами сахалинская типография работает на славу, – и на простом тискальном станке ухитряется печатать официальное издание «Сахалинский календарь» в тридцать печатных листов. В некотором роде подвиг, который из читателей оценят только господа типографы.
Среди наборщиков оригинальный тип. Старичок в очках. Бродяга. Всю свою жизнь состоит при «журнальном деле».
– Еще работал в покойном, блаженной памяти, «Морском сборнике».
И он говорит о «покойном», как будто речь идет об умершем родственнике. С какой любовью он говорит со мной о журналах.
– Скучаете здесь по журналам?
Он улыбается грустной улыбкой.
– Шибко-с. Ведь вся жизнь прошла в этом деле. Свыкнешься… Одно вот теперь успокоение нахожу: когда телеграммы набирать. Набираешь – ровно на газете работаешь. Так иной раз замечтаешься – смешно-с…
И на глазах старика, смеющегося над своими мечтаниями, навертываются слезы.
– А за что здесь-то?
– Из бродяг-с.
– И нельзя открыться?
– Невозможно-с.
Чего натворил этот старичок, находящий себе поэзию в наборе телеграмм и говорящий, словно о человеке, о «покойном» журнале?
В переплетной при типографии мы встречаем интересную личность – в некотором роде недавнюю знаменитость.
Петербургский «убийца в Апраксином переулке». Преступление, обратившее на себя внимание своим спокойствием, жестокостью, зверством. Молодой парнишка, он убил с целью грабежа трех женщин. Присужден к двадцати годам каторги. Вот странные глаза. Совершенно желтого, золотистого цвета. Такие глаза бывают только у кошек. Он смотрит на вас прямо, открыто, зорко, и, если можно так выразиться, никакой души не чувствуется в этих глазах. Ни злой, ни доброй – так, совсем никакой. Такой взгляд встречается у особенно зверских, холодных и спокойных убийц с целью грабежа. Они обыкновенно очень благообразны, даже симпатичны. На лице у них вы напрасно стали бы искать какой-нибудь «печати Каина», каких-нибудь зверских черт. Только в глазах нет тихого мерцания души. Только во взгляде вы читаете, что чего-то человеческого не хватает этому существу. И вы ясно представляете себе, как он убивал. Он смотрел, вероятно, на свою жертву тем же спокойным взглядом. Холодным, пристальным взглядом очковой змеи. И от этого взгляда холодно, вероятно, делалось на душе у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни бешенства не было в этом взгляде. Он смотрел с любопытством на льющуюся кровь, на предсмертные судороги жертвы. С любопытством кошки, раздавившей лапой таракана. И только. Чувство жалости, чувство сострадания атрофировано у этих людей, – читается в их взгляде. Они лишены от рождения чувства жалости, как бывают люди, лишенные от рождения чувства зрения.
Бойкий, расторопный мальчишка смотрит своими кошачьими глазами и спокойно рассказывает, как убивал.
– Как же это так?
– С куражу.
– Пьян был?
– Никак нет. А так, вся жизнь тогда в кураже была. Лакеем служил, половым. Постоянный кураж кругом. С куражу и подумал: «Пойтить убить – денег добуду».
– Ну а теперь?
– К ремеслу приучаюсь.
И он с любовью – с любовью, в которой есть что-то сентиментальное, – показывает переплет, который только что сделал.
Переплет, любовно сделанный теми же руками, которые так спокойно убивали людей.
– Отличный переплет, братец, у тебя вышел.
По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствия.
Удивительно странное впечатление производит этот мальчик, из зверя-убийцы превращающийся в подмастерье, которого тешит его дело. Словно зарезал троих и сел в игрушки играть.
Приговаривается к каторжным работам
Выражаясь по-сахалински, в «пятом» (1895) году на Сахалин было сослано 2212 человек, в «шестом» – 2725.
Замечательное дело: мы ежегодно приговариваем к каторжным работам от двух до трех тысяч, решительно не зная, что же такое эта самая каторга?
Что значат эти приговоры «без срока», на 20, на 15, на 10 лет, на 4, на 2 года?
А потому, прежде чем ввести вас во внутренний быт каторги, познакомить с ее оригинальным делением на касты, ее обычаями, нравами, взглядами на религию, закон, преступление и наказание, – я должен познакомить вас с тем, что такое эта самая каторга, какому наказанию подвергаются люди, ссылаемые на Сахалин.
Как мы уже видели, все каторжники делятся на два разряда: разряд испытуемых и разряд исправляющихся.
В разряд испытуемых попадают люди, приговоренные не меньше как на 15 лет каторги.
Бессрочные каторжники должны пробыть в разряде испытуемых 8 лет, присужденные к работам не свыше 20 лет – 5 лет и присужденные к работам от 15 до 20 лет – 4 года. Остальные обыкновенно сейчас же зачисляются в разряд исправляющихся.
Только тюрьма для испытуемых и представляет собою тюрьму так, как ее обыкновенно понимают.
Испытуемая, или, как ее обыкновенно зовут в просторечье, кандальная, тюрьма построена обыкновенно совершенно отдельно, огорожена высокими палями – забором. Вдоль стен ходят часовые, что не мешает испытуемым бегать и из этих стен, на виду у этих часовых. Какой стеной удержишь, каким часовым испугаешь человека, которому, кроме жизни, нечего уже больше терять? И которому смерть кажется сластью в сравнении с этой ужасной жизнью в кандальной?
Доступ посторонним лицам в тюрьму для испытуемых закрыт. Их держат как зачумленных, совершенно изолированно от остальной каторги, даже больницы для испытуемых – совершенно отдельные. Но это, конечно, ничуть не мешает исправляющимся арестантам все-таки проникать в кандальную, приносить туда водку, играть в карты. Изобретательности, находчивости каторги нет пределов. Да к тому же на Сахалине все покупается, и покупается очень дешево.
От весны до осени, с начала и до окончания сезона бегов, испытуемым арестантам бреют половину головы и заковывают в ножные кандалы. И тогда сахалинский воздух, и без того проклятый, наполняется еще и лязгом кандалов. Еще издали, подъезжая к тюрьме, вы слышите, как гремит цепями кандальная. От весны до осени наполовину бритые арестанты теряют человеческий облик и приобретают облик звериный, омерзительный и отвратительный. Что, конечно, глубоко мучит тех из испытуемых, которые ни о каких побегах не думают и решили было терпеливо нести свою тяжкую долю. Это заставляет их решаться на такие поступки, которые при других условиях, быть может, и не пришли бы им в голову.
Время работ как испытуемых, так и исправляющихся полагается по расписанию, глядя по времени года, от семи до одиннадцати часов в сутки. Но это расписание никогда не соблюдается. Если есть пароходы, в особенности Добровольного флота, которые терпеть не могут никаких задержек, каторжные работают сколько влезет и даже сколько не влезет. Тогда каторжане превращаются совсем в крепостных господ капитанов. И я сам был свидетелем, как работы, начинавшиеся в 5 часов утра, оканчивались в 11 часов вечера: разгружался пароход Добровольного флота.
Кроме трех дней для говенья и воскресений, праздничных дней для испытуемых каторжников полагается в год 14.
Крещение, Вознесение Господне, Троицин и Духов дни, Благовещение – все это не праздники для испытуемых. Но и это требование закона не всегда соблюдается. И из этих 14 дней отдыха у испытуемых отнимается несколько. Я сам был свидетелем, как каторжных гнали разгружать пароход Добровольного флота в праздник, в который они, по закону, освобождены от работы. Заставляли их работать тогда в такой день, когда даже крепостные в былое время освобождались от работ.
Отсюда возникают те бунты, которые вызывают «соответствующие меры» для усмирения. Меры, при которых часто достается людям ни в чем не повинным и которые еще больше озлобляют и без того достаточно мучающуюся каторгу.
Так было и тогда. Кандальные арестанты Корсаковской тюрьмы решительно отказались идти разгружать пароход в праздник.
– Не закон!
Им напрасно обещали, что вместо этого дня им дадут отдохнуть в будни.
– Знаем мы эти обещания! Сколько дней так пропало! – отвечали кандальные каторжной тюрьмы и решительно не вышли на работу.
– Вот-с она, вот-с, до чего доводит эта гуманность! – со скорбью и злобой говорил мне по этому поводу смотритель. – Как же! У нас теперь гуманность. Начальство не любит, чтоб драли! Что ж, я вас спрашиваю, я стану с ними, мерзавцами, делать?!
А каторжанин, к которому я обратился с вопросом: «Почему вы не хотите выходить на работу? Ведь хуже будет!», отвечал мне, махнув рукой:
– Хуже того, что есть, не будет. Помилуйте, ведь нам для того и праздничный день дан, чтоб мы могли хоть на себя поработать, хоть зашить, пришить что. Ведь мы наги и босы ходим. Оборвались все. День-деньской без передышки, да еще и в законный праздник, да еще в кандалах иди на них работать. Где уж тут хуже быть!
Изменить на Сахалине установленный самим законом порядок ровно ничего не стоит любому капитану, находящемуся в хороших отношениях со смотрителем.
– Надо поехать к смотрителю! – говорит агент какой-нибудь торговой фирмы. – Сказать, чтоб людей послал. А то пароход наш зафрахтованный пришел. Что ж ему так-то стоять!
– Да ведь сегодня, по закону, такой праздник, когда каторжные освобождены от работы!
– Ничего не значит.
– Да ведь по закону!
– Пустяки.
Если вы к этому прибавите дурную, вовсе не питательную пищу, одежду и обувь, решительно не греющие при мало-мальском холоде, – вы, быть может, поймете и причины того, что терпение этих испытуемых людей подчас лопается, и причины их безумных побегов, и причину того озлобления, которым дышит каторга.
Я, по возможности, избегал посещать кандальные тюрьмы вместе с господами смотрителями. Мне хотелось провалиться на месте от тех вещей, которые им в лицо говорили каторжане. Говорили с такой дерзостью, какая никогда не приснится нам. С дерзостью людей, которым больше уж нечего бояться. Говорили, рискуя многим, чтобы только излить свое озлобленное чувство, – говорили потому, что уж, вероятно, язык не мог молчать.
В кандальной Рыковской тюрьме, когда я приехал туда, царило такое озлобление, что смотритель не сразу решился меня вести.
– Да это такие мерзавцы, которых и смотреть не стоит! – «разговаривал» он меня.
– Да ведь я и на Сахалин приехал смотреть не рыцарей чести!
Кандальное отделение сидело уже две недели «на параше». Они отказывались работать, их уже две недели держали взаперти, никуда не выпуская из «номера», только утром и вечером меняя «парашу», стоявшую в углу. В этом зловонном воздухе люди, сидевшие взаперти, казались действительно зверями. И, не стану скрывать, было довольно жутко проходить между ними. Каждый раз, когда я касался вопроса: «Почему не идете на работу?» – было видно, что я касаюсь наболевшего места.
– И не пойдем! – кричали мне со всех сторон. – Пускай переморят всех – не пойдем!
– Ты за что? – обратился к одному, стоявшему как истукан у стенки и смотревшему злобным взглядом.
– А тебе на что? – ответил он таким тоном, что один из каторжников тронул меня за рукав и тихонько сказал:
– Барин, поотойдите от него!
Принимая меня за начальство, они нарочно говорили таким тоном, стараясь вызвать меня на резкость, на дерзость, думая сорвать на мне накопившееся озлобление.
Испытуемые посылаются на работы не иначе, как под конвоем солдат. И вы часто увидите такую, например, сцену. Испытуемые разогнали пустую вагонетку, на которой они перевозят мешки с мукою, и повскакали на нее. Вагонетка летит по рельсам. А за нею, одной рукой поддерживая шинель, в которой он путается, и с ружьем в другой, задыхаясь, весь в поту, бежит солдат. А на вагонетку каторжане его не пускают:
– Нет! Ты пробегайся!
– Братцы, ну зачем вы такое свинство делаете? – спрашиваю как-то у каторжан. – Ведь он такой же человек, как и вы!
– Эх, барин! Да ведь надо же хоть на ком-нибудь злость сорвать! – отвечают каторжане.
Зато не на редкость и такая, например, сцена.
Один из испытуемых, с больной ногой, поотстал от партии поправить кандалы. Конвойный его в бок прикладом.
– Ну за что ты его? – говорю. – Видишь, человек больной.
Конвойный оглянулся:
– А ты не лезь, куда не спрашивают!
И во взгляде его светилось столько накипевшей злобы.
Вот еще люди, которые отбывают на Сахалине действительно каторжную работу!
В посту Александровском, в клубе для служащих, служит лакеем Николай, бывший конвойный, убивший каторжника и теперь сам осужденный на каторгу.
– Как живется? – спрашиваю.
– Да что ж, – отвечает, – допрежде действительно конвойным был, а теперь, слава богу, в каторгу попал.
– Как – слава богу?
– А то что ж! Работы-то те же самые, что и у них: так же бревна, дрова таскаем. Да еще за ними, за чертями, смотри. Всякий тебе норовит подлость сделать, издевку какую учинить, засыпать. Того и гляди, влетишь за них. Гляди в оба, чтобы не убег. Да поглядывай, чтобы самого не убили. А тронешь кого – сам под суд. Нет, в каторге-то оно поспособней. Тут смотреть не за кем. За мной пусть смотрят!
Пройдитесь пешком с партией кандальных, идущих под конвоем. О чем разговор? Непременно про конвойных. Анекдоты рассказывают про солдатскую глупость, тупость, хохочут над наружностью конвойных, а то и просто ругаются.
А каторга, надо ей должное отдать, умеет человеку кличку дать. Такую, что его и в жар и в холод бросит. И шагают конвойные с озлобленными, перекошенными от злости, лицами, еле сдерживаясь.
– А ты слушай! – злорадствует каторга.
Замолкнет на минутку партия – и сейчас же какой-нибудь снова начнет:
– Какие, братцы вы мои, самые эти солдаты дурни – и уму непостижимо!
И «пойдет сначала».
Немудрено, что эти несчастные в конце концов озлобляются невероятно. Даже служащие жалуются на них:
– Хуже каторжных.
Иду как-то слишком близко от какого-то амбара.
– А ты, черт, зачем здесь ходишь! – кричит часовой. – Не смей здесь ходить, дьявол!
– Да ты чего же сердишься-то? Ты бы без сердца сказал.
– Рассердишься тут! – как будто немножко смягчившись, сказал часовой, но сейчас же опять «вошел в сердце». – Да ты не смей со мной разговаривать! Ежели будешь со мной разговаривать, я тебя прикладом!
Люди действительно озлоблены до невероятия. Это взаимное озлобление особенно сказывается при бегстве каторжных и при ловле их солдатами.
– Жалко, что не убил конвойного! – с сожалением говорил беглый, добродушнейший, в сущности, парень, бежавший для того, чтобы переплыть на лодке… в Америку.
– Да зачем же это тебе?
– А с нами они что делают, когда ловят?!
Такова атмосфера, которою дышит испытуемая тюрьма.
Озлобленные испытуемые вселяют к себе страх, который господа смотрители стараются обыкновенно прикрыть презрением:
– Я с такими мерзавцами и разговаривать-то не хочу. Если негодяй – так я его и видеть не желаю!
Можете себе представить, что творится в испытуемых тюрьмах, предоставленных целиком на усмотрение надзирателей, часто тоже из бывших каторжных. Что делается в этих тюрьмах, наполненных тягчайшими преступниками и месяцами не видящих никакого начальства. Что там делается с каторжными и каторжными же над каторжными.
– Да и зайти опасно! – объясняют господа служащие. – Ведь это все дышит злобой!
И это правда… Хотя ходят же туда доктора Лобас, Поддубский-Чердынцев. И я думаю, что самым безопасным на Сахалине местом для семейств всех этих лиц была бы кандальная тюрьма, а именно то ее отделение, где содержатся бессрочные. Здесь они могли бы чувствовать себя застрахованными от малейшей обиды. Почему это – в другом месте.
Благодаря массе различных причин атмосфера испытуемой тюрьмы – недовольство, ее религия – протест. Протест всеми мерами и всеми силами.
Подчас этот протест носит забавную, но на Сахалине небезопасную для протестующих форму. Испытуемые, например, не снимают шапок. Еду как-то мимо партии кандальных. Смотрят вызывающе, только один нашелся, снял шапку.
Я ответил ему тем же, снял шапку и поклонился. Моментально вся партия сняла шапки и заорала:
– Здравствуйте, ваше высокоблагородие!
И изводили же они меня потом этим сниманием шапок!
Такова кандальная тюрьма.
По правилам, в ней содержатся только наиболее тяжкие преступники, от «пятнадцатилетних» до бессрочных каторжников включительно.
Но, входя в кандальную, не думайте, что вас окружают исключительно изверги рода человеческого. Нет. Наряду с отцеубийцами вы найдете здесь и людей, вся вина которых заключается в том, что он загулял и не явился на поверку. В толпе людей, одно имя которых способно наводить ужас, среди «луганского» Полуляхова, «одесского» Томилова, «московского» Викторова можно было видеть в кандалах бывшего офицера К-ра, посаженного в кандальную на месяц за то, что он не снял шапки при встрече с господином горным инженером. Я знаю случай, когда жена одного из господ служащих просила посадить в кандальную одного каторжника за то… что он ухаживал за ее горничной, вызывал на свидания и тем мешал правильному отправлению обязанностей. И посадили, временно перевели исправляющегося в разряд испытуемых по дамской просьбе.
Как видите, здесь смешано все, как бывает смешано в выгребной яме.
И человек, только не снявший шапки, гниет в обществе убийц по профессии.
Окончив срок испытуемости, долгосрочный каторжанин из кандальной переходит в вольную тюрьму…
Так в просторечье зовется отделение для исправляющихся.
Сюда же попадают прямо по прибытии на Сахалин и «краткосрочные» каторжники, то есть приговоренные не более чем на 15 лет каторги.
Исправляющимся дается более льгот. Десять месяцев у них считается за год. Праздничных дней полагается в год 22. Им не бреют голов, их не заковывают. На работу они выходят не под конвоем солдат, а под присмотром надзирателя. Часто даже и вовсе без всякого присмотра. И вот тут-то происходит чрезвычайно курьезное явление. Самые тяжкие, истинно каторжные работы, например вытаска бревен из тайги, заготовка и таска дров, достаются на долю исправляющихся – менее тяжких преступников, в то время как тягчайшие преступники из отделения испытуемых исполняют наиболее легкие работы. Человек, приговоренный на 4,5 лет за какое-нибудь нечаянное убийство во время драки, с утра до ночи мучится в непроходимой тайге, в то время как человек, с заранее обдуманным намерением перерезавший целую семью, катает себе вагонетки по рельсам.
– Помилуйте! Разве мы можем посылать испытуемых в тайгу? Конвоя не хватит, солдат мало.
Судите сами, может ли такой «порядок» внушить каторге какое-нибудь понятие о «справедливости» наказания, – единственное сознание, которое еще может как-нибудь помирить преступника с тяжестью переносимого наказания.
– Какая уж тут правда! – говорят исправляющиеся. – Что кандальник головорез, так он поэтому и живи себе барином: вагончики по рельцам катай. А что я смирный да покорный и меня без конвоя послать можно, так я и мучься в тайге. Нешто мое-то супротив его-то преступленье?
Тюрьма для исправляющихся – это менее всего тюрьма. Прежде всего это ночлежный дом, грязный, отвратительный, ужасный.
Когда я вошел первый раз под вечер в «номер», где содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимающиеся более тяжкими работами, у меня закружилась голова и начало мутить. Такой там дух!
Арестанты только что вернулись из тайги, где они работали по колено в талом снегу. Онучи, коты, бушлаты, – все было на них мокрое. И они лежали в поту, во всем мокром, на нарах. Я велел одному раздеться и должен был отступить: такой запах шел от этого человека.
– Да ведь ты преешь весь?
– Что же делать-то! Прею. На ноги вон и то уж больно ступить.
– Чего ж ты не разденешься? Не развесишь платье посушить?
– Развесь! Развесил вон Кузька халат да онучи, задремал, – и свистнули.
– Это у нас недолго! – подтверждали, улыбаясь, каторжане.
Можете себе представить, что делается с этими людьми, по неделям не раздевающимися. Если бы кто-нибудь и пожелал вести себя почище, благодаря общим нарам это невозможно. У них и паразиты общие. Помню, разговариваю в Онорской тюрьме с одним белобрысым арестантом, а каторжане меня предупреждают:
– Барин, велите-ка ему от вас поотодвинуться: с него падают.
И с этаким-то субъектом лежать рядом на нарах! Заботься тут о чистоте!
Этим объясняется и «непонятная», как говорят господа смотрители тюрем, страсть каторжан спать под нарами.
– Не лежится ему на нарах, под нары, в слякоть лезет!
Лучше уж лежать в слякоти, чем рядом с таким субъектом!
Мне говорили многие из каторжан, что они сначала даже есть не могли.
– Тошнило. Везде ползают… Да и теперь, припрячешь хлеба кусок: приду, мол, с работы – пожую, возьмешь, а по нем ползут… Тьфу!
Каждый раз, когда мне случалось провести несколько часов в тюрьме, мое платье и белье было полно паразитов. Чтобы дать вам понятие об этой ужасающей грязи, я скажу только, что должен был выбросить все платье, в котором я ходил по тюрьмам, и остригся под гребенку. Других средств борьбы не было! И в такой обстановке живут люди, которым нужны силы для работы.
Второе назначение вольной тюрьмы – быть игорным домом. Игра идет с утра до ночи и с ночи до утра. В каждую данную минуту заложат банк в несколько десятков рублей. Игра идет на деньги и на вещи, на пайки хлеба за несколько месяцев вперед, на предстоящую дачку казенного платья. Все это сейчас же можно реализовать у тюремных ростовщиков, вертящихся тут же. Играют каторжане между собой. Сюда же являются играть и поселенцы. Играют старики и… дети. При мне в Дербинской тюремной богадельне поселенец, явившийся продавать в казну картофель, проиграл вырученные деньги, телегу и лошадь. В Рыковской тюрьме к смотрителю при мне явилась с воем баба-поселенка.
– Послала мальчонку в тюрьму хлеба купить. А они, изверги, заманули его в номер и обыграли.
– Не верьте ей, ваше высокоблагородие, – оправдывалась каторга, – она сама посылает мальчонку играть. Кажный день он к нам ходит. Выиграет – небось ничего, а проиграл – «заманули». Заманешь его, как же!
На поверку это все оказалось правдой…
Исправляющиеся выходят из тюрьмы в течение дня свободно. Они обязаны только исполнить заданный урок и явиться вечером к поверке. Все остальное время они шатаются где им угодно. Точно так же свободно входят и выходят из тюрьмы посторонние лица; это облегчает сбыт краденого. Около тюрьмы исправляющихся всегда толпится несколько десятков поселенцев, по большей части татар. Это все ростовщики, покупатели краденого.
Третья роль, которую играет вольная тюрьма, это быть притоном и бездомовных, и даже беглых.
Тюрьма, надо ей отдать справедливость, с большой жалостью относится к участи поселенцев. Ведь поселенец – это будущее каторжника. Зайдя во время обеда в вольную тюрьму, вы всегда застанете там кормящихся поселенцев. Хлеба каторжане им не дают.
– Потому самим не хватает.
А похлебки, баланды, которую каторга продает по пять копеек ведро на корм свиньям, отпускают сколько угодно. Таким образом, в годы безработицы и голодовки, в вольной тюрьме, говоря по-сахалински, «кормится в одну ручку» подчас до двухсот поселенцев. В вольную же тюрьму ходят ночевать и бездомовные поселенцы, пришедшие «с голоду» в пост из дальнейших поселений и не имеющие где приклонить голову.
Они приходят перед вечером, забираются под нары и там спят до утра.
Право, есть что-то глубоко трогательное в этом милосердии, которое оказывают нищие нищим. И сколько раз воспоминание об этом поддерживало меня в те трудные минуты, когда мой ум мутился и каторга, благодаря творящимся в ней ужасам, казалась мне только скопищем злодеев. Нет, даже в тюрьме, в этой злой, гнойной яме, живет «человек»!
Вольная тюрьма служит часто притоном для беглых каторжников, бежавших из других округов. Так, например, страх и ужас Сахалина Широколобов, отковавшийся от тачки и бежавший из Александровской кандальной тюрьмы. Широколобов, за поимку которого обещано 100 рублей, неуловимый Широколобов, для поимки которого посылают целые отряды и переодетых сыщиков-надзирателей, – этот самый Широколобое тихо и мирно скрывался целую зиму в Рыковской тюрьме.
– И получал казенный паек! Какова бестия! – восклицали начальники округа и смотритель тюрьмы.
– Да как же это могло случиться?
– А очень просто. В лицо мы его не знаем. Почем знать: кто он такой? А каторга уж, разумеется, не выдаст. Так и прожил всю зиму. А потеплело, ушел – и дела творит. Что с ним поделаешь?
Вообще вольности вольных тюрем неисчислимы. Надо было мне отыскать арестанта П., известного преступника. Справляюсь у смотрителя.
– На мельнице работает.
Иду на мельницу.
– Нет.
В другой раз «нету». В третий «нету». Ходил в шесть часов утра – все «нету». За это время каторга успела уж со мной познакомиться, я уже стал пользоваться ее доверием. Мне и говорят на мельнице:
– Да он здесь, барин, никогда и не бывает. Он за себя другого поставил. За полтора целковых в месяц нанял. А сам в тюрьме постоянно. У него там дело: он и майданщик (содержатель буфета и тюремного стола), он и барахольщик (старьевщик), он и отец (ростовщик).
Посмотрел из любопытства на сухарника (человек, который нанимается за другого нести каторгу). Жалкий мужичонка, приговоренный на 4 года за убийство в драке, в пьяном виде, в престольный праздник. До часу дня он работает на мельнице за другого, а с часу до вечера исполняет свой урок. В чем только душа держится, а несет две каторги.
И такие случаи на Сахалине не только не редки – они ординарны, заурядны, обыкновенны. Человек, в пьяном виде попавший в беду, отбывает двойную каторгу, а преступник по профессии, один из знаменитейших убийц, гуляет, обирает каторгу, наживается на этих несчастных.
Полтора рубля на Сахалине – это побольше, чем у нас пятнадцать.
Таковы нравы тюрьмы для исправляющихся.
За хорошее поведение арестанта по истечении некоторого времени могут освободить совсем от тюрьмы. Он переходит тогда в вольную каторжную команду, живет не в тюрьме, а на частной квартире и исполняет только заданный на день урок.
И если бы вы знали, как все, что есть мало-мальски порядочного в тюрьме, стремится к этому! Как они мечтают вырваться из этой физической и нравственной грязи тюрьмы и поселиться на вольной, на «своей» квартирке. Но, к сожалению, это не всем удается, не всем желающим дается. Сам смотритель не может знать каждого из сотен своих арестантов. Аттестация о хорошем поведении зависит от надзирателей, часто самих бывших каторжников. Представление о переводе в вольную команду составляется писарями, назначаемыми исключительно из каторжных. Они все держат в своих руках. И часто из-за неимения двух-трех рублей бедняге каторжанину приходится отказаться от мечты о своем угле, от всякой надежды на облегчение участи…
Вырвавшиеся всеми правдами и неправдами в вольную команду или снимают где-нибудь койку за полтинник в месяц, или живут по двое в хибарках. В каждом посту есть такая каторжная слободка.
Заходишь – бедность страшная, имущества никакого. А у людей все-таки в глазах светится довольство.
– Слава те господи, вырвались из ее, проклятой.
Сами себе господа! Хибарка – повернуться негде. И боже, что за людей сводит судьба вместе! Зайдем в одну мазанку. На пространстве в пять шагов длины и ширины живут двое.
Один – поляк. Ему 40 лет от роду, а на вид – 60. Он похож на огромный, сгорбившийся скелет. Лицо желтое, обтянутое. Глаза горят мрачным огнем. Он вечно угрюм, необщителен, ни с кем не говорит. Присужден на 20 лет за то, что нанял убийц убить жену. Он замучен был ревностью, но боялся убить сам. Много, вероятно, бурь пережил этот преждевременно поседевший, сгорбившийся, высохший человек.
Его «половинщик» – паренек из Воронежской губернии. Попал за насилие над девушкой.
– Пьян был, ваше высокородие. Гурьбой шли. А она навстречу. Может, я, а может, и не я. Ничего не помню!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.