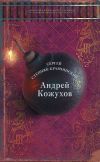Текст книги "Четыре дня"
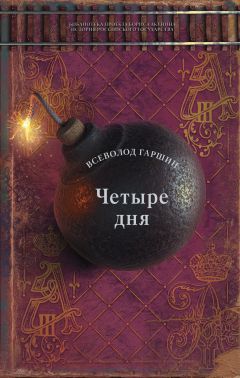
Автор книги: Всеволод Гаршин
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Он говорил это шёпотом, схватив меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.
– Ведь лучше? Скажите!
– Да ведь вам, Иван Иваныч, за это в Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.
– В Сибирь!.. Разве я оттого не могу убить вас, что Сибири боюсь? Я не оттого… Я не могу вас убить потому, что… да как же я убью вас? Да как же я убью тебя? – задыхаясь, выговорил он. – Ведь я…
И он схватил меня, поднял, как ребёнка, на воздух, сжимая в объятиях и осыпая поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И так же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил:
– Ну, идите, идите… Простите меня, но ведь это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.
– Я не сержусь, Иван Иваныч…
– Идите, идите! Благодарю, что пришли.
Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего. Пусть он едет и забудет меня. Останусь доживать свой век. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.
Я прибавила шаг и думала уже о том, какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер. Вот и кончен мой роман, маленькая задержка на скользком пути! Теперь покачусь свободно, без задержек, всё ниже и ниже.
«Да ведь он теперь стреляется!» – вдруг закричало что-то у меня внутри. Я остановилась, как вкопанная; в глазах у меня потемнело, по спине побежали мурашки, дыхание захватило… Да, он теперь убивает себя! Он захлопнул ящик – это он револьвер рассматривал. Письмо писал… В последний раз… Бежать! Быть может, еще успею. Господи, удержи его! Господи, оставь его мне!
Смертельный, неиспытанный ужас охватил меня. Я бежала назад, как безумная, налетая на прохожих. Не помню, как я влетела по лестнице. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный тёмный коридор со множеством дверей, помню, как я кинулась к его двери.
И когда я схватилась за ее ручку, за дверью раздался выстрел.
Отовсюду выскочили люди, бешено завертелись вокруг меня, вместе с коридором, дверьми, стенами. И я упала… и в моей голове тоже всё завертелось и исчезло.
1878 г.
Сигнал
Семён Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять вёрст. Верстах в четырёх в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.
Семён Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мёрз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и пятидесяти вёрст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку – турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семёнов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза носил ему Семён из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идёт с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семёну, плачет, а сам идёт. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришёл он домой – отец старик помер; сынишка был по четвёртому году – тоже помер, горлом болел; остался Семён с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпёж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семён с женой и на Линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семён по-прежнему всё бродит.
Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит – начальник будто знакомый. Глядит на него Семён, и начальник тоже в Семёново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.
– Ты Иванов? – говорит.
– Так точно, ваше благородие, я самый и есть.
– Ты как сюда попал?
Рассказал ему Семён: так, мол, и так.
– Куда ж теперь идешь?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Как так, дурак, не можешь знать?
– Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.
Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:
– Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?
– Так точно, ваше благородие, женат; жена в городе Курске, у купца в услужении находится.
– Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится; уж попрошу за тебя начальника дистанции.
– Много благодарен, ваше благородие, – ответил Семён.
Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мёл. Через две недели приехала жена, и поехал Семён на ручной тележке в свою будку. Будка новая, тёплая, дров сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семён; стал думать, как своё хозяйство заведёт, корову, лошадь купит.
Дали ему весь нужный припас: флаг зелёный, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ – гайки подвинчивать, лом, лопату, мётел, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семён ночи не спал, всё расписание твердил; поезд еще через два часа пойдёт, а он обойдёт свой участок, сядет на лавочку у будки и всё смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.
Дело было летом. Работа не тяжёлая, снег отгребать не надо, да и поезда на той дороге редко. Обойдёт Семён свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебёнку подровняет, водяные трубы посмотрит и идёт домой хозяйство своё устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернётся, время и ушло. Стали Семён с женою даже скучать.
Прошло времени месяца два. Стал Семён с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; всё сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семёном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семён шапку снял, поклонился.
– Доброго, – говорит, – здоровья, сосед.
Сосед поглядел на него сбоку.
– Здравствуй, – говорит.
Повернулся и пошёл прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семёнова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семён.
– Что это, – говорит, – у тебя, молодица, муж неразговорчивый?
Помолчала баба, потом говорит:
– Да о чём ему с тобой разговаривать? У всякого своё… Иди себе с богом.
Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семён с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про своё житье-бытье. Василий всё больше помалчивал, а Семён и про деревню свою и про поход рассказывал.
– Немало, – говорит, – я горя на своём веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.
А Василий Степаныч трубку о рельс выколотил, встал и говорит:
– Не талан-судьба нас с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьём съедает.
– Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.
– К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность – жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.
Задумался Семён.
– Не знаю, – говорит, – брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от бога положение.
– А коли так, – говорит Василий, – так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ. – Повернулся и пошёл, не простившись.
Встал и Семён.
– Сосед! – кричит. – За что же ругаешься?
Не обернулся сосед, пошёл. Долго смотрел на него Семён, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:
– Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.
Однако не поссорились они, встретились опять и по-прежнему разговаривать стали, и всё о том же.
– Э, брат, кабы не люди… не сидели бы мы с тобою в будках этих, – говорит Василий.
– Что ж в будке… ничего, жить можно.
– Жить можно, жить можно… Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодёры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь – выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?
– Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.
– А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не о полуторах там или трёх рублях разговор идёт. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щёки красные, будто налитые… Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго, уйду куда глаза глядят.
– Куда же ты уйдёшь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница…
– Землицы! Посмотрел бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал. «Это, говорит, что такое? Почему без доношения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось… «Три рубля штрафу!..» – Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо: – Немного еще, зашиб бы я его до смерти.
– Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.
– Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождётся он у меня, красная рожа! Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!
И точно пожаловался.
Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали жёлтого песочку подсыпать. Соседка-сторожиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семён целую неделю; всё в исправность привёл и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттёр. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка вёрст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семёновой будке; подскочил Семён, отрапортовал по-солдатски. Всё в исправности оказалось.
– Ты давно здесь? – спрашивает начальник.
– Со второго мая, ваше благородие.
– Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвёртом номере кто?
Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:
– Василий Спиридов.
– Спиридов, Спиридов… А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании?
– Он самый и есть-с.
– Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридова. Трогай.
Налегли рабочие на рукояти; пошла дрезина в ход. Смотрит Семён на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».
Часа через два пошёл он в обход. Видит, из выемки по полотну идёт кто-то, на голове будто белое что виднеется. Стал Семён присматриваться – Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.
– Сосед, куда собрался?! – кричит Семен.
Подошёл Василий совсем близко: лица на нем нету, белый, как мел, глаза дикие; говорить начал – голос обрывается.
– В город, – говорит, – в Москву… в правление.
– В правление. Вот что! Жаловаться, стало быть, идёшь? Брось, Василий Степаныч, забудь…
– Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так. Учить их надо, кровопийцев…
Взял его за руку Семён:
– Оставь, Степаныч, верно тебе говорю: лучше не сделаешь.
– Чего там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.
– Да ты скажи, с чего всё пошло-то?
– Да с чего… Осмотрел всё, с дрезины сошёл, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; всё как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. «Тут, говорит, правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать! Тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то, чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне… Терпенье наше проклятое! Тут бы его надо… а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошёл.
– Как же будка-то?
– Жена осталась. Не прозевает; да ну их совсем и с дорогой ихней! – Встал Василий, собрался. – Прощай, Иваныч. Не знаю, найду ли управу себе.
– Неужто пешком пойдёшь?
– На станции на товарный попрошусь: завтра в Москве буду.
Простились соседи; ушёл Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсем, поджидаючи мужа. На третий день проехала ревизия: паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия всё нет. На четвёртый день увидел Семён его хозяйку: лицо от слёз пухлое, глаза красные.
– Вернулся муж? – спрашивает.
Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.
* * *
Научился Семён когда-то еще мальчишкой из тальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки, где надо, высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и со знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял; давали ему там за штуку по две копейки.
На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошёл, палок себе нарезать. Дошёл он до конца своего участка, – на этом месте путь круто поворачивал, – спустился с насыпи и пошёл лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошёл домой. Идёт лесом; солнце уже низко было; тишина мёртвая, слышно только, как птицы чиликают да валежник под ногами хрустит. Прошёл Семён немного еще, скоро полотно; и чудится ему, что-то еще слышно: будто где-то железо о железо позвякивает. Пошёл Семён скорей. Ремонту в то время на их участке не было. «Что бы это значило?» – думает. Выходит он на опушку – перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит на корточках, что-то делает; стал подыматься Семён потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришёл. Смотрит – и человек поднялся, в руках у него лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семёна в глазах; крикнуть хочет – не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится.
– Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.
Не обернулся Василий, в лес ушёл.
Стоит Семён над отвороченным рельсом, палки свои выронил. Поезд идёт не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьёшь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!
Бежит Семён к своей будке, задыхается. Бежит – вот-вот упадёт. Выбежал из лесу – до будки сто сажен, не больше, осталось, слышит – на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдёт. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собой Семён: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые… Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!.. Нет, до будки добежать и назад вовремя вернуться не поспеешь…
Не добежал Семён до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идёт. Слышит свисток далёкий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из неё платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился, господи благослови!
Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя, брызнула кровь, полила горячей струёй, намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.
Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдёт близко, а на ста саженях не остановить тяжёлого поезда!
А кровь всё льёт и льёт; прижимает рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь, видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове, в глазах чёрные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума: одна мысль в голове: «Не устою, упаду, уроню флаг; пройдёт поезд через меня… помоги, Господи, пошли смену…»
И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.
* * *
Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти; другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.
Обвёл Василий всех глазами, опустил голову:
– Вяжите меня, – говорит, – я рельс отворотил.
1887 г.
Трус
Война решительно не даёт мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится – предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито пятьдесят, ранено сто», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина.
Пятьдесят мёртвых, сто изувеченных – это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с «незначительными» потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания? Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне:
– Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придётся стрелять в людей.
– Меня, Василий Петрович, не заберут: я зачислен в ополчение.
– Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придёт и ваш черед. У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение – тут нет ничего невозможного. «Если война затянется»… да она наверно затянется. Если не протянется долго эта война, все равно, начнётся другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война – только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придёт очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я наконец привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, – я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать своим телом.
* * *
Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.
– Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, – говорит он. – Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не даёт мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?
– Неужели?
– Третьего дня решилась, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестрёнка, доброму научится.
– А что ж Кузьма Фомич?
– Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извёлся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! – Василий Петрович покрутил головой. – Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!
– Мне кажется, Василий Петрович, что нехорошо, что он живёт с вами.
– Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остаётся лишняя – отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.
– Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!
Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принуждённо-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.
* * *
Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок… Двенадцать тысяч… Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в восемь вёрст… Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли… я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущённым массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее… Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревёт отчаянным, надрывающим душу голосом.
* * *
Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, – правда, немногие, – в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня…
* * *
Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдёт до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлёкшая меня от одной и той же гнетущей мысли.
Вчера вечером я пришёл к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.
– Что с тобой? – спросил я его.
Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.
– У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, – сказала Марья Петровна. – Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.
– Доктор сейчас приедет; я заходил к нему, – сказал Василий Петрович.
– Очень нужно было, – процедил сквозь зубы Кузьма.
– Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?
– Чем бы ни кончилось, всё равно, – пробормотал Кузьма.
– Вовсе не всё равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, – тихо сказала Марья Петровна.
Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьёзно смотрела на Кузьму.
Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное весёлое выражение лица переменилось на озабоченное.
– Пойдёмте, пойдёмте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.
Я пошёл за ним в комнату Кузьмы. Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.
– Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? – спросил доктор.
– Есть, я думаю, – ответил Кузьма недоумевающим тоном.
– Я попросил бы их, – сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, – с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.
Он вышел из комнаты; Львов пошёл проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошёл к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.
– Доктор приказал дежурить около Кузьмы.
– Разве в самом деле есть опасность? – тревожно спросила Марья Петровна.
– Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?
– Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдёмте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.
Кузьма встретил нас, улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.
– Вот спасибо, – сказал он. – А я думал уж, что вы меня забыли.
– Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, – улыбаясь, сказала Марья Петровна.
– И вы будете? – робко спросил Кузьма.
– Буду, буду, только слушайтесь меня.
Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.
– Ах, да, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне, – дай мне, пожалуйста, зеркало, вон на столе лежит.
Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то что мы втроём старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.
* * *
Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражён. Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подобным средствам, а во-вторых, что-то, не подчиняющееся определению, сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», – говорит мне внутренний голос.
* * *
Случилось то, чего я никак не ожидал. Я пришёл сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.
– Что такое, Марья Петровна, что с вами?
– Тише, тише, пожалуйста, – зашептала она. – Знаете, ведь всё кончено.
– Что кончено? Не умер же он?
– Нет, еще не умер… только надежды никакой. Оба доктора… мы ведь другого позвали… – Она не могла говорить от слез. – Пойдите, посмотрите… Пойдёмте к нему.