Читать книгу "Четыре дня"
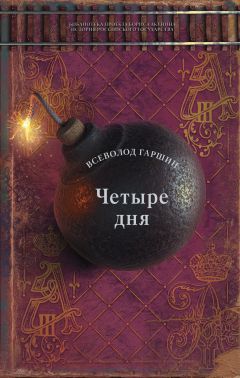
Автор книги: Всеволод Гаршин
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Последний! – прошептал больной. – Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже всё равно. Погодите, – сказал он, глядя на небо, – я скоро буду с вами.
Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путём в свою комнату.
Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на неё без чувств.
Утром его нашли мёртвым. Лицо его было спокойно и светло; истощённые черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унёс свой трофей в могилу.
1883 г.
Медведи
На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединённых протоками; всё сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег подымается над уровнем Рохли сажен на пятьдесят и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон.
Оттуда, сверху, открывается вид вёрст на сорок кругом. Направо к югу и налево на север тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них белеют своими обнажёнными от почвы меловыми вершинами и скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то жёлтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины.
Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самою кручею. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красною и черною лозою и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках, верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище; с высоты оно кажется маленьким оазисом с возвышающеюся над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви.
Сам город не представляет собою ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города; впрочем, он выгодно отличается от своих собратьев удивительной чистотой улиц, происходящею не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город; почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобное помещение по крайней мере за две версты от города, в грязных, илистых берегах реки.
В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах, происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание с выборами заставило так волноваться жителей, но бывали и прежде земские собрания – и с выборами, и со скандалами – и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами:
– Были? – спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа.
– Был! – ответит другой и при этом махнёт рукой. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймёт без слов, в чем дело, и промолвит:
– Кто?
– Иван Петрович!
– Кого?
– Ивана Парфёныча.
Посмеются и разойдутся.
Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад; солидные люди в широких летних парусинных и сырцовых шёлковых костюмах направлялись туда же.
Городские барышни с зонтиками, в разноцветных «панье» (тогда их носили), занимали собой всю ширину улицы, так что катавшийся в кабриолете на сером в яблоках – не коне, а на звере – молодой купец Рогачов должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазаным стенам домов.
Барышень сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто, с чёрными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и – у кого были – в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили кричать: «Гранрон!» и «Оребур!», неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости.
– Из Валуйского уезда пришли! Полвыгона заняли, до самой реки, – говорил старший, Леонид.
– Я обозревал вид с вершины пристена, – прибавил младший, Константин, любивший выражаться изысканно. – Картина замечательная!
Пристеном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности.
– Ах, какая мысль! Представьте! Знаете что… прикажем заложить линейку и поедем на пристен. Это будет вроде пикника. И посмотрим оттуда.
Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея (почти весь город звал ее мужа, Павла Ивановича, братом казначея), дамы, приехавшей лет восемь тому назад из Петербурга и потому владычицы мод и хорошего тона, встретило общее сочувствие.
Заложили толстого гнедого в экипаж, который попадается только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда, по шести-семи человек в каждом, и сидят друг к другу спиной; компания человек в двенадцать уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону.
Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухвёрстный подъем, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами пятидесятисаженного крутого склона и смотрели на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание.
Он пестрел, как огромный ковёр из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпа пёстрого народа: тёмные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие жёлтые и красные одежды женщин; толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган.
Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день, на высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжёлые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рёв десятков приведённых из нескольких уездов цыганских поильцев и кормильцев – ручных медведей.
Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась:
– Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь, там, направо. И рядом с ним молодой цыган – совершенный Адонис.
Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около зверя, переваливавшегося с лапы на лапу, и ласкал его.
– Позвольте и мне, – сказал толстый бритый господин в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел несколько времени и, обернувшись к Ольге Павловне, сказал с тяжелым вздохом:
– Да-с, Ольга Павловна, Адонис. Но какой, я вам доложу, из этого Адониса конокрад выйдет – первый сорт.
– Mon Dieu! [Боже мой!] Вы непременно стараетесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хорош.
– Хорош-то хорош… но как ему прикажете поддерживать своё прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдёт по миру.
– Они могут ковать, предсказывать…
– Предсказывать! Был у меня вчера Илья-коновал: вот поговорите с ним. «Хороши, говорит, у вас, Фома Фомич, серые, да только берегите от нашего брата». – «А что, говорю, не ты ли стащишь?» Ухмыляется каналья! Предсказывать! Вот у него прорицания какие!
От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и пития, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь; очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далёкие извивы реки заблестели холодным лунным светом; в городе показались огоньки; в цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшийся с уснувшей реки под пристеном.
А наверху Константин и Леонид наперерыв рассказывали смешные анекдоты; Ольга Павловна изредка снисходительно улыбалась; барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках; кучер и горничная раздували в кустах самовар, причём последняя по временам отчего-то взвизгивала, впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и, наконец, перебил анекдот Леонида на самом интересном месте.
– Когда же, наконец, назначена эта медвежья казнь? – спросил он.
– В среду утром, – разом ответили братья Изотовы.
* * *
С четырёх уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на городском выгоне уже недели две; начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано пять лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истёк: цыгане должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев.
Они в последний раз совершали свой поход по деревням со знаменитою козой и ее барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту навстречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество.
Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом, и начиналось представление, леченье, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка телег; и чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толоку, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа.
– Ну, пора, пора, – говорит мне, маленькому мальчику, отец.
– Еще немножечко, еще немножечко!..
И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках; старый мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая; огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределённые колеблющиеся тени; лёгкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на небе; за нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи: то донесётся из далёкого пруда торжественный, звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача, то перепелы начнут кричать своё «пить пойдём! пить пойдём!», то откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки, слабые и гармоничные; что это? звук ли далёкого колокола, принесённый лёгким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем?..
Но в лагере все успокаивается; понемногу тушат ненужные огни; медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы; цыгане укладываются спать. Один из них отошёл в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похожую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донёсшуюся откуда-то из неизвестной темноты… Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее; она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поёт ее теперь под чужим, горящим звёздами небом, в чужих степях…
– Поедем, – говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину; лёгкая пыль слабо взвивается из-под колёс и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву.
– Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?
– Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними.
– Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел… Папа, они язычники? Может быть, он пел про своих богов: как они жили, как воевали…
Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение всё еще работает и создаёт странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку.
Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить: большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопчённое полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам.
Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напоминали мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана; он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь; это было днём; проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты и поминутно раздавалось «на плечо! на караул!» – рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пёстрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек.
Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба; в последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удовольствие тихим рёвом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причём, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию, как доброму знаку; а если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили:
– Шось такэ е! Бо вин зна!
Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском, и, завидев издали место своего несчастия, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть, – кто знает? – поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые возы, туда, где хохлы привязывают дегтярную мазныцю с квачем.
* * *
У ворот бельского исправника собралось несколько стариков цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были чёрные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шёлковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами, и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях.
– Спит? – спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган выходившего из двора городового, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске.
– Встаёт, одевается. Сейчас позовут вас, – отвечал городовой.
Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар; все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках.
– Ничего не будет, – сказал он наконец. – Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют.
– Попробуем, Иван, может, как-нибудь… – ответил другой старик.
– Попробовать можно, – отвечал уныло Иван. – Только и денежки он наши возьмет и ничем не поможет.
Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в переднюю, и когда к ним вышел усатый человек в расстёгнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги. Многие плакали.
– Ваше высокоблагородие, – говорил Иван, – сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи – жили мы смирно, никого не обижали… Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют; да, ваше высокоблагородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдёт. И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед Богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и нам и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете; Бог вам за это пошлёт, господин добрый!
Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его.
– Не возьму, – мрачно сказал исправник. – Ничего не могу сделать.
– Да вы бы взяли, ваше высокоблагородие, – раздалось в толпе. – Может, что-нибудь… Вы бы написали.
– Не возьму, – громче прежнего сказал исправник. – Не за что. Ничего нельзя. Это закон… Вам пять лет льготы было дано… Что уж тут делать?.. – И он развёл руками.
Старики молчали. Исправник продолжал:
– Я сам знаю, какая это беда и вам и нам, – теперь только смотри за лошадьми; да что ж я могу поделать? Ты, дед, спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями – не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги пригодятся.
– Ваше высокоблагородие, – сказал Иван, всё держа бумажник в руках, – дозвольте еще слово выговорить. Позвольте завтра… (его голос задрожал) – позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришёл со своими, прожились вовсе…
– Еще одной партии, старик, нет; надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошёл. Надо разом.
– Да пришли уже, ваше высокоблагородие: как мы к вам пошли – с горы спускались. Сделай такую милость, господин! Не томи ты нас.
– Ну, если пришли, так завтра, часов в десять, я к вам приеду. Ружья у вас есть?
– Есть ружья, да не у всех.
– Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С богом! Жаль мне вас, очень жаль.
Старики пошли к двери, но исправник окликнул их:
– Постойте, эй, вы! Вот я вам что скажу: вы пойдите к аптекарю Фоме Фомичу. Знаете аптеку подле собора? Пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас всё сало медвежье скупит: ему оно в мазь пойдёт. И шкуры, может быть. Хорошую цену даст; не пропадать же им так, в самом деле.
Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца; почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил всё сало по четырнадцати копеек, а о шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачов, надеясь сделать хорошую аферу, сторговал все медвежьи окорока по пятачку за фунт.
Вечером того же дня братья Изотовы прибежали запыхавшись к казначееву брату.
– Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили на завтра! Все пришли! Уже и ружья полковник дал, – говорили они наперерыв. – Фома Фомич купил всё сало по четырнадцати копеек фунт. Рогачов окорока…
– Постойте, постойте, Леонид, – перебила Ольга Павловна, – зачем Фоме Фомичу медвежье сало?
– Для мазей; превосходная помада для рощения волос.
И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы на руках.
– И должен был брить их каждые два дня, – заключил Леонид, причём оба брата разразились хохотом.
Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись ей по сердцу; и когда вечером аптекарь Фома Фомич пришёл сыграть пульку с ее мужем и казначеем, она издалека завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады.
– Непременно-с, непременно-с, Ольга Павловна. Даже с духами. Вы что предпочитаете – пачули или иланг-иланг?
* * *
Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел. Все наличные экипажи: одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов, дрожек и линеек – были заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями. К десяти часам все уже собрались.
Цыгане потеряли всякую надежду. В лагере не было большого шума: женщины забились в шатры вместе с малыми ребятишками, чтобы не видеть казни, и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль; мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей.
Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны: необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте – все приводило их в возбуждённое состояние; они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в черных волосах, и внук, тот самый юноша – Адонис, на которого обратила свое внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо привязывали медведя. Исправник поравнялся с ними.
– Ну, старик, – сказал он, – прикажи ребятам, чтоб начинали.
Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мёртвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван.
– Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас: девяносто лет через год мне стукнет, а медведей вожу я сызмала. И во всем таборе нету зверя старше моего. – Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и твёрже прежнего: – Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не доживёт, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдёт он: нам с ним, старикам, от смерти не бегать. Отвяжи его, Вася: не хочу убивать его, как скота на привязи. Не бойтесь, – сказал он зашумевшей толпе, – не тронет он никого.
Юноша отвязал огромного зверя и отвёл немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он был действительно очень стар; его зубы были жёлты, шкура порыжела и вылезла; он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мёртвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок.
– Дайте ружье, – твёрдо сказал старик.
Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю:
– Убью я тебя сейчас, Потап. Дай боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от кольца гнил, болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем; нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр и смирен был, и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя? Твоею работою вся семья моя жива. Ты справил мне две тройки коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше еще сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь. – Он повалился медведю в ноги.
Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.
– Бей, батюшка! – сказал ему сын. – Не рви нам сердце.
Иван поднялся. Слёзы больше не текли из его глаз. Он отвёл со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твёрдым и звонким голосом:
– И вот теперь я убить тебя должен… Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть бог на небе рассудит нас с ними.
Он взвёл курок и твёрдой еще рукой прицелился в зверя, в грудь под левую лапу. И медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный отчаянный рёв; он встал на дыбы, подняв передние лапы и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья. Вопль раздался между цыганами; в толпе многие плакали; старик с рыданием бросил ружье о землю и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружье.
– Будет! – закричал он диким, исступлённым голосом, сверкая глазами. – Довольно! Бей, братцы, один конец!
И подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только лапы его судорожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Лёгкий ветер относил дым к реке.
* * *
– Сорвался! сорвался! – раздалось в толпе.
Как стадо испуганных овец, все кинулись врассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, барышни – всё бежало в паническом страхе, натыкаясь на шатры, на повозки, падая друг на друга и крича.
Ольга Павловна едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причинённом поспешным бегством. Лошади, запряжённые в ожидавшие господ экипажи, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый еще темно-бурый медведь, с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной лёгкостью; перед ним все расступалось, и он мчался, как ветер, прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались; все живое попряталось; исчезли даже собаки.
Медведь нёсся мимо собора, по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка, прогимназии, казармы уездной команды, на другой конец города, выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали, но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках, с ружьями в руках; цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин.
– Вот он, вот он! – закричал исправник. – Жарь, катай его!
Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая водяная мельница, со всех сторон окружённая небольшим, но густым лесом; зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое пространство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть. На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки, а так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь.









































