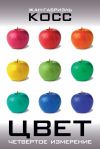Текст книги "Очерки кавалерийской жизни"

Автор книги: Всеволод Крестовский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
4. Приход в Свислочь
Денъ был серый и, так сказать, беспросветный, когда эскадрон наш после второго ночлега делал свой третий и последний переход. В поле мела завируха и стоял такой крутень, что хлопья мокрого снега, вертясь и кружась перед глазами, словно бы несметные рои каких-то одухотворенных существ, застилали непроницаемой завесой всю окрестность. Этот снег залеплял глаза и чуть лишь находил удобное местечко, вроде складки платья, там и залегал целой грудкой. Набивался он и в гривы лошадям, и в баки людям и на донца шапок наседал, как будто слой пушистой ваты. Пренеприятная погода! – особенно эта снежная мокреть, тающая потеками по лицу и заставляющая ежиться из опасения, как бы она не протекла за шею, доводила просто до глупой досады. По лицам было видно, что в голове у людей засела гвоздем одна лишь мысль, как бы поскорей уж добраться до стоянки! Завируха эта началась с раннего утра и преследовала нас в течение целого перехода. День был воскресный, но по такой погоде не попалось нам навстречу ни одних саней с круглолицей, курносой бабой в пестром платке на задку «полукошика» и с мужиком на передку, которые в воскресенье обыкновенно попадаются но дорогам, возвращаясь из местечек, куда они приезжают «до косциолу або до церквы». Жизнь полей заявляла себя одним лишь свистом снежного крутеня; но ни одного птаха, ни одного галчонка, ни единой даже старой карги-вороны не виднелось по краям дороги: все это позапряталось, куда Бог привел, и, нахохлясь да уткнувши нос под крыло, пережидало, когда-то наконец утихомирится эта скучная непогодь.
Не доходя восемнадцати верст до Свислочи, от эскадрона постепенно стали отделяться его взводы. Вот и перекресток дорог, обозначавшийся давно знакомым крестом с резным изображением «пана Иезуса», на котором трепался под ветром цветной лоскут пелены, подвешенный в виде юбки чьею-то благочестивой рукой; на крышечке, осеняющей фигуру Христа, и на поперечных брусьях тяжело нахлобучило целые шапки пушистого снега. У этого перекрестка отделился первый взвод и свернул по дороге к своим квартирам, назначенным ему в одной из деревень на первых два зимних месяца. Пройдя несколько верст, отделился третий и четвертый, потом второй, так что со мной остался только эскадронный штаб, учебная эскадронная команда да еще команда молодых, дурноезжих и худоконных лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода в течение зимних месяцев под непосредственным надзором эскадронного командира.
– Ваше благородие! – подъехал ко мне вахмистр. – Позвольте людям песни поиграть! Очинно желают!
– Песни! Да где же песенники-то? Ведь все почти разбрелись со взводами?
– Это ничего-с, кое-кто наберется, да, впрочем, теперича кто и не песельник, так и тот будет орать – больно зябко уж!
– Пускай их, коли охота!
– Вали, ребята! – одобрительно махнул им Скляров, как видно, довольный полученным разрешением.
Ребята подбодрились, открякнулись и «повалили», хотя без бубнов, которые отсырели от мокрети и, значит, не могли уже действовать; зато яркая махалка с мокрыми лентами ходила с большей против обыкновенного энергией, и медные тарелки отбивали такт, словно бы звоном своим желали пересилить свист завирухи.
Аи, да раскудрявь, кудрявь, кудрявь-да
Ррраскудрявая моя! –
отчеканивали громкие и бойкие голоса развеселую песню про вешнюю зеленую березыньку.
Нечего сказать, и песня как раз по сезону!..
А крутень завивается, да лепит хлопьями в глаза, и знать себе ничего не хочет!
Но вот порой на минутку словно бы и притихнет ветерок, и хотя снежина все-таки валит себе хлопьями, но сквозь этот снежный вуаль можно как будто и распознать длинную-предлинную полосу, которая слева чернеется впереди на дальнем горизонте: это выступают окраины громадной пущи, в глубинах которой бродят, как последние могикане вымирающей породы, могучие зубры Беловежи.
Вот и деревня Рожки с заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всем ее садом, бельведером, беседками и прочими затеями панского досужества, дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчат по берегу болотистого и запруженного ручья. Этот ручей, изобилующий карасями и жабами, сплошь зарос камышом и гибкими кустами тонкого лозняка, который красноватыми прутьями своими резко выделяется на снежном фоне всей картины вместе с черными, помпонов ид ным и шишками камыша, почему-то напоминающими мне своим видом артиллерийские банники. Из-за садовой ограды глядят высокие, древние деревья с черными гнездами, грустно и задумчиво перевесившись на дорогу своими ветвями, которые никнут чуть не до земли, отягченные насевшими на них комьями снега.
Команда наша вступает на низенький, дырявый мостишко.
– Под ноги! – кричит по обычаю вахмистр, остерегая людей, чтобы те внимательней следили, как бы часом которая лошадь не застряла копытом да не покалечилась бы в мостовой продолбине.
Своротили влево, а там в трех верстах уж и Свислочь видна со своим каменным обелиском, костельною башней и каменными воротами, поставленными при въезде, вроде какой-то триумфальной арки. Вот знакомая сосновая рощица, где водятся белки; вот озерко небольшое, где мы бивали уток; вот кладбищенская роща, среди которой белеются стены каплицы, а вот наконец и она, неизменная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренции в самом местечке, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслеповатыми, окривелыми оконцами, как бы говорит каждому мимо идущему: «Зжвините!.. хоць на еден ки лишек!»
Вдоль по улице метелка метет, –
За тетелвцей уланина идет! –
свищет и щелкает, и гаркает, и ухает моя команда, – и с этой песней, вся запушенная и занесенная снегом, вся белоусая, белобровая, белобородая, вступает в улицу местечка, цо которой в эту минуту действительно метет разлихая метелица.
Еврейское сердце не камень: заслышав знакомые звуки, все эти Лейбки и Мошки с Васьками и Рашками и со всем племенем и потомством высыпают в чем ни попало за пороги своих домишек и, потряхивая пейсами да скаля улыбками зубы, кланяются, кивают и ныряют вперед головами и бородами и с розовой мыслью о предстоящих гандлах и гешефтах встречают нас своими приветствиями:
– А! гхэто ви-и… Сштари зжнакоми! Пэрвши сшквадроон!.. Зждрастуйте вам! зждраствуйте вам!.. Мы такии радыи вам, сшто ви изнов попереходзили до нас!.. 3 зжимним квартэром!.. Дай вам Бозже!..
На площади команда останавливается, и квартирьеры разводят ее по конюшням.
Самая «вальготная» стоянка для солдата – это, бесспорно, стоянка «во взводе», т. е. в той глухой деревушке, брошенной в какую-нибудь часто непроездную и невылазную трущобу, где назначено стоять его взводу. Иногда взвод разбивается и на две смежные, ближайшие деревушки. Начальства над ним тут всего лишь один взводный вахмистр, и службой его несравненно менее донимают. Иногда бывает и так, что один эскадрон раскинется по широким квартирам верст на двадцать расстояния. Придет солдат на зимнюю стоянку и станет, конечно, к знакомому хозяину, где стоял он и прошлую, и позапрошлую зиму. В этой курной хате он свой человек, особенно если полюбился хозяйке или хозяйской дочке – его так уже и считают своим человеком. Накормят его чем Бог послал, но уж, конечно, тем, что и сами едят, и не их вина, если едят они испокон веку плохо, кроме картошки да гороха ничего не смакуточи; разве что когда к Рождеству да к Святой «кабаны поколят» – то тогда и борщ со свининой, и кашу с салом на стол подадут, а в обыкновенное время все больше картофельного «затиркою» да кулешиком пробавляются. Литовско-русский крестьянин просто поражает глаз непривычного человека своим хилым, болезненно-бледным, робко-забитым и как бы отощалым видом. Виною этому кроме нравственного гнета недавних времен польской панщины служит, конечно, его скудная, малопитательная пища при изнуряющем мускульном труде над малоблагодарной почвой. Но этот забитый хлоп очень добродушен и радушно делится с солдатом своей картошкой. Женка или дочка его непременно моет белье и к празднику – гляди – сошьет ему сорочку, или по-здешнему «кошулю»; а постоялец чем может помогает по хозяйству: дров нарубит, лучин для светца надерет, воды наносит – и живет таким образом хлоп с солдатом весьма дружелюбно, уделяя ему и место за столом, и угол на печке, и часто "прощает*, т. е. дарит солдату его паек казенный.
Солдат сегодня к вечеру пришел на квартиру, а завтра утром первым делом устроил конюшню, на которой всегда стараются ставить хоть по паре лошадей, потому что, по замечанию кавалеристов, конь скучает и плохо ест, если один стоит. Затем раза два в неделю взводный вахмистр сделает езду своему взводу, раза два соберет «грамотную команду» и «в книжку почитать» заставит, а остальное время у солдата свободно, за исключением утренней и вечерней уборки коня, задачи корма да водопоя: он себе и тачает сапоги, либо портняжит, либо столярит и через то кой-какую деньгу зарабатывает.
Но нет хуже для него стоянки, как у жидов на квартире, что неизбежно случается в местечках.
Еврейская семья может довольствоваться неимоверно малой долей самой неприхотливой пищи: фунта два хлеба, селедка да несколько цибулек – вот и все дневное пропитание. Только к шабашу приготовят они себе пищу получше: щуку маринованную или фаршированную с перцем, кутель запекут; но это пища «ко-ширная», т. е. чистая, и солдату ее не дадут отведать. Вообще, солдату еврей не дозволит сесть за тот стол, за которым сам он сидит с чадами и домочадцами: солдат ест «трефное», и все, что ни исходит от него, есть «треф», поэтому прикосновение к кошир-ному столу, к коширной ложке, тарелке, к коширной посудине неизбежно «потрефит» их, т. е. осквернит и сделает негодными к употреблению. Для солдата евреи заводят особый горшок, в котором особо варят ему пищу, избегая по возможности даже в самой печи ближайшего соседства горшка трефного с горшками кошир-ными. Когда солдат ест, то свою посудину он должен поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособление, вроде скамейки, табурета, чурбана, но никак не на тот стол, за которым едят сами евреи; исключение допускается только в корчмах, где непременно имеются трефные столы, предназначенные для нечистых «гоев», к числу которых относятся все, кто не суть евреи. В местечках живут иногда и не совсем-то бедные евреи, которые держат свои лавки, занимаются каким-нибудь более или менее определенного свойства «гандлом» и потому имеют возможность питаться чем-нибудь лучшим, нежели селедки и цибульки; и действительно, они несравненно менее отказывают себе в более лакомом и питательном куске; но опять-таки этот кусок никак не для солдата. Хлоп по крайней мере делится с солдатом тем, что и сам ест, жид никогда не поделится, никогда не отольет долю своей похлебки из своего коширного горшка в трефный горшок солдатский; для солдата он все-таки готовит особую пищу, и эта последняя несравненно хуже и скуднее его собственной. Горячую воду в горшке замутит еврейка ложкой муки, покрошит одну цибульку, кинет несколько картофелин – и предлагает это яство солдату. Любишь не любишь, а ешь, потому что есть хочется! Солдат вообще терпелив и редко когда жалуется; но постой у евреев иногда возбуждает между солдатами сетования и жалобы вполне справедливые.
– Уж не то обидно, – говорят они, – что кормят тебя черт знает какою бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нет того, чтобы тебе поставили по-людски! – На, вот, мол, солдат, поешь, чего Бог послал; не взыщи, что пусто! Нет ведь, подлые! Сунут ее тебе под нос, словно как псу какому лядащему! Сама сунет, а сама так этта зирнёт на тебя, словно бы говорит: «На, жри, собака! Да подавись ты, окаянный!» Бот что обидно, коли по человечеству судить-то!
Это самое обстоятельство часто служит мотивом ссор между постояльцем и евреем-хозяином. Раз, помню, был такой случай: довольно зажиточный еврей – лавочник и домовладелец – долгое время кормил постояльца из рук вон плохо! Солдат терпел, терпел да и не выдержал: взял однажды свою посудину с бурдой да понес к эскадронному командиру: «Извольте, мол, посмотреть, ваше высокоблагородие, чем меня изо дня в день кормят!» Майор попробовал, и точно: мерзость была невообразимая! Призвал он к себе еврея-хозяина и внушил ему, что коли сам ешь вкусно, так и стыдно, и грешно обделять постояльца, который ничем не виноват, что ему довелось стать сюда постоем. Но еврею хоть кол на голове теши! Где бы урезониться, а он, кажись, еще хуже стал продовольствовать солдата. Тот терпит день, терпит другой, а на третий озлился, и только что ему ткнули под нос горшок с холодною бурдою, он попробовал, видит, что плохо, встал и, не говоря дурного слова, вылил сполна этот горшок на покрытую париком голову «мадам Пейсаховой». Евреи всполошились. Всполошился весь род их и племя, вся родня и знакомые! «А! сшволочь, тибе тэраз будут до Сибиру сшправляць! Гхарасшо!» – и идут всем кагалом жаловаться к эскадронному командиру; но здесь они встретили отпор, и отпор вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство с солдата, который раньше этого употребил единственный оставшийся ему законный путь, с солдата, доведенного голодом до такого проявления своей досады, – едва ли было бы политично. Евреи хотели было подымать целое дело, но убоялись расходов на протори и убытки и потому остались при одних лишь угрозах.
Солдат не любит становиться постоем к еврею. И не столько оттого он этого не любит, что его там дурно кормят (дурно кормят и у хлопа, хоть и все же чуточку лучше), но не любит он «жидовского постоя» потому главнейшим образом, что у еврея он встречает какое-то гадливое и слишком презрительное отношение к своей человеческой личности. Еврей считает себя выше, чище, аристократичнее солдата, которым он думает всегда помыкать, если только солдат имеет такую недолю, что станет на еврейскую квартиру. В прежние годы в этих случаях употреблялся авторитет силы со стороны начальства: ныне он отнюдь не употребляется. В принципе оно очень хорошо, но на практике солдату приходится от этого гораздо плоше, чем прежде. Помочь горю можно одним: полной отменой широких квартир на обывательских хлебах и заменой их если не казарменным, то хотя бы тесным расположением с пищей из котла, причем солдат постоянно имеет на свою долго говяжий суп, щи или горох с четвертью фунта мяса и, кроме того, кашу с маслом или салом. Теперь мы зачастую являемся свидетелями таких фактов, что солдат в течение пяти, а иногда и шести месяцев зимней стоянки на широких квартирах принужден питаться одной вареной картошкой. Подумайте, насколько вследствие этого у нас увеличивается общий процент слабосильных людей! Весну и лето, довольствуясь из котла, солдат ест хорошо; но в это время у него и работы по горло, в особенности же в кавалерии, где надо о лошади думать прежде, чем о себе. Остается зима: где бы солдату поправиться, понабраться силы, а он ест одну картошку, да картошку, да тюрю с цибулькой, да кулешек, да затирку, а мясо видит только на Великий праздник, да и то не у всякого хозяина!.. И это – почти общее свойство зимних стоянок Северо-Западного края. Конечно, встречаются иногда почти целые волости, как, например, Шимковская в Волковысском уезде, которые представляют собой исключение, но… это все-таки исклю чение, весьма счастливое и потому весьма редкое. В течение зимней стоянки эскадрон в отведенном ему районе меняет через каждые шесть-восемь недель места своего расположения: взводы переходят из волости в волость на новые квартиры, и это делается для того, собственно, чтобы не слишком обременять обывателей одной какой-либо довольно ограниченной местности. Один только «эскадронный двор» или «штаб» остается неизменно в одном и том же месте во всю зимнюю стоянку, например в Свислочи, в Великих Брестовицах, в Скиделе, в Закревщизне; взводы же непременно меняют свои квартиры в прилежащих окрестностях. Но солдату, за весьма нечастыми исключениями, от этого отнюдь не лучше: везде и повсюду та же теснота, та же затирка и картошка, те же отвратительные гигиенические условия для жизни!.. И стало быть, выход из подобного положения только один: если не казарменное, то тесное расположение с довольствием из артельного котла. Широкое расположение имеет еще много и других неудобств, весьма существенных для военного дела: для грамотности, для развития и образования солдата в чисто военном отношении, для постоянной практики в военных упражнениях и проч. И как теперь, так и всегда, результат, естественно, будет выходить один и тот же: необходимость тесного, сборного расположения эскадрона или роты.
Итак, мы в Свислочи, среди обширной, четырехугольной базарной площади этого местечка, сплошь обставленной старинными еврейскими домами и домишками с высокими, острогребенными кровлями.
– Где же мне квартира отведена?
– А вот, пожалуйте, ваше благородие! – говорит, руку под козырек, наш квартирьер. – Пожалуйте со мною! Сюда вот, на Брестскую улицу! Под ваше благородие нам отвели у Кудлаковских.
Брестская улица представляет собою довольно длинный, прямой и широкий проспект, в конце которого вырисовывается силуэт католической каплицы с легкою башенкой, а по бокам ее двое каменных триумфальных арок, и над ними по сторонам возвышаются купы древних тополей, вязов и грабов. Такая улица – хоть и в губернском городе, так ничего бы себе. Белые деревянные домики с крылечками и беленые хатки, иногда с палисадниками, тянутся по бокам этой улицы. В одном из таких домиков помещается отведенная мне квартира.
Пан Кудлаковский – старый ветеран польских войск; у него имеются: «стара пани» – его супруга и две "дцурки* – довольно зрелые и некогда, быть может, недурненькие девы; у двух же дцурок есть «канарек у клятце» и «пантальоны», т. е. канарейка в клетке и древние, разбитые клавикорды, иногда с черными клавишами вместо белых и с белыми заместо черных, что не редко встречается в Свислочи; и все это есть у них непременно, потому что без «канарка у клятце», без олеандра на окне и без этих мафусаиловых «пантальои» невозможно даже и вообразить себе ни одного шляхетного дома в Свислочи.
Через темные сени вхожу в отведенную мне половину – бррр!.. – как это все здесь холодно, мрачно и неприглядно!.. Сам пан со своей семьей ютится в другой, удобообитаемой половине дома; мне же отвели половину, никогда никем необитаемую уже довольно долгое время и существующую почти исключительно для военных офицерских постоев либо же для склада на зиму кое-каких хозяйственных припасов. Мне за это, конечно, нет ни малейшей надобности – да нет и права быть в претензии на пана Кудлаков-ского; но темнота, холод и неприглядность все-таки остаются, и надо позаботиться о том, чтобы какими ни на есть судьбами изгнать их отсюда поскорее: в одном окне отбита часть стекла – заткнем его покуда хоть сеном. Двойные рамы не вставлены, и потому около оконных переплетов образовались ледяные бугры, запушенные снежным налетом и с виду напоминающие прекраснейший, рафинированный сахар; стены тоже покрыты серебрящимся снежным налетом. Видно, что комната эта ни разу еще с лета не топлена и потому выстудилась и нахолодалась до того, что самые стены ее наружные насквозь промерзли. Послал к хозяевам за дровами.
– Не отпущают дров, ваше благородие… не желают!
– Поди и купи у них1 Скажи, мы деньги сейчас же заплатим.
Пошел вестовой и через малое время вернулся.
– Пожалуйте деньги-с, ваше благородие… Неси, говорят, деньги, тогда отпустим… Злот за вязанку требуют.
Однако, не любезен же пан Кудлаковский: хотя, в сущности, и обязан бы по положению отопить мне комнату, но уж не говоря про то – ни за что ни про что и даже не зная меня вовсе, на одну нязанку дров не желает оказать кредита; видно, хочет выморозить постояльца-москаля вместе со своими тараканами. Выдал я два злотых и приказал на всякий случай притащить две вязанки. Мебели в квартире не оказалось никакой, за исключением чего-то вроде конторки или шифоньерки – вещь, которая решительно никуда и ни к чему не была мне пригодна в настоящем моем положении.
– Бочаров! Сходи к хозяевам и скажи, что я прошу прислать мне какой-нибудь стол и стул, что здесь даже сесть не на чем.
– Вежливо прикажете просить, ваше благородие? – отозвался вестовой.
– Вненепременнейше вежливо! Никак не иначе!
– Слушаю-с!
Повернулся и ушел, а через минуту возвращается:
– Изволил просить, ваше благородие!
– Ну, и что ж?
– Я даже очинно великатно-с… но только аны не изволят соглашаться – потому, говорят, ничего у них лишнего нету.
– Поди еще раз и скажи, что они обязаны по положению дать мне необходимую мебель.
– Слушаю-с!.. Но тольки… теперича…
Бочаров видимо запинался.
– В чем дело, братец?
– Да я… опять-таки насчет того, ваше благородие, как то есть на этот раз просить прикажете? Опять-таки вежливо-с?
– Да что это у тебя за вопрос, любезный! Как же иначе, если не вежливо?
– Напрасно-с, ваше благородие… потому они по чести ничего этого не желают, а все норовят как бы это с гвалту, чтобы жалиться потом на нас! Уж я ведь знаю ихнего-то брата!
– Ну, вот потому-то и проси вежливо! Вдвое, втрое, вдесятеро вежливей!
– Слушаю-с!
После пятиминутных переговоров Бочаров возвратился и как-то странно ухмыляется.
– Пожалуйте деньги, ваше благородие.
– Зачем?.. Какие деньги?
– Потому как я изволил вам докладывать, что они либо с гвалту, либо за деньги, а по чести никак не желают.
– Что это, братец, за вздоры ты рассказываешь?
– Никак нет-с, ваше благородие! – солидно стал оправдываться Бочаров. – Я у них просил, а аны говорят, у нас нету. Я им: как же, мол, нету, коли комнаты у вас полным-полнешеньки – и стулья и диваны? А это у нас, говорят, для своей, для хозяйской надобности; а что ежели вы, говорят, насчет закону, так мы, говорят, свой закон исполнили и этих самых меблов вам поставили.
– Где же эта мебель и куда они ее поставили?
– А вот этот самый чертов тычек, ваше благородие! – кивнул вестовой на стоявшую в углу шифоньерку. – А что ежели вам угодно брать, говорят, с гвалту, на разбой, так это мы со всем нашим удовольствием – хоть весь дом на клочки разнесите!..
Одначе я им на это докладываю, что силком их благородие не желают, а просят вас по чести. А по чести у нас, говорят, нету! А вы, говорят, либо с гвалту, либо за деньги в наймы – полтора рубля на месяц прокату.
Как ни странно было заявленное мне желание, чтобы мебель была взята мною насильно, но кто знает отношения местного мелкого шляхетства ко всяким представителям «силы наяздовей» в том крае, тот поймет и подкладку, затаенную сущность такого желания: возьми я насильно необходимую мне мебель – пан Кудлаковский ни к какому начальству, ни к какой власти не пошел бы на меня жаловаться; но он вместе с своею пани и паннами изо всех бы сил принатужился и пошел трубить да благовестить на вся веси и дебри, ко всем, «родакам» и «знаемым», что вот, мол, каково наше положение! вот какое насилие! вот в каких условиях обречены мы влачить наше существование! и т. д. – в подобном же роде. Пан Кудлаковский имел бы случай, благодаря мне, очень долго изображать из себя жертву вечернюю, и увы! – этого-то счастливого случая я и лишил его!..
Принесли напрокат стол и два стула; затопили печку, но дым из нее повалил такой, что давай Бог только поскорее все двери настежь! Долго мы мучились с этою злосчастною печкой, пока-то наконец кое-как отогрелась она, но уж зато и накалили ж ее так, что хоть бы доброй бане впору. Закрыли вьюшки – угар, и, снова дверь настежь. Самовар уже кипел на столе, но с сегодняшним утром вышли все мои съедобные запасы, а есть хочется. Знаю я, что в Свислочи обретается некая пани Генальска, у которой в прошлые стоянки «столовались» наши офицеры. Посылаю к ней вестового с деньгами и с просьбой сварить мне сейчас же ухи или супу (ибо трое суток питался, что называется, всухомятку) да заодно уж узнать, сколько возьмет она с меня в месяц за столованье.
– Не желает, ваше благородие! – докладывает, возвратись, мой посланный. – Совсем не желает!
Это начинало делаться досадным. Да и что такое, в самом деле, все и вся не желают да не отпущают, словно бы нарочно сговорились!
– Что же говорит она, – спрашиваю, – почему именно не желает?
– Да говорит, что… что ж мне, говорит, из-за тарелки супу ходить на базар, покупать говядину аль рыбу там, что ли, коли и базар уж давно кончился, и говядины, может, нету, да опять же дрова палить, печь затоплять, да варить, да и мало ли что… много хлопот, говорит, ваше благородие.
– Да ты сказывал ли ей, что ей деньги за это заплатят?
– Сказывал, ваше благородие, как не сказывать! И даже очинно явственно показал ей рублевую бумажку, что вы дать изволили, но только она все же не желает, хоть и деньги, потому, говорит, из-за пустяков хлопот больно много!
–Ну, а насчет столованья как?
– Да… насчет столованья-то… тоже почитай, что не согласна. Кабы, говорит, четверо аль пятеро их было, так она бы ништо, а для одного – хлопот много… Разве что, говорит, станут платить ровно что за пятерых, тогда пожалуй… Нет уж, ваше благородие, у этой Генальской – дух ея канальский… Я ведь уж ее знаю!.. Как есть лядащая баба, это так точно-с!
«Грустно, – говорю себе, как Горбуновский батюшка на панихиде, – очень грустно» – но ничего не поделаешь и сердиться нельзя, тем более что пани Генальска, со своей точки зрения, права совершенно, и для чего ей, в самом деле, хлопотать и беспокоиться ради совершенно постороннего человека, и притом москаля, когда эти хлопоты не принесут ей ровно никаких заметных, существенных выгод?
Надо, значит, самому о себе промыслить.
Вспомнил я, что, по рекомендации приказчика конной почты, в Свислочи есть «мадам Янкелева», которая «сшвой лявка держит з рижской вина и з увсшеким припасом». Не выручит ли хоть эта благодетельница рода человеческого, думаю себе. Посылаю за Мадам Янкелевой. Через несколько минут в смежной горнице слышится чей-то женский запыхавшийся голос и топот обтираемых и отряхаемых от снега ног – и вот, вслед за этим, в комнату ко мне вдруг, как чиненая бомба, влетает что-то коренасто-приземистое, широкоплечее, короткошеиное, задрипанное, зашленданное и грязное-распрегрязное.
– Здравствуйте вам! – возглашает это нечто запыхавшимся голосом.
– И вам здравствуйте! – отвечаю я и начинаю приглядываться: передо мной стояла и во весь широкий, крупногубый рот улыбалась, скаля прекрасные белые зубы, некая молодая особа женского пола, толстомясая, толстомордая, с красными щеками, которые так и дрожали при каждом ее шаге, пылая несокрушимым здоровьем, – стоял этот крепыш-карапузик и, улыбаясь, глядел на меня маленькими, бегающими и смеющимися голубыми глазками.
Голова ничем не прикрыта, волосы, как стреха, встрепаны и в пуху, на плечах какая-то легонькая, порыжелая бархатная кофточка, в которой, очевидно, она так и прибежала сюда с улицы.
– Это вы-то и есть мадам Янкелева? – спрашиваю я, решительно не узнав ее в первую минуту.
– Я?.. Нет, извините!.. – громко засмеялась и затараторила она звонким, молодым, еврейско-гортанным голосом. – Нет, я же не мадам Янкелева, я – Лэйка Янкелювна, цурка мадам Янкелевой – мамзель Лэйка Янкелювна… Кохда ж ви не взнали мине? У мне ж еще есть брат Ицек и сестра Рашка, и Рашка вже замуж виходила, и тоже сшвой ляфка держит с халсцинкой и с сшитцом и с увсшеким матэрьюм, и вже сшвой дитю вмеет… И кохда ви будице што пакипать с матэрьюв, то ви в Рашки пакипайтей!.. Сшпизжалуста!
Тараторит – и здоровые щеки ее при этом трясутся, а сама все улыбается да белый и ровный ряд зубов своих скалит. Выражение довольно открытое, и лицо можно бы было назвать даже симпатичным, но – Боже, что за грязь, что за грязь, что за смоклая грязь! и что за запах! – на пять шагов так и разит «щилёдкем» и «щибулькем».
– Очень приятно познакомиться, возобновить то есть старое знакомство!
Мамзель Лэйка, стоявшая как тромбовка или тумба какая, вдруг делает кникс и видимо старается изобразить его не без кокетства.
– И мине так самож… Отчин давольна периятно!
– Ну, вот что, моя милая, мне ужасно есть хочется.
– Ой, и мине так самож! – смеется на это Лэйка. – Я вже пакушила, пакушила и вже знов кушить гхочитца!.. Как пакушию, так и зновь кушить!.. так и зновь!.. Сшлиово гхонорем!
– Что у вас есть в вашей лавке?
– Увсше есть.
– Ну, однако?
– Увсше, сшто ни сгхочите!
– А например?
– Щилётки есть.
– Ну, это по твоему запаху слышно, что она у вас есть. А кроме селедки?
– Сшир козлячий есть, сшир гхаляньсшки, сшардынки есть увсше есть… Ай нет! Зжвините! – вдруг спохватилась она. – Вже нима ни сшир, ни сшардынки, бо вже увсше пакипили од пана Родовицкего, од пана с Гобяты, от пани Глиндзич – увсше, увсше вже пакипили и ниц нима; толки сшир козлячий есть!.. Ютро будьзмы до Бялысшток пасилац накипать товару, то на чвартек увсше будзиц у лявка! А до чвартек – ни!
– Ну, до четверга еще длинная песня! А не можете ли вы как-нибудь достать мне рыбы или говядины?
– Ри-ибы чи то гховьядины?.. Мьяса? А на цо то мьяса?
– Сварить суп: или уху…
– Шюп чи то уши?.. Мозжно й шюп, мозжно й уши, але ж на сшиводно вже не мозжна пакипить а ни мьяса, а ни рибы…
– Ну, да что же у вас есть, наконец, кроме селедок да козлячьего сыру?
– Увсше есть! – самоуверенно шмыгнула носом мамзель Лэйка и почесала всею пятерней с правого бока по юбке. – Увсше, сшто ни сгхочите!
– Это я уже слышал.
– А сшто ви сшлишал? – вдруг любопытно встрепенулась дщерь Янкеля.
– Что у вас все есть.
– А!., а я думала, сшто другово! – разочарованно мотнула она головой и стала перечислять припасы своей лавки. – Мигдал есть, розинки, павидло, цукаты, щиколяты, пераники розмайтых гатункев, увсше благхородны перипасы!.. Трухли есть!
– Как! Даже и трюфели!? – невольно изумился я.
– А так! Есть и трухли! – не без гордости похвалилась Лэйка.
– Да откуда ж оне у вас?
– На-асши… тутейши! Их тут зе псом шукают…
– Как это зе псом?
– А так. Пьес гходит до лясу и увсше нюгхает, нюгхает из носом сшвоим по земю – и увсше так нюгхает и напотом роет, роет сшебе и з лапом сшвоим – увсше так роет и знагходит трухло!.. А мы вже напотом егхо препаруем и отпусшкаем до предажи. Мозже гасшпидин спиручник трухли гхоче?
– Коли другого нет ничего, неси хоть трюфели, пожалуй!.. Да нет ли еще хоть яиц то у вас?
– Яйки?.. А як зже-жь!.. Яйки – яйки есть! А сшколки яйков гхля пана?
– Десятка три неси: мне надо и вестовых моих накормить.
– Зараз, зараз, гасшпидин спиручник зараз! – замахала руками Лэйка и бомбой стремительно вылетела из комнаты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.