Текст книги "Угрюм-река"
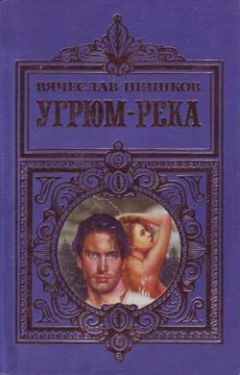
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
VIII
Вечером у Петра Данилыча званые блины. Конечно, присутствовала и Анфиса Петровна Козырева. Она всячески льстила Прохору, заглядывала в его глаза, но он, – хотя это стоило ему больших усилий, – почти не замечал ее или старался оборвать красавицу на полуслове, уязвить. И чем больше раздражался, тем сильней загоралось в его душе какое-то странное чувство: вот бы ударил ее, убил и с плачем бросился бы целовать ее мертвые обольстительные губы.
А его все наперебой:
– Прохор Петрович, расскажите: как вы?.. Будьте столь любезны.
И в десятый раз он начинал рассказывать все новое и новое, припоминая потешные, удивительные случаи из своих опасных странствий. Но как-то сбивчив, неплавен выходил рассказ, – злая сила колдующих глаз Анфисы крыла его мысли путаным угаром.
– Я, мамаша, освежиться пойду. – Он встал и вышел.
Было звездное, словно стеклянное, с прозеленью небо, и серп месяца – зеленоватый. У церкви горели костры. Парни заставляли скакать чрез огонь молодиц и девок, скакали сами. Визготня, смех, крики. Огни высокие, пламя с пьяными хвостами. Гармошка, плясы, поцелуи.
Прохор встал среди толпы, высокий, статный. Молодухи с девками потащили его к костру. Как крылатый конь, перемахнул Прохор через пламя. Солдатка Дуня повисла у него на шее и обслюнявила его губы влажным своим ртом. От нее пахло водкой, луком. Он так ее стиснул, что треснули у бабы все завязки, она с визгом повалилась в снег, увлекая за собой Прохора. И сразу – мала куча. Прохор с кряхтеньем высвободился из груды навалившихся на него тел, и началась возня. Гам и крик стоял, как на войне.
Прохору стало жарко. Он расстегнул полушубок и, спасаясь от подгулявших баб, трусцой побежал чрез площадь к избам. То и дело попадались пьяные. Прохор направлялся прогоном за село. Взлаивали собаки. Вдали, весь в куржаке, мутно серебрился лес. Глухо-глухо доносился оттуда стон филина. Вспомнился шаманкин гроб в тайге, вспомнился последний страшный час, занесенный над ним кинжал черкеса, колдовской бубен и Синильга. Какой ужасный сон! Никто не узнает об этом сне: ни Ибрагим, ни мать. И как хорошо, что он жив, что он здесь, на родине, возле близких. И как он рад, что у него есть Ибрагим и мать! Но почему же так неспокойно бьется его сердце? Анфиса? Он готов принести клятву, вот тут, сейчас, перед этим полумесяцем – он разлучит ее с отцом.
– Мама-а! Что сделал с тобой отец...
И ему захотелось криком кричать, ругаться. Он отомстит ей за каждый седой волос матери, за каждую раннюю ее морщинку. Но как, как?
– Как?!
И засмеялось пред ним нежное лицо Анфисы, и так соблазнительно открылись розовые губы ее.
– Ниночка! – крикнул Прохор, чтоб прогнать искушение. Милая Ниночка... Невеста моя!..
Лунная ночь. Он возвращался из леса. Масленица еще не угомонилась. Костры так же горели: возле них с песнями кружилась молодежь, кой-где бродили по сугробам пьяные; из конца в конец перекликались петухи.
Вот вырвалась из лунной мути тройка, забулькали-затренькали бубенцы с колокольцами – мимо Прохора прокатил отец. Рядом с ним – Анфиса. На ее голове бледно-голубая шаль. Отец что-то выкрикивал пьяным голосом и крутил в воздухе шапкой. Она смеялась, и серебристый, тронутый грустью смех ее вплетался в звучный хохот бубенцов.
«Ага!» – про себя воскликнул Прохор и, незамеченный, бегом – домой.
Тройка уже стояла у купеческих ворот. Прохор спрятался в тень, напротив. Отец поцеловал Анфису, сказал: «Иди с Богом» – и покарабкался на крыльцо. Она застонала протяжно так: «о-ох!» – и пошла к себе, сначала тихо, затем все ускоряя шаг.
Прохор подбежал к взмыленной тройке, повелительно шепнул ямщику: «Живо долой!» – и вскочил на облучок. Высокая, скрестив на груди руки, красавица в раздумье шла, опустив голову. Прохор забрал в горсть вожжи, гикнул и понесся на нее. Она быстро обернулась, хотела отскочить:
– Прохор! Жизнь... – но пристяжка смяла ее.
– Эй, стопчу! Не видишь?! – крикнул Прохор, и тройка помчалась дальше.
Вся в снегу, белая как снег, поднялась Анфиса, постояла минуту, поглядела вслед тройке и заплакала неутешно. Тройка мчалась к лесу. Глаза Прохора сверкали. Сверкали звезды в ночи. Прохор закусил губы, голова его закружилась. Закружились звезды в ночи, и месяц скакнул на землю. Тоска, холодный огонь, мучительный стыд и жалость...
Петр Данилыч ругал жену, грозился, орал на весь дом, требовал Прохора.
Вошел Ибрагим, поворочал глазами страшно, сказал:
– Крычать нэ надо. Хозяйку обижать нэ надо. Пьяный – спи. А нэт – кинжал в брухо...
Петр Данилыч что-то пробурчал и быстро улегся спать.
Потрясучая ведьма по прозвищу Клюка растирала скипидаром крепкое белое тело Анфисы. Анфиса стонала, очень больно ногу в бедре. Клюка завтра поведет Анфису в баню, спрыснет с семи окатных камушков водой.
– Как ты это? Кто тебя?
– Сама. Сама.
И не спалось ей всю ночь. Всю ночь, до морозной зари, продумала она. Как сиротливо ее сердце, как оно горячо и жадно!
«Сокол, сокол!.. Кровью своей опою тебя. От всего отрекусь: от света, от царства небесного. А ты не уйдешь от меня... Сокол!»
Всю ночь напролет, до желтой холодной зари, строчил Прохор письмо Нине Куприяновой. И не хотелось писать, – забыл про Нину, – но стал писать. Напишет строчку, схватится за голову, зашагает по комнате, зачеркнет строчку и – снова. Самые нежнейшие слова старался подбирать, и все казалось ему, что слова эти лживые, придуманные, без сугрева. С письма, со строк глядели ему в сердце укорные глаза Анфисы.
– Милая, – шептал он, злясь, – милая... Ниночка...
Но Анфиса принимала это на свой счет и кивала ему ласково и вся влеклась к нему.
Прохор стукнул в стол, в клочья разорвал бумагу и, не раздеваясь, лег. Снилась рождественская елка в городе, в общественном собрании. Он – маленький, с бантиком и в штанишках до колен. Какой-то незнакомый дядя в сюртуке подарил ему золотую лошадку.
IX
Анфиса скоро оправилась. Она никому не сказала. Молчал и Прохор.
Была хорошая пороша. Прохор взял двух зайцев и возвращался домой. Нарочно дал крюку, чтоб пройти мимо Анфисиных ворот. Солнце было золотое. В воробьиных стайках зачинался весенний хмель. Анфиса сидела на завалинке в синем душегрее, на голове богатая шаль надета по-особому: открыты розовые уши и длинные концы назад. Рядом с ней Илья Сохатых: франтом.
– Здравствуйте, Прохор Петрович! – Она встала и стояла, высокая, тугая, глядела ласково в его лицо.
– Здравствуйте! – Чуть-чуть взглянул – и дальше. «Какая, черт ее дери, красивая!» Потом оглянулся, и вдруг сердце его закипело:
– Илья! Домой! На, отнеси зайцев.
– Сегодня ведь, Прохор Петрович, по календарному табелю праздник.
– Поговори! – Губы его прыгали. Нет, он отвадит этого лопоухого мозгляка от Анфисы.
Как-то вечером он был дома один, с жадностью перечитывал Жюль Верна.
– Здорово, светик!
Он поднял голову. Пред ним в черном шушуне – Клюка, голова трясется, мышиные глазки-буравчики сверлят, рот – сухая береста. Он продолжал читать. Она села рядом и стала гладить его по спине, по голове, поскрипывая смехом, как скрипучей дверью, и покряхтывая:
– Ох, и люб ты ей!
Прохор глядел в книгу, но уши его навострились, и полет по Жюль Верну на Луну сразу оборвался.
– Брал бы. Она не перестарок, двадцать второй годок идет.
Щеки Прохора покраснели, и онемевшие строки исчезли вдруг.
– А какая бы парочка была!.. По крайности – отца отвадишь, мать спасешь. – Голова ее тряслась, на глазах навернулись слезы, пахло от нее тленом, могильной землей, но слова ее шпарили, как кипяток.
– А у тебя, бабка, есть зубы? – спросил Прохор.
– Нету, светик, нету.
– Жаль... А то бы я тебе выбил их. Уходи.
– Дурак ты, светик, – сказала Клюка, схватилась за перешибленную годами спину и, заохав, поднялась. – Ососок ты поросячий, вот ты кто. Этакую кралю упускать! Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит... Эх ты, дурак паршивый!.. Хоть бы матку-то пожалел. Зачахла ведь. – И скрипучей дугой к двери, подпираясь батогом.
– Бабка, слушай, – вернул ее Прохор и сунул ей в руку рубль. – Скажи, бабка, только не болтай никому, слышишь? Она любит отца?
– Отца?! – вскричала бабка. – Христос воскресь... Помахивает им... Больно нужно...
– Врешь... Слушай, бабка! А Илюха, приказчик наш, часто ходит к ней? Слушай, бабка...
– Да ты чего дрожишь-то весь? Тебя любит, вот кого, тебя! А мало ли к ней ходют... Знамо дело, мухи к меду льнут. Вот поп как-то пришел, сожрал горшок сметаны – да и вон. Помахивает она.
– Врешь! Она отцова любовница... Она...
– Тьфу! Будет она со старым мужиком валандаться. Говорят тебе – ты один... Эх, младен! Ты ее в баньке посмотри – растаешь... Сватай знай. Не спокаешься... А то городскую возьмешь с мошной толстой, загубишь красу свою, младен. Может, на морду-то ее и смотреть-то вредно...
– Скажи ей... Впрочем, ничего не говори... Иди... Ну, иди, иди. Убью я ее, так и скажи... Убью.
Он долго не мог успокоиться. Жюль Верн полетел под стол. Взял геометрию и бессмысленно читал, переворачивал страницы с треском. Ведьма эта Анфиса. Она раздевается пред ним среди цветов: «Здравствуйте, Прохор Петрович!» Она, не торопясь, входит в речку. Нет, это Таня... Милая Таня, где ты, нахальная, смешная Таня? Квадрат гипотенузы равен... К черту гипотенузу! Зачем ему гипотенузы? Ему надо деньги и работу.
И пляшет пред ним менуэт темнокудрая Ниночка, и в руках ее, над головой, гипотенуза держит за кончики гипотенузу и плавно так, плавно поводит ею, улыбаясь: «Тир-ли, тар-ли, тир-ли-ля...» «Ниночка!» Он валится на диван и закрывает глаза. Он целует и раздевает Ниночку. Она смеется, сопротивляется. Он умоляет: «Разреши». Он никогда не видал, во что одеты барышни. Кружева, взбитый, как сливки, тюль, бантики.
Кровь приливает к голове, во рту сухо, ладони рук влажнеют.
– Вот «Ниву» привезли папаше с почты, из села, а тебе – письмо. Ты здоров ли? Красный какой... – сказала Варвара. – Ужо дай картинки поглядеть нам с Ибрагимом-то.
«Миленький Прохор Петрович, ну, не сердитесь, я буду звать вас Прохором, — писала Нина. – Это третье мое письмо, а вы не отвечаете. Грех вам. Уж не прельстила ли вас та вдова, как ее, Анфиса, кажется?.. Ну что ж, с глаз долой – из сердца вон. Видно, все мужчины таковы. А я стала очень умная, мы образовали литературный кружок, кой-чему учимся, пишем рефераты, рауководит учитель словесности Долгов: такой, право, душка. Читаете ли вы что-нибудь? Надо читать, учиться. Иначе – дороги наши пойдут врозь... Когда же мы свидимся? Приезжайте, будет вам сидеть в глуши».
И еще многое писала Нина торопливо, неразборчиво, на целых шести страницах.
– Да, – сказал Прохор, – надо учиться.
Не дочитав письма, зашагал по комнате. Вообще отнесся как-то холодно к письму: образ Нины заслонялся неведомо чем, уплывал в туман, и чернильные строки не оживали.
– Да, надо учиться.
На ходу он оглядел себя в трюмо: красив, высок, широкоплеч. Пощипывал черные усики. Дочитал письмо, и в конце: «Доброжелательница ваша и л...... вас Нина».
Глаза Анфисы следили за ним неотступно, улыбчиво манили. Ведьма!.. Но последние чернильные строки загорелись, он снова перечитал письмо, внимательно и с теплым чувством. Конечно, Нина будет его женой. Надо к этому достойно приготовить себя.
Он пошел к ссыльному Шапошникову. Он нес в себе образ Нины, свою неясную мечту. Он глядел в землю, думал.
– Ах, сокол, идет и головушку клонит.
– Анфиса! – крикнул Прохор и не сразу понял, что с ним случилось. Красавица стояла перед ним с запрокинутой головой, в распахнутом душегрее. Сложив руки на груди, она обнимала его пламенным взглядом, она тянулась к нему вся:
– Сокол мой!..
Прохор быстро свернул в сторону и пошел дальше, сжимая кулаки.
– Как вы смеете подсылать ко мне старух?! – крикнул он. И сквозь зубы: – Шлюха!
А как хотелось обернуться, посмотреть: она, должно быть, пристально глядела ему в спину. Нет, дальше, прочь! Раздражение кипело в нем. Навстречу – Марья Кирилловна.
– Мамочка, милая!..
– Что ты с ней говорил?
– Я ее назвал шлюхой. Ты домой?
– Домой. У попадьи была. Ты, Прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина – Анфиса. Крученая она.
– Мамочка, что вы! Милая моя!.. – Он обнял ее, поцеловал и посмотрел ей вслед. Прохору очень жалко стало мать. Он подходил к крайней избушке, где жил Шапошников.
Марья Кирилловна повстречала меж тем Анфису, хотела свернуть – не вышло.
– Не трогайте моего мальчика, Анфиса Петровна... Неужели на вас креста нет?
– С чего это вы взяли?.. Господи!.. Язык-то без костей у вас.
Женщины прошли друг мимо друга, как порох и огонь.
Шапошников бородат, броваст, лыс, но волосы длинные, а говорит тенористо, заикаясь. И когда говорит, в трудных местах крепко щурится, словно стараясь выжать слова из глаз.
– Я слышал, вы кончили университет?
– Да, кончил... По юридическому. Садитесь. Чем могу служить?
Прохор знал, что Шапошников – революционер, покушался убить генерала, кажется, губернатора, отбыл в Акатуе каторгу, теперь на поселении.
– Я хотел бы учиться, а здесь... Вы знаете, например, немецкий язык?
– Нет, – сказал Шапошников и надел пенсне. – Или, верней, знаю, но очень плохо. – Он сел и закинул ногу на ногу. Сапоги его дырявы и грязны, штаны рваные, руки грубые, под ногтями черно, – совсем мужик.
Прохор огляделся. Подслеповатое оконце скупо пускало свет; на полках чучела птиц и зверюшек; в углу – волк рвет зайца. На столе распластанная белка, ланцеты, пакля, проволока. Пахло лаком и травами.
– Чучело набиваете?
– Препарирую.
– Значит, вы меня будете учить всему, что знаете, – говорил Прохор; он старался глядеть в сторону, в голосе звучала напускная заносчивость. – Я буду хорошо платить. Не беспокойтесь. Я вообще хочу... Я должен быть человеком.
– Это родители вас заставляют? – спросил Шапошников, выставив бороду вперед.
– Сам. Сам хочу.
– Похвально! Конечно, вашему папаше не до вас.
– С чего начнем? – оборвал его Прохор.
– Давайте займемтесь историей, географией. Кстати, у меня есть Ключевский и Реклю. После Пасхи, что ли?
Прохор поискал басовые солидные нотки и сказал:
– Нет... Если вы свободны, то сейчас.
Шапошников снял пенсне, сощурился и, посмотрев на Прохора, подумал: «Типус!»
X
Поздний вечер. Марья Кирилловна улеглась спать. В комнате Ильи Сохатых весело. Ибрагим лежит на кровати, закинув руки за голову, и что-то врет про баб. Илья Сохатых, то и дело отбрасывая назад рыжие кудряшки, хихикает, мусолит карандаш и записывает в альбом:
– Как, как, как?
– Пыши, – говорит Ибрагим и несет соромщину.
Карандаш работает вовсю. Илюха давится, перхает и хохочет. Он не желает остаться в долгу. Заглядывает в альбом, фыркает, утирает слюнявый рот и начинает:
– А вот, к примеру, как кухарка барина узнала... Очень интересно. Жила-была кухарка, икряная такая, жирная, вроде тебя, Варварушка...
– Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
– Ну, значит, завязали ей глаза и ну целовать по очереди: два дворника, кучер, лакей да три солдата, а она узнавать должна, кто целует.
Ибрагим пускает смех через усы и зубы: шипит, присвистывает, цокает, ляская зубами. У кухарки хохот нутряной: обхватит живот, зайдется вся и молча взад-вперед качается, сама кровяная, мясистая, вот-вот лопнет изнутри, а тут как порснет, как взвизгнет, аж в ушах гулы, и опять зашлась вся, закачалась – сдохнет.
Илья Сохатых понюхал воздух, брезгливо сморщил нос, сказал:
– Сообразуясь с народной темнотой, вы не понимаете, что значит поэзия. Вот, например, акростик. Слушайте! – Он выпил водки, кухарку с черкесом угостил, порылся в альбоме и стал декламировать каким-то чужим, завойным козлетонцем:
Ангел ты изящный,
Недоступны мне ваши красы,
Форменно я стал несчастный,
Илья Сохатых сын.
Сойду с ума или добьюся,
Адью, мой друг, к тебе стремлюcя!..
Две последние строчки он заорал неистово, слезливо и страстно пал к ногам подвыпившей кухарки.
– Адью, мой друг, к тебе стремлюся!.. – Он ткнулся рыжей головой ей в колени – кудри разлетелись – и заплакал. Он был пьян.
Варвара вдруг вся обмякла, словно теплая вода потекла из ее тела: кряхтя, согнулась, обняла его за шею и почему-то завыла в голос толсто и страшно:
– Херувим ты мой... Илю-у-у-шенька-а-а!.. Не плачь.
Илья Сохатых вынырнул из ее рук, вскочил:
– Дура! Неужели могла представить, что я интересуюсь твоей утробой или сердцем?.. Дура!
Черкес привстал с кровати и сердито сверкнул глазами на Илью.
– Это называется акростик, – сказал Илья, утирая слезы шелковым платком, и еще выпил рюмку. – В нем сказан предмет любви в заглавных буквах, но вам никогда не вообразить, кого я люблю. Эх, миленькие вы мои... Варвара! Ибрагим!.. Не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю.
– Да зна-а-а-ем, – протянула кухарка, почесывая под мышками. – Кого боле-то?.. Она всем башки-то вертит, Анфиса подлая...
– Верно! – вскричал Илья и ударил ладонь в ладонь. – Верно. Но только она не подлая. И за такие слова бьют в зубы.
В комнате ходили зеленые вавилоны; все как-то покачивалось, все зыбко гудело. И не понять было, что делал Ибрагим: ругался или мурлыкал под нос кавказскую; неизвестно, что делала Варвара: плакала или тряслась нутром в угарном смехе. Лилось вино. Сквозь угарный туман проплывало:
– Женюсь... Вот подохнуть – женюсь!.. Бракосочетанье то есть...
– Женись... Попляшем!
– Варварушке – супир... Ибрагимушке – золотые часы... Ломается она... Закадычные враги у меня есть... Враги!..
– Рэзать будем!.. Врагам.
– Марья Кирилловна, бедняжка, толковала, – похныкала кухарка. – Женить бы, мол, его... Тебя то есть. Плачет, бедняжка, из-за ирода-то своего...
– Мне жалко хозяйку, – сказал Ибрагим. – Цены нэт Марье, вот какой женщин... Жаль!..
– Больно ведьма красива уж. Анфиска-то! – сказала Варвара. – На ее телеса-то, ежели бабе, и той смотреть вредно, не говоря о мужике. Этаких и свет редко родит.
– Анфиса-то? Ой! Не хочет она меня предвидеть! – вскричал Илья и затеребил кудри. – Братцы, жените вы меня!.. Обсоюзьте!.. А мы с ней... Купчиха будет. В город. Каменный дом. У меня кой-что припасено. Только, чур, молчок... Анфиса! Ангел поэтичный! Тюльпан!
Он скакал козлом и посылал ей воздушные поцелуи.
В комнате беззвучно вырос Прохор. Лицо Ильи вдруг стало маленьким и острым. Он схватил альбом и спрятал под подушку.
– Это что?
– Да это, Прохор Петрович, так... Безделица!
– Покажи!..
– А я не желаю... Что на самом деле? Это моя вещь.
– Покажи! – глухо сказал Прохор, швырнул подушку на пол и взял альбом.
– У меня тут всякая ерунда. Неприлично юноше такому прекрасному читать... Поэтическая похабщина... – Илюха егозил, масленые глазки его сонно щурились, а рука опасливо тянулась к альбому: – Не стоит, Прохор Петрович, разглядывать. Пардон, пожалуйста.
Прохор, не торопясь, снял с переплета газетную обложку. Илюха съежился и растерянно разинул безусый рот. По красному сафьяну переплета было вытиснено золотом:
«ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЮ ИЛЬЕ ПЕТРОВИЧУ СОХАТЫХ ОТ ВСЕЙ МОЕЙ ЛЮБВИ ДАРИТ АНФИСА ПЕТРОВНА КОЗЫРЕВА НА ПАМЯТЬ»
А наверху – корона.
– Та-а-ак, – ядовито протянул юноша, сел и налил рюмку водки. – Давно тебе подарила? – спросил он.
– Да как вам сказать?.. Недавно. На поверку ежели, это недоразумение одно, суприз.
Прохор, не торопясь, проглотил вино, задумался.
– А мы тут неожиданно выпили в обществе, среди компании. И здоровьишко мое не тово... И в первых строках – скука.
– Скука? – переспросил, словно в бреду, Прохор и оживился, глаза зажглись. – А вот я тебя сейчас, Илюша, развеселю. Анфиса-то Петровна любит тебя? Скажи как другу, Илюша? А?
– Да как вам сказать порциональнее? – отер приказчик слюнявый рот.
– Погоди... – Прохор вышел и тотчас же вернулся с графином водки на лимонных корках. – Хлопни! – сказал он, протягивая приказчику полную чашку вина.
– Не много ли будет?
Прохор тоже выпил.
– Давай, Илюша, ляжем на кровать.
– Очень даже приятно, – сказал Илья. Он осовел совсем, язык едва работал. Сердце Прохора колотилось, уши, как омут, жадно глотали Илюхины слова. Лежали рядом: Прохор ленивым медведем, Илюха сусликом, подобострастно – и лапки к грудке.
– Я тоже несчастлив, Илюша...
– Знаю, знаю... Через папашу все... Ах, мамашенька ваша, мамашенька!.. Такая неприятность в доме. Да я это поправлю окончательно, не сомневайтесь... Я своего добьюсь...
– Что ж? Целовались с ней?
– То есть удивительно целовались.
– Совсем?
– То есть так совсем, что невозможно. С полной комментарией. После Пасхи предлог ей сделаю. Благодаря Бога – поженимся. Мирси.
Прохор крякнул и спросил:
– А хорошо, Илюша, целовать красавицу?
– Ой, – захлебнулся тот, закрывая узенькие глазки. – Даже уму непостижимо...
– Расскажи, как... Ну, Илюша, миленький... – Прохор ласково обнял его. Тот стал молоть всякую мерзость, сюсюкая, хихикая, облизывая пьяный рот.
В голове и сердце Прохора взрывались вспышки острой любви к Анфисе и ревнивой ненависти к ней. Щекам было жарко, ныло тупой болью простуженное в тайге колено, рот пересыхал.
– А ты читал Достоевского «Преступление и наказание»? – резко перебил он Илью. – Там есть Раскольников, студент. Я очень люблю этого студента... Смелый!
– Я тоже студентов уважаю, – сказал Илья, – например, Алехин, политический...
– Он старуху убил...
– Нет, убивства хотя и не было, а рыбу ловил удой.
– Я про Раскольникова! – с внезапным гневом крикнул Прохор. – Про Раскольникова! Дурак! – Он ткнул приказчика в подбородок кулаком и вышел, захлопнув дверь.
– Черт! – шипел Прохор, крупно шагая. – Я ему покажу, как на Анфисе женятся! – Он дрожал. Луна светила в окна. Хотелось ударить стулом в пол, кого-нибудь прибить, обидеть. Сел на подоконник, припал горячим лбом к стеклу. Лысая луна издевательски смеялась.
«Анфиса!»
Анфиса зовет его. Сердце затихает, меняет струны; манит его на снеговой простор, к тому роковому дому, что охально, как голая русалка, голубеет под луной.
– Проклятая!
Заглянул к матери. Горели две лампадки. Кровать отца пуста. Марья Кирилловна стонала во сне. Где отец? Он же вечером видел его. Где ж он? Ага, так...
Осторожно, чрез парадное – на улицу, к Анфисину дому. Луна потешно закурносилась, высунула Прохору язык. Плевать! Вот – дом. Шагнул на цоколь, уцепился за узорные наличники, припал к ведьмину окну горящим ухом. Тихо. Отец, наверно, там. Постучал слегка. Сейчас скажет ему, что матери нехорошо. Занавеска не шевельнулась. На окне вязанье, кажется, начатый черный чулок, – торчали спицы. Постучал покрепче. Спят. Закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет – дзинькнули, посыпались стекла – и, пригнувшись к земле, бросился в проулок.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































