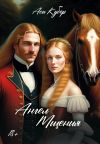Читать книгу "Свободная любовь"
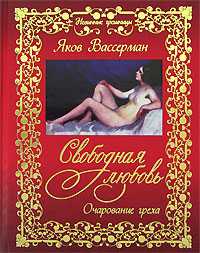
Автор книги: Яков Вассерман
Жанр: Эротическая литература, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Но чего же вы хотите от меня? – с тревогой воскликнула Рената.
– У меня есть маленькая записная книжка. Содержание ее я знаю наизусть, и потому мне не надо света, чтобы прочесть ее… Елизавета Кернер погибла, Маргарет Хольмсен погибла. Анна Малинг погибла. Эльвина Симон…
– Эльвина Симон? – прошептала Рената. – Что все это значит?
– Погибли от одной и той же болезни: от любви, растраченной в пустыне. Не от несчастной любви, нет; от нее в большинстве случаев выздоравливают. Как объяснить, чтобы вы поняли? Представьте себе, например, что какой-нибудь поэт, за неимением бумаги и чернил, записал свое лучшее произведение, в котором вылилась вся его сущность, все заветные мысли и чувства, записал его… на песке, а поднявшийся ветер безвозвратно развеял все написанное. Поймите: безвозвратно! Это даже хуже, чем доверить все свое состояние плохому кораблю. И все эти женщины немы; они гибнут молча и терпят, терпят… А когда заговоришь с ними в темноте, они убегают и призывают на помощь буржуазное приличие. Уметь выбирать – это главное в жизни.
Они стояли теперь на холме. Внизу была вилла Вандерера, и оттуда доносился хриплый голос Винивака. На озере пронзительно свистел пароход. Рената была бледна. Широкополая шляпа и козлиная бородка не казались уже ей смешными; в них было что-то зловещее.
– Я ничего не понимаю, – сказала она глухим голосом.
Грауман широко раздвинул рот и оскалил зубы, как фавн.
– Одно движение руки говорит мне больше, чем история жизни. В особенности по отношению к мужчинам у меня чутье сыщика.
Он почтительно поклонился и ушел. Из сада раздался тревожный голос Вандерера:
– Рената! Рената!
Рената, не отвечая, медленно двинулась вперед.
VIII
1
Когда Рената подошла к калитке, у которой ее ждал Вандерер, недавняя встреча в лесу показалась ей бредом. Она подала руку Вандереру, который безмолвно и вопросительно смотрел на нее, и быстро поцеловала его, как бы прося не расспрашивать. И действительно, этот мимолетный поцелуй заставил его позабыть обо всем. Рената же с отчаянием подумала: «Опять ложь… Уже во второй раз».
Она ни слова не сказала Анзельму о случившемся. Ей было страшно даже мысленно повторить слова незнакомца, лишь в качестве безмолвного протеста она поцеловала Анзельма, и этот поцелуй должен был означать: «Я сумела выбрать, Петер Грауман».
Когда они вошли в столовую, первым словом, которое произнес Анзельм, было то самое имя.
– Знаешь, что я слышал об этом Граумане? Ведь ты помнишь его, Рената? Это очень интересно! Говорят, что он анархист, по крайней мере во взглядах, и что его выслали и теперь он, как хищный зверь настороже, торчит на швейцарской границе.
– Откуда ты это знаешь? – еле слышно спросила Рената и подошла к камину погреться.
– Так… случайно… услышал. Как можешь ты так подолгу гулять, Рената! Ты совсем посинела от холода. Ах, моя единственная, ну зачем только ты мерзла в этом лесу!
Он склонился к ней и стал страстно целовать ее руки.
– Ты привез мне газеты, Анзельм?
Он с комическим отчаянием всплеснул руками.
– Совершенно забыл!
– Где же ты был так долго?
– В клубе.
– Разве в Констанце есть клуб? Что ты там делал?
– Играл, Рената.
Он стоял у окна, отвернувшись от нее.
Рената закрыла глаза и представила себе его сидящим за карточным столом.
«Это доставляет тебе удовольствие, Анзельм? – хотела она спросить, но слова эти прозвучали только у нее в голове. – Или дело не только в картах?»
За ужином Анзельм рассказывал ей о городе.
– Ты еще не осмотрела хорошенько этот город, Рената. Нам с тобой следует обойти все его уголки и осмотреть все старинные дома, например дом, где был заключен Гусс. Ведь это свого рода исторические книги.
– Терпеть не могу исторические книги.
В эту минуту в передней послышались голоса, становившиеся все громче. Один голос был Винивака, другой чужой. Рената вздрогнула и вскочила. К столовой приближались быстрые шаги, и Ангелус начал яростно лаять. Дверь отворилась, и на пороге появился человек, которого Вандерер не знал. Он был строен и изящен; белокурая борода обрамляла тонко очерченное лицо, на которое годы не наложили заметных следов. Он остановился и пристально смотрел на Ренату.
Рената, бледная как полотно, стояла в оцепенении.
Незнакомец вошел, запер дверь перед носом следовавшего за ним Винивака и положил шляпу на стул.
– Ты удивлена моим появлением, Рената, – сказал он, делая над собой видимое усилие, чтобы оставаться вежливым и спокойным. – Но мне необходимо еще раз поговорить с тобой. Есть некоторые вещи, которые должны быть сказаны, какой бы свободной и самостоятельной ты себя ни воображала. Надеюсь, что ты меня выслушаешь.
Лоб его покраснел; было ясно, что он боролся с собою, чтобы не потерять благоразумия и хладнокровия.
– Ты можешь говорить все, что захочешь, отец, – с глубоким вздохом ответила Рената.
– Много говорить я не буду, – сказал фабрикант, вынимая из кармана листок бумаги. Он старался придать себе спокойный вид адвоката, но Рената видела, как дрожали его руки, когда он разворачивал бумагу.
– Ты оставила нам всего несколько слов: «Я следую за человеком, которого выбрала, не прикованная к нему никакими узами. Простите и не разыскивайте меня. Предоставьте меня моей судьбе, и если я буду несчастна, то в этом буду виновата я сама. Привет всем. Не забывайте меня».
Он прочел это дрожащим голосом, запинаясь на каждом слове.
Рената едва стояла на ногах, до глубины души взволнованная расстроенным видом отца, которого она привыкла видеть радостным и игривым, в особенности после хорошего обеда, когда его беззаботная веселость заражала и увлекала всех.
– Но я подумал, что фраза об отсутствии всяких уз не более как романтический оборот речи. Об этом только я и хотел тебя спросить, за этим и приехал сюда, не зная покоя ни днем ни ночью, хотя нам стало немного легче, когда мы узнали, кто твой избранник. И вот я теперь спрашиваю тебя: живешь ли ты честно и могу ли я сказать всему свету, что ты моя дочь?
Жесткость судьи в тоне отца заставила судорожно сжаться сердце Ренаты. Мгновенно ее жалость к нему перешла в озлобление. Перед нею был уже не отец, а тюремщик, пришедший, чтобы тащить ее назад в камеру. Дикая жажда свободы и сознание единства с Анзельмом внезапно пробудились в ней, и ее ответ прозвучал твердо:
– Я живу так, как хотела жить, отец. Свободно, как ты это называешь, и честно, как понимаю я. Я хочу жить и каждым нервом ощущать, что живешь, а не разлагаться заживо в могиле законного брака.

Несколько минут в комнате было тихо; Рената словно застыла в глубоком изумлении перед своими собственными словами. Фабрикант взял шляпу, осмотрелся вокруг отсутствующим взглядом, машинально взглянул на часы и сказал, вначале заикаясь:
– Хорошо… Очень хорошо, что я это знаю. Скверно для твоей матери, скверно для всех нас. Я проклинаю тебя, Рената… да, я проклинаю тебя, и надеюсь, что придет день, когда ты, как жалкая нищая, постучишься у моих дверей, но будет поздно…
Слабый крик Ренаты, стук захлопывающейся двери, тяжелые удаляющиеся шаги, шум озера, тихое шипение газового рожка…
Рената беззвучно плакала, Анзельм ходил взад и вперед, досадуя на то, что во всей этой сцене ему пришлось играть такую ничтожную роль.
– Проклял, ха-ха! – бормотал он. – Точно в бульварном романе. – Он криво усмехнулся. – Не плачь, дорогая, не стоит. Твой старик мог бы, конечно, избавить тебя от этой мелодраматической сцены. Но и тебе не следовало бросать ему в лицо подобные вещи. Это совершенно бесцельно. Тебе надо было спокойно сказать ему, что дело обстоит так, как ему хочется, хотя пока это и не так. Ведь рано или поздно должны же мы будем уступить общественному мнению, так как что ни говори, а оно правит кораблем. Ты слишком надеешься на свои силы. Представь себе, Рената, что я был бы какой-нибудь бездушный обольститель, не любил бы тебя так безумно, как я люблю тебя, и в данный момент покинул тебя на произвол судьбы…
Он весело продолжал говорить, в полном сознании своего превосходства в настоящем затруднительном положении, не замечая, что Рената перестала плакать и с невыразимым ужасом слушает его. Только увидав ее холодное, безжизненное лицо с плотно сжатыми губами, он умолк.
2
Когда Рената проснулась на следующее утро, Анзельм еще спал. Она приподнялась немного и задумчиво рассматривала его покрасневшее от сна лицо с толстыми губами и прилипшими ко лбу прядями волос. Потом она посмотрела в окно, не закрытое шторой, потому что в него никто не мог заглянуть, кроме серого неба и далекой, туманной полосы леса.
Вдруг Анзельм проснулся, и взгляд его упал на Ренату.
– Что с тобой? – спросил он.
Рената улыбнулась и провела рукой по его волосам. Он потянул ее к себе, но она лежала неподвижно и испытующе глядела на него. Он повторил свой вопрос. Рената взглянула на небо и прошептала:
– Ты такой практичный.
Она, краснея, сжала его руку.
Все утро они строили планы путешествия. В первой половине января они собирались ехать на юг, в Италию, Грецию, даже в Малайзию. Рената жаждала увидеть те страны, о которых читала столько сказочного. Анзельм избегал разговоров о том, что с прошлого вечера лежало у него на душе. Свобода была для него пустым словом; кто не испытал подчиненности, тот ничего не знает о свободе. А свобода, как ее понимала Рената, казалась ему синонимом нестабильности, мучительной для него, пока он до безумия любил эту девушку. Таким образом, в нем говорила не столько боязнь общественного осуждения, сколько эгоистическое стремление упрочить свое обладание. Вандерер был слишком мягок, чтобы энергично настоять на своем, и к тому же боялся разрушить иллюзии Ренаты насчет его характера и взглядов. Поэтому Анзельм старался прикрыть все непроницаемым покровом нежности, не позволявшим Ренате видеть его насквозь, но делавшим и его самого близоруким по отношению к ее внутреннему миру. Он нанял элегантную коляску, чтобы она могла выезжать, подписался на модные журналы и заказал дорогие туалеты в Париже; приобретал дорогие старинные вещи, которые ей случалось похвалить мимоходом; накупил мольбертов, полотна и красок, но оказалось, что Рената потеряла охоту к живописи. Когда девушка в первый раз взяла здесь в руки кисти и палитру, чтобы срисовать из окна уголок озера и опушку леса, ею овладело странное отвращение к работе. Даже к новому роялю, который Анзельм выписал из Вены, она не проявила ни малейшего интереса. Она любила проводить целые часы в праздности, читая романы, героинями которых были женщины.
Однажды Анзельм сообщил Ренате, что сегодня познакомился в клубе с Грауманом, возвратившимся из своего таинственного путешествия.
Рената испугалась, но постаралась убедить себя, что это известие ей безразлично. Она равнодушно пожала плечами и ушла в свою комнату. Девушка села за письменный стол, нарисовала что-то пером, посмотрела в окно, попробовала полистать иллюстрированный журнал. Но непреодолимое беспокойство не покидало ее. Услышав, что Анзельм уходит из дому, она подошла к окну, спряталась за гардиной и долго смотрела ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом дороги. Потом она сошла вниз и села за рояль. Но играть не хотелось. Она задумчиво ходила взад и вперед по комнате; стемнело, но она не просила зажечь свет.
Анзельм возвратился и был очень удивлен, найдя ее в темноте.
– Я привел к тебе гостя, Рената! – оживленно воскликнул он и быстро зажег лампу. Рената увидела подходившего к ней с изысканною вежливостью Петера Граумана. Он поцеловал машинально протянутую ему руку и не подал ни малейшего вида, что они встречались раньше.
3
После ужина Петер Грауман с ученым видом заговорил о том, что в низших слоях народа, где люди все еще следуют своим инстинктам, царит гораздо большая воля к счастью.
– Воля к счастью? – спросила Рената.
– Да, волей к счастью я называю забвение всех предрассудков, стоящих на пути непосредственного чувства.
– Вы правы, – заметил Вандерер, – эти люди еще дерзают действовать по первому импульсу.
– Чем выше вы поднимаетесь по общественной лестнице, тем меньше становится непосредственности, потому что выродившиеся или, если хотите, утонченные натуры людей высшего круга не могут жить чувственно-здоровою жизнью. И если кто-нибудь вздумает повернуться спиной к дряхлеющим идеалам общества, то его толкают в вечный мрак. Я представляю себе, что какая-нибудь женщина из высшего круга, руководимая здоровым инстинктом, вздумала бы принести в жертву ему свое социальное положение. Ей пришлось бы задохнуться и ослепнуть; она вдруг осталась бы без воздуха и света; ворота, из которых она вышла, навеки захлопнулись бы за нею, и ей оставалось бы только катиться вниз со ступеньки на ступеньку. К тому же скупая жизнь не возвращает утраченных иллюзий. Я знаю таких женщин, с ними повторяется всегда одна и та же история. Христианское смирение и самоотверженность борются в них с накопленною поколениями неудовлетворенностью. Эти женщины, уставшие от ожидания чуда, – прекрасный материал для грядущего реформатора религии. Впрочем, я, кажется, злоупотребляю вниманием слушателей. Сыграйте лучше что-нибудь, сударыня. Вы знаете французские шансонетки?
– Мне кажется, тут не может быть никаких общих норм, – сказала Рената, не обращая внимания на последние слова Граумана. – Каждый живет своей индивидуальной, одному ему свойственной жизнью. Ведь мы же не железнодорожные вагоны, которые тащит один и тот же локомотив.
– Напротив, мы очень даже похожи на вагоны, – ответил Грауман со своим зловещим смехом. – Сопротивление бесполезно; машина работает за нас. А если кто-нибудь возмутится и даст тревожный сигнал, он должен горько поплатиться за это.
– Так, по вашему мнению, чувственность составляет основу жизни? – робко и вежливо спросил Вандерер.
– Да, да! – На лице Граумана выразилась пародия на торжественность.
– Но ведь вы анархист!
– Вот как! Откуда вы это знаете, господин Ванде-рер? Впрочем, ведь надо же быть кем-нибудь. Один – извозчик, другой – министр. Если правительство предложит мне чин надворного советника, я буду надворным советником.
Рената сидела, подавленная каким-то мучительным чувством, и ей очень хотелось незаметно уйти. Было невыносимо сидеть напротив этого человека, взор которого насквозь пронизывал ее, отчего возникало ощущение, как будто ее трогают пальцами. Казалось, платье ее было для этого человека совершенно прозрачно, а слова его имели для нее совсем другое, грозное значение, незаметное для других. Она пересела в кресло, стоявшее в стороне.
Петер Грауман рассказывал о своей жизни. Отец его был убит во время американской междоусобной войны. Сам он родился, вероятно, в Австралии, точно он не знал. Он был поваром на атлантическом пароходе и кочегаром при доменной печи. Он приобрел состояние на калифорнийских золотых россыпях и за две недели спустил его в Париже.
Все, что он рассказывал, звучало правдоподобно. В его тоне явно слышалась насмешка над самим собою. Закончил он фривольной цитатой из песен Брюанта, которую напевал, делая вид, что перебирает пальцами струны гитары: видимо, он испытывал необыкновенное удовлетворение; Рената видела это по усмешке, не сходившей с его губ. Может быть, причиной этого стало состояние Анзельма, в напряженном внимании которого было нечто опасное для Ренаты. Когда Гра-уман смотрел на Вандерера, тот одобрительно кивал, и каждый взгляд его свидетельствовал о добровольном подчинении. Ренату это раздражало; она перестала поднимать глаза на Анзельма и чувствовала себя покинутой. Она считала его более стойким, гордым, более твердым в своих мнениях, ожидала от него более скептического отношения к подобному человеку; ей хотелось услышать от него веские возражения, вместо юношеской симпатии, с которой он во всем соглашался с гостем.
Когда, проводив Граумана, Вандерер вернулся, Рената уже ушла в спальню. Он последовал за нею, стремительно приблизился к любимой и хотел поцеловать. Но Рената сжала губы и серьезно покачала головой. Она сидела в одной сорочке, и нежная кожа ее шеи и плеч ярко белела при матовом свете лампы. С почти женственной нежностью Анзельм обнял ее и спросил:
– Ведь мы счастливы, Рената, правда?
Она слегка наморщила лоб и отвернулась. Всего этого она не любила в нем. Ему не следовало быть таким мягким, таким меланхоличным, даже в такую тихую ночь, пронизанную серебристым сиянием луны. Однако она все-таки прислонилась головой к его плечу и закрыла глаза. Ей не хотелось думать.
Так они сидели, пока часы не пробили одиннадцать. Вандерер стал на колени и начал снимать ее ботинки.
– Анзельм, веришь ты в Бога? – неожиданно спросила она.
Он взглянул на нее и рассмеялся.
– Что это тебе вздумалось спрашивать об этом?
– Ах, я, собственно говоря, никогда серьезно не думала об этом. У меня в голове такая путаница. Ведь что-нибудь должно же быть там… выше всяких случайностей? Ты как думаешь?
Анзельм не знал, что ответить. Он заговорил о Гра-умане, желая слышать мнение Ренаты. Но ей хотелось спать.
Через два часа после того, как все в доме погрузилось в глубокую тишину, раздался сильный звонок. Это была срочная телеграмма от брата Анзельма: «Будь в Вене раньше воскресенья. Настоятельно необходимо твое присутствие. Твое и мое состояние поставлены на карту».
4
Рената слышала звонок сквозь сон и опять крепко заснула, не спросив Анзельма, кто это звонил.
Анзельм всю ночь не спал, он даже не сомкнул глаз и все думал об одном и том же, охваченный такой душевной мукой, что лежать в постели было для него нестерпимо. Вандерер облокотился на подушку и смотрел в окно на тусклый рассвет; мало-помалу он стал различать в зеркале отражение своего лица, бледное и далекое. Вдруг он увидел там еще один образ и испугался так, что сердце у него неистово забилось. Рената проснулась и кротко спросила, почему он не спит. Тогда он сказал голосом, полным тревоги:
– Рената, могла бы ты перенести бедность? Если бы ты вдруг стала бедна, как Винивак, даже еще беднее?..
Рената мелодично рассмеялась и ответила:
– Какой ты смешной! Так поэтому ты и не спишь?
– Нет, Рената, это серьезно, подумай и ответь!
– Что же я тебе скажу? Я не знаю. Я никогда не была бедна.
Она опять рассмеялась и поцеловала его.
– Ты слыхала звонок, Рената? Мой брат телеграфирует, чтобы я немедленно приезжал в Вену. Наше состояние поставлено на карту.
Рената всплеснула руками, хотела что-то сказать, но промолчала.
– Очевидно, он вел нечестную игру, – задумчиво продолжал Анзельм. – Ну, Рената, что же ты скажешь теперь?
Рената молчала. Она чувствовала странную тяжесть во всем теле. Наконец после долгого молчания она спросила:
– Когда ты уезжаешь?
– В восемь часов утра.
– А меня возьмешь с собой?
– Нет, Рената, это неудобно. Представь только.
– Ты хочешь оставить меня здесь одну? – Рената прижалась к нему с мольбою во взгляде. Вандерер долго уговаривал ее, стараясь убедить, что ей необходимо остаться.
– Я не хочу здесь оставаться, – шептала она. – Здесь так ужасно пустынно.
– Только на три дня, Рената! Может быть, все это лишь напрасная тревога, тогда мы поедем путешествовать. А теперь спи, моя дорогая.
Он притянул ее в свои объятия, и она опять заснула. Ее успокоило то, что Анзельм так твердо настоял на своем. То, другое, – бедность – было для нее страшным, но пустым словом, ничего не говорившим ее чувствам.
Наконец стало светать; что-то угрожающее чудилось Анзельму в утренней заре. О, если бы никогда не кончалась ночь!
Он встал, оделся и прошелся по берегу озера в сопровождении весело лаявшего Ангелуса, зашел на почту отправить телеграмму, когда вернулся домой, Рената все еще спала. Анзельм велел принести чемодан, стал укладываться; но одиночество вдруг сделалось для него невыносимым, он подошел к кровати и поцелуями разбудил Ренату. Она улыбнулась ему, немного пристыженная, что так долго спала, и обвила руками его шею. Ее беззаботность еще более усилила тревогу, терзавшую Анзельма.
В пять часов Вандерер был готов к путешествию. Он поручил Виниваку привезти к восьми часам на станцию его чемодан; он был в слишком большом нетерпении, чтобы плыть на пароходе.
Решено было, что Рената проводит его до Констанца. Был теплый осенний день. Они долго ходили по улицам города, мало разговаривая, полные предчувствия грядущих событий. Рената смирилась с мыслью о необходимости остаться одной и находила наивное утешение в том, что каждый день будет получать письма от Анзельма.
– Я люблю получать письма, – сказала она.
Анзельма удивляло, как много трогательной и детской наивности скрывалось за ее чопорно-аристократичной внешностью светской девушки. Но его пугало, что Рената, очевидно, была далека от понимания серьезности их положения.
5
Первый вечер Рената провела за чтением и игрой на рояле, а в одиннадцать часов легла спать. Но следующий день принес уже те пустые часы, которых ничем нельзя было наполнить – ни ожиданием, ни работой, ни воспоминанием; они протекали лениво, как масло, и уже одной своей бессмысленностью портили настроение. Вдобавок – серое, однотонное небо, а с полудня начался снегопад, продолжавшийся до вечера. Озеро жадно поглощало снежинки, падавшие в него, словно в чью-то голодную пасть; горы побелели, деревня скрылась за снежной пеленой; только сосновый лес мрачно чернел. Рената ходила взад и вперед по комнате. «Меня занесло снегом», – думала она. Так прошел первый день и как две капли воды похожий на него второй. Письма не было.
На третью ночь Рената уже не могла спать; встав с постели, она испугалась собственного отражения в зеркале. Утренняя почта не принесла ничего. Рената беспокойно ходила с лестницы на лестницу, из комнаты в комнату, звала собаку, как бы ища у животного защиты и утешения. И Ангелус был в высшей степени предупредителен, выделывал разные неуклюжие штуки, стараясь развеселить хозяйку, но все было напрасно. Рената не пила, не ела и все выглядывала в окно, выходившее к деревне, ожидая, не увидит ли она синий мундир почтальона. Напрасное ожидание. Она хотела телеграфировать, но мысли ее начали болезненно путаться.
В четыре часа стало совсем темно. Вошел Винивак и доложил, что пришел господин Грауман. Рената велела просить, ухватившись за гостя как за последнюю надежду.
– Я слышал, что ваш супруг уехал, – проговорил Грауман, снимая перчатки, – и зашел навестить вас.
Рената села напротив него и пыталась поддерживать светский разговор, но какой-то чужой голос раздавался в ее душе. Она хотела задать Грауману какой-то вопрос, казавшийся ей прежде важным; но внутренний голос все заглушал. Вдруг она насторожилась.
– Никогда бы не поверил, чтобы вы могли полюбить такого человека, как Вандерер, – произнес Гра-уман с притворным сочувствием.
Рената подняла голову и испытующе посмотрела на Граумана. Он постарался уклониться от ее взгляда, растянул рот в улыбку, причем нижняя губа совершенно исчезла, и продолжал, немного запинаясь:
– Я не хочу этим сказать что-нибудь против него. Наоборот, я считаю, что у него прекрасный характер. Но, боже мой, разве для вас этого достаточно? Вы сами отлично знаете, что нет, но вы слишком горды, чтобы признаться в своих чувствах. Вы хорошо знаете его. Он всегда по слабости характера будет делать то, чего не должен был бы делать ни в каком случае. Это типичный продукт буржуазного вырождения: бесцветный, безжизненный, безвредный, но и бесполезный человек без таланта, без способности наслаждаться, не умеющий защитить свое достоинство. Всякий новый путь заводит его в тупик, каждый человек с сильной волей пугает его. Я знаю, что, говоря так именно теперь, отталкиваю вас.
Рената поднялась и холодно сказала:
– Не понимаю: что вам, собственно, угодно?
– Не понимаете! – воскликнул Грауман с отчаянием, не то искренним, не то комическим. – Поймите же: меня ужасает мысль, что вы на всю жизнь прикованы к такому человеку!
– Прикована! – с презрением повторила Рената. – Никто из нас не прикован, ни я, ни он. Каждый из нас свободен. Мы не были ни в церкви, ни у нотариуса.
«Рената!» – как будто раздался предостерегающий голос. Она упрямо отвернулась и прислонилась лбом к холодному окну. Она не заметила, как безмерно поражен был ее словами Петер Грауман. Все его существо изменилось до неузнаваемости в одно мгновение, как будто цепи упали с его членов. Он встал и, заложив руки за спину, стал ходить по комнате. Вдруг он остановился около Ренаты, отечески взял ее за руку и проговорил:
– Бедное дитя!
Он выпустил руку и пристальным, жадным взглядом посмотрел на молодую девушку.
У Ренаты было такое ощущение, будто она тонет. Руки казались налитыми свинцом, в груди не хватало воздуха. В блестящих карих глазах своего противника она, как при блеске молнии, прочла его мысль: «Вандерер тебя бросил: ты будешь принадлежать мне». А она-то по своей наивности думала, что ее ответ пробудит в любом мужчине такое уважение и восхищение, на какое он только способен. Предчувствие чего-то ужасного и позорного вползало ей в душу.
Начало темнеть, и Рената зажгла лампу. Болезненное чувство стыда не позволило ей поднять рук, чтобы зажечь газовую люстру. Потом она опустила шторы на окнах, и их шуршание немного успокоило ее. Она посмотрела в сад, не видно ли там Винивака, ей хотелось позвать его. Но перед глазами была только синеватая пелена снега. Рената попробовала представить себе, что она одна, но мысли вертелись, как в колесе, вокруг фигуры, которая спокойно, как каменное изваяние, стояла у зеркала, внимательно следя за каждым ее жестом. Спустив шторы, она решилась выйти из этой комнаты и взяла лампу, стоявшую на рояле. Тогда она скорее почувствовала, чем услышала, что Грауман подходит к ней сзади. Ее охватил ужас, от которого, казалось, сейчас разорвется сердце. Рената быстро обернулась, и свет лампы упал на лицо Петера Граумана. Он улыбался. Никогда не могла она забыть этой улыбки сатира. Грауман протянул к ней руку, и в ту же минуту она уронила лампу на пол, не издав ни одного звука. Тотчас же огонь охватил комнату.
Хотя она лежала без сознания, но слышала все, что происходило: слышала крики прибежавших людей, слышала, как выносили ее из комнаты; слышала даже спокойное объяснение, которое Грауман давал происшедшему случаю. Затем сознание совсем покинуло ее.
Когда она очнулась, у ее постели сидел констанц-ский доктор и горничная. Доктор, веселый старик, усердно хлопотал около нее и радовался своему успеху. Первое, о чем спросила Рената, не приносили ли письма. И ей ответили утвердительно.