Текст книги "Раздвигая границы. Воспоминания дипломата, журналиста, историка в записи и литературной редакции Татьяны Ждановой"
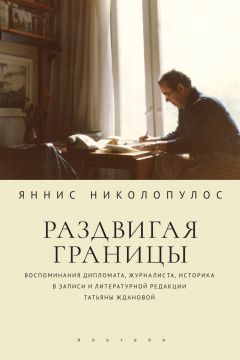
Автор книги: Яннис Николопулос
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
2. Дальнейшее обучение. Колледж Помона
Колледж Помона, куда я прибыл для прохождения первого этапа университетского образования – четырехлетнего бакалавриата по международным отношениям, – являлся частью так называемой Ассоциации колледжей Клермонта (CC)[61]61
Report on the Greeks. Findings of a Twentieth Centurt Fund Team Which Surveyed Conditions in Greece in 1947. New York, The Twentieth Century Fund, 1948. P. 87.
[Закрыть], куда также входил консорциум Клермонтского университета. Эта ассоциация была организована по типу традиционных английских университетов вроде Оксфорда и Кембриджа, являющихся, по сути, объединениями нескольких отдельных колледжей и школ. В СС входили учебные заведения, специализировавшиеся на изучении отдельных гуманитарных предметов и проблем.
Став студентом Помоны, я без проволочек взялся за учебу. За четыре года обучения я освоил большое количество разных предлагавшихся курсов, в том числе курсы по всемирной истории – европейской, русской, американской и дальневосточной, – истории философии и социальной мысли, международным отношениям, политологии, социологии и экономике. Кроме того, поскольку в колледже Помона работал прекрасный профессор-эллинист Г.-Дж. Кэрролл, я продолжил занятия по классической греческой литературе.
Профессор Кэрролл сыграл в моем образовании очень важную роль, и я вспоминаю о нем с огромной благодарностью и даже благоговением, потому что он не только формально обучал меня и нескольких других греческих студентов литературе нашей страны, но и уделял нам при этом очень много личного времени и внимания. Этот замечательный ученый значительно расширил мое понимание классической греческой литературы и греческой литературы вообще. Он организовывал неформальные кофейные посиделки, где обсуждал со мной и моими товарищами новости новогреческой литературы. Современных греческих писателей мы тогда почти не знали, потому что в средней школе их не проходили.
Профессор также познакомил нас с западными писателями и историками – Байроном, Тойнби и др., – которые объясняли нам, как и другим читателям, греческую культуру и ее роль в европейской цивилизации, что тоже было нам в новинку и будило в нас интерес к нашей национальной традиции, нашим собственным корням и побуждало серьезно относиться к этому, а не игнорировать. Профессор Кэрролл и его жена часто приглашали меня домой и вообще заботились обо мне как о родном сыне. Иногда я даже получал от профессора его автомашину для поездок в Лос-Анджелес.
Но продолжу о своих занятиях. Разумеется, я изучал страноведение России, Китая и региона Латинской Америки и, соответственно, русский, китайский и испанский языки и литературу. Русский язык я изучал три года, а китайский и испанский языки по два. Кроме этих трех языков, я еще два года изучал немецкий. Языки мне давались легко – видимо, не зря мой триестинский дед Эммануил Протекдикос знал семь языков, а моя прабабушка-итальянка и моя мама – по пять. Так что в колледже я очень много читал по-испански, а китайскую поэзию даже по-китайски.
Занятия по русскому языку проводил эстонец профессор Эйн, который был очень симпатичным человеком с хорошим чувством юмора и огромным запасом разных рассказов и баек из русской истории. Студенты всегда слушали его с большим интересом. Еще два курса, к которым я относился очень серьезно, – это английская литература (именно тогда моими любимыми писателями стали Джозеф Конрад и Грэм Грин) и так называемое «творческое письмо» на английском языке, ведь именно на этом языке мне предстояло писать в моей будущей профессии.
Поскольку курсов было много, мне надо было очень много и быстро читать и обсуждать прочитанное с профессорами и их ассистентами. Этому немало способствовала чудесная библиотека Ассоциации колледжей Клермонта. Вообще, обучаясь в Помоне, я активно пользовался всеми научными, образовательными и культурными ресурсами и возможностями, предоставляемыми Ассоциацией. Говоря об этом, стоит упомянуть, что в колледже Помона был также прекрасный факультет искусств, где я с удовольствием занимался глиняной скульптурой и керамикой.
Была у меня и общественная работа, хотя и очень недолго. На втором году обучения меня избрали в Совет иностранных студентов Юго-Западных Штатов США. У Совета были большие планы по организации студенческих конференций по обмену опытом, выработке правил поведения в процессе обучения и в жизни на кампусах и т. д., но в то время было плохо с междугородной связью, и из этих планов ничего не вышло. Мы помучились несколько месяцев и сдались.
Моя дальнейшая жизнь сложилась так, что я прожил в США в общей сложности двадцать пять лет. Их можно условно разделить на несколько периодов. Мой первый американский период, о котором я пишу в этой главе, продолжался пять лет. Я начал его пятнадцатилетним школьником, а закончил дипломированным б акалавром, вышедшим из университета в двадцать лет с изрядным багажом знаний и страстным стремлением к реализации своего научного и человеческого потенциала. Это самый определяющий период в жизни человека – от отрочества до возмужания. Кем же я был? Каким было мое мировоззрение?
Я думаю, что, несмотря на либеральные и даже, можно сказать, в чем-то социалистические убеждения моих родителей, политически в этот период я был безотчетно «правым». В этом смысле сыграла свою роль гражданская война в Греции и насилие по отношению к оппонентам, в том числе людям моего социального слоя, которое сопровождало действия ΕΛΑΣ. Я совсем не понимал, за что они сражались, и даже думаю, что в то время у меня было так мало симпатии к носителям этого насилия, что, если бы мне сообщили, что кого-то из них повесили или расстреляли, я бы сказал: «Так им и надо!»
Случилось так, что в студенческом общежитии колледжа Помона я оказался в одной комнате с моим греческим товарищем по американской программе AFS Реносом Константинидисом. Ренос был из семьи малоазиатских беженцев и много рассказывал мне о страданиях, которые его семье и другим подобным семьям пришлось пережить в Греции. Разумеется, он был «левым». Это заставило меня впервые серьезно задуматься о проблемах социального неравенства и более широко и с определенным любопытством взглянуть на причины, историю и последствия гражданской войны, политическую жизнь в Греции. С другими моими товарищами мы эти проблемы не обсуждали, потому что американские студенты не интересовались политикой, и уж тем более греческой.
Не могу сказать, что я очень сильно интересовался политикой, однако я положительно реагировал на американскую политическую систему. Пока я учился в Помоне, я застал президентские выборы 1952 года и был доволен, когда на них победил республиканец Дуайт Эйзенхауэр. Он нравился мне своей критической позицией в отношении военно-промышленного комплекса, и я носил на лацкане пиджака небольшой круглый значок «I like Ike»[62]62
Айк – популярное прозвище президента Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961), происходившее от оригинального произношения его фамилии (Айзенхауэр).
[Закрыть]. Вообще, я тогда считал, что послевоенное время было хорошим, благополучным временем для Америки. Колледж Помона был учебным заведением высокого уровня, и его руководство выступало против маккартизма. Поэтому у нас не было никаких гонений на либералов и левых и к нам свободно принимали на работу профессоров из других университетов, где им было плохо.
Напомню, что я ехал в Америку убежденным маленьким западником. Пять лет спустя я стал человеком с более сложным, неоднозначным взглядом на мир.
На Западе со мной случилось чудо: через Запад я открыл для себя Восток. Такое бывает. И хотя в то время я полагал, что стал западным человеком, молодым американцем, я также хотел больше знать обо всем, что имело отношение к моим собственным корням.
Эти корни уходили в глубину византийского мира, православие и историю тех народов, которые жили на юге и востоке европейского континента, то есть на Балканах, в России и частях бывшей Восточно-Римской империи, подпавших под тюркско-монгольское иго. Историческая общность, объединившая эти народы, насчитывает от трех до пяти столетий, является крайне важной, и игнорировать ее невозможно, неправильно.
Таким образом, обучаясь в колледже Помона, я ощутил огромный интерес к истории и современной практике взаимоотношений между Востоком и Западом. Самыми крупными событиями в международных отношениях этого времени были Корейская война 1950–1953 годов и смерть Сталина в марте 1953 года. В этой связи я углубился в изучение двух коммунистических стран, сыгравших ключевую роль в противостоянии в Корее, – маоистского Китая и Советского Союза, постепенно сбрасывавшего оковы сталинизма. Одновременно я изучал китайский и русский языки.
Курсы по китайской истории и культуре в нашем колледже возглавлял доктор Чэн, бывший ректор Пекинского университета, находившийся в Калифорнии в качестве беженца. Китайским языком я занимался два года, и надо сказать, весьма успешно. Помню, с каким удовольствием я однажды зашел в китайский квартал и заказал обед по-китайски в одном из местных ресторанов. Я так увлекся китайской культурой, что мне даже предложили новую стипендию для продолжения карьеры в качестве китаеведа. Однако русский язык мне тоже давался очень хорошо: я быстро продвигался в занятиях и к концу обучения уже мог читать на русском языке «Евгения Онегина». Разумеется, Пушкин стал моим любимым автором.
Я уже писал раньше, что в Греции почти совсем не читал произведений русских писателей. Их тогда довольно мало переводили в нашей стране. Например, скандинавскую литературу греки знали гораздо лучше русской. О советской литературе я уже не говорю.
Именно в Америке я впервые познакомился с Толстым, Достоевским, Чеховым и другими русскими авторами в английских переводах. Я помню, что начал свое знакомство с русскими писателями с «Преступления и наказания» Достоевского, потом прочел «Идиота» и уже не мог остановиться. Особенно я полюбил Гоголя, Куприна и Бунина.
В конце концов, через четыре года учебы я как бы вышел на перепутье, где нужно было выбирать дальнейшую дорогу. Я не сомневался, что буду учиться дальше, и выбрал русский язык и русскую историю, так как ощущал большее духовное родство с русской культурой, чем с китайской. По сути дела, отказавшись от изучения подлинно азиатского Китая, я обрел все тот же Восток, но со значительным элементом западной культуры.
Вопросы, которые ставил Пушкин, имели смысл и для меня. Я хотел понять: как избежать судьбы Онегина? Как правильно пользоваться свободой, которую дает финансовая независимость? («Вот мой Онегин на свободе…») При этом я очень полюбил Россию, которая органически связана с Пушкиным.
3. Новые знакомства. Личная жизнь в Америке
Пока я адаптировался в Клермонте к американской жизни, я начал работать. Например, в летнее время подрабатывал как журналист, строительный рабочий, помощник на сборе сельскохозяйственного урожая и т. д., то есть «шабашничал». Это сблизило меня с моими сокурсниками и помогло усвоить многие черты, свойственные американскому характеру. Среди них важнейшей чертой было, безусловно, отношение американцев к труду. Труд вообще, и особенно работа своими руками, воспринимался здесь с гордостью и уважением. Можно сказать, что в Америке того времени царил культ простого человека. Об этом, кстати, напоминает нам и американская литература того периода – произведения Стейнбека, Хемингуэя, Дос Пассоса и других.
В Калифорнии уважительное отношение к труду и рабочему человеку обнаруживало себя особенно наглядно. Его проявляли многие американцы, пострадавшие от Великой депрессии 30-х годов и занимавшие откровенно левые позиции по разным социальным и культурным вопросам. В их числе были также американские участники интернациональных бригад, воевавших против Франко в гражданской войне в Испании.
Социальные взгляды и идейные убеждения этих людей были важной составляющей философского и политического контекста, в котором в то время развивался американский либерализм и его политическое оформление – либеральное крыло демократической партии США. Они также служили противоядием от диаметрально противоположных общественных настроений – популярной американской идеологии легкого обогащения и всевластия денег.
Я познакомился с людьми, которые отражали эти либеральные взгляды.
Напомню, что я был моложе своих сокурсников, но тяготел к людям более взрослым и развитым. В это время моими друзьями стали Дик Барнс и Джим Шелдон[63]63
Впоследствии Дик Барнс стал известным поэтом и деканом факультета английского языка колледжа Помона. Джим Шелдон стал философом и клиническим психологом. Его стоическое мировоззрение оказало на меня большое влияние.
[Закрыть]. Вместе с ними я проводил много времени в среде местных калифорнийских мексиканцев, а также бедных иммигрантов из Мексики.
Как известно, в 1848 г. американцы отвоевали у Мексики большую часть северо-западных территорий, ставших современными юго-западными штатами США. В процессе американизации этих территорий мексиканские жители превратились в людей «второго сорта». Мы работали с ними на полях и заводах, общались в неформальной обстановке – пили пиво в кафе «Эль Сентенарио» и «Ла Исла» неподалеку от Клермонта, сидели в ресторанчиках и бильярдных, ели их еду, слушали их музыку. Именно тогда я очень полюбил мексиканские серенады, исполнявшиеся ансамблями музыкантов «марьячи».
Выше я уже писал, что в средней школе увлекался спортивной борьбой и вообще любил мериться с товарищами физической силой. Борьбу на руках – армрестлинг – я практиковал и в Калифорнии и стал известен как серьезный соперник во всех мексиканских кантинах, особенно в одной, вблизи Сан-Бернардино, где никто, как ни старался, так и не смог меня победить.
Я хорошо помню мои беседы с приятелем-индейцем Эрнесто, нелегальным иммигрантом с фигурой воина-инка, а также с садовником нашего колледжа мексиканцем доном Антонио Эрмосильо. У дона Антонио была замечательная биография: в юности он был одним из бесстрашных бойцов «valientes», сражавшихся в отрядах знаменитого героя мексиканской революции 1910–1917 гг. генерала Панчо Вильи. Иногда я видел, как он работает в саду без рубашки, и поражался количеству пуль, изрешетивших его мощный торс. Я немедленно вспоминал прочитанное и услышанное о кровопролитных боях в Северной Мексике, особенно о битве при Торреоне против узурпатора Уэрты.
Надо заметить, что калифорнийским мексиканцам было нелегко получить хорошее образование. Из всех мексиканцев, проживавших в местном испаноязычном районе, или по-испански «барио», в колледже Помона учился только один человек – девушка по имени Глория Гонзалес, очень способная и симпатичная. Глория сделала впоследствии прекрасную профессиональную карьеру и много лет занимала влиятельные посты в Министерстве образования штата Калифорния. Кстати, я был кавалером Глории на выпускном вечере ее класса. (В соответствии с американской традицией, юноши и девушки приходят на это важное мероприятие парами, при этом инициатива приглашения обычно исходит от девушки.)
Во второй половине дня я регулярно подрабатывал на сельскохозяйственных работах в большом цитрусовом концерне «Санкисд Лемон Асоссиэйшн». Концерн имел собственную железнодорожную станцию, где мы грузили ящики с лимонами в вагоны-рефрижераторы. До сих пор помню, что в вагон входило ровно девятьсот пятнадцать ящиков. Кроме меня, все работники были мексиканцами. Нами командовал двухметровый управляющий по фамилии Шварц.
Он носил шляпу и имел замашки образцового лагерного надсмотрщика.
Постепенно я начал писать очерки о жизни мексиканцев Калифорнии на основе историй, которые слышал от своих мексиканских друзей. Как бы между делом, в процессе совместной работы и на досуге, я выучил испанский язык. Весной 1952 года я послал несколько своих очерков на конкурс публицистических работ студентов южнокалифорнийских университетов и получил первую премию. В жюри конкурса входили руководители газеты «Лос-Анджелес таймс», которые тепло поздравили меня на церемонии подведения итогов и попросили дать им знать, если я захочу работать журналистом[64]64
В конце 80-х гг. во время лекционной поездки по США я выступал с анализом перестройки в Советском Союзе перед членами редколлегии газеты «Лос-Анджелес таймс». Я шутя рассказал им историю своей студенческой премии и упомянул о тогдашнем предложении работы в газете. Моя шутка сработала неожиданно: мне тут же предложили вести колонку обозревателя в «Лос-Анджелес таймс» и ассоциированных с ней газетах. Дело, однако, далеко не пошло, потому что ни американская пресса, ни американская публика не были готовы к серьезному восприятию тех изменений, которые происходили в Советском Союзе, и газеты-партнеры «Лос-Анджелес таймс» отказывались печатать мои комментарии.
[Закрыть]. Между прочим, в школе Кейта узнали о моем успехе из газет и решением президента школы объявили этот день Днем Джона Николопулоса, освободив школьников от занятий.
Премия по тем временам была колоссальной – тысяча долларов. На эти деньги я купил холодильник и отправил его пароходом из Лос-Анджелеса в Грецию, где, как я уже отмечал в рассказе о своем детстве, холодильники были редкостью. На остальные деньги летом того же года я предпринял довольно продолжительное путешествие на юг – в Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и на Кубу.
Моей основной целью в этой поездке было участие в трехмесячной летней школе испанского языка в Университете Гватемалы. Эта школа и связанный с нею опыт дали мне очень много. В Гватемале я открыл для себя не только «страну вечной весны» с прекрасным климатом и цветущими горными лесами, но и потрясающий культурный слой, в котором увидел аналогию со средиземноморским миром. Я с изумлением узнавал в экспансивной смеси испанцев и индейцев черты своих родных и знакомых. Согласно распространенной антропологической теории, краснокожие индейцы Северной и Южной Америки сибирского происхождения. Их предки были выходцами из тюркско-монгольских племен Азии.
Мое знакомство с Гватемалой и другими странами южноамериканского континента дало мне возможность освоить латиноамериканскую модель мира и понять, что между жителями севера и юга Америки существуют столь же напряженные отношения, как между западной и восточной культурами в Европе.
В Гватемале я познакомился с несколькими симпатичными людьми и много разговаривал с ними о местной культуре и политике. В частности, я заинтересовался проходившей в стране президентской избирательной кампанией и ходил слушать выступления кандидатов на выборах. В это время у власти в Гватемале находился президент Арбенс. Под его руководством буржуазно-демократическое правительство принимало меры по преодолению феодальной отсталости и укреплению национальной экономики, стремилось проводить независимую внешнюю политику.
По инициативе Арбенса был принят закон о защите национальных ресурсов, не допустивший американские компании к разработке гватемальской нефти. В 1952 году в стране началась аграрная реформа, в ходе которой были национализированы латифундии местных олигархов, а также изъята часть земель, принадлежавших американской «Юнайтед фрут компани»[65]65
Американская корпорация «Юнайтед фрут компани», созданная на рубеже XIX и XX веков и поставлявшая в США фрукты из тропических стран третьего мира, контролировала обширные территории в Центральной Америке, Колумбии, Эквадоре и Вест-Индии и активно вмешивалась в политическую жизнь т. н. «банановых республик».
[Закрыть]. Последняя контролировала в то время 95 процентов гватемальских банановых плантаций и фактически распоряжалась в стране.
Как известно, через два года в Гватемале произошел государственный переворот, организованный ЦРУ, и Арбенс лишился своего поста. Помню, что на массовых митингах, проходивших в рамках избирательной кампании, присутствовал один молодой американец, которого я подозревал в том, что он агент ЦРУ. Он не скрывал злобы и пренебрежения, слушая как гватемальцы обсуждают демократическую реформу, и напомнил мне известного персонажа романа Грэма Грина «Тихий американец». Позже я встречал таких и в Греции. Один из них сказал мне как-то презрительно: «Вы, либералы, все одинаковые».
Мне очень импонировал дух фиесты, сопровождавший политические обсуждения в Гватемале – они проходили под звуки благозвучного латиноамериканского ксилофона – маримбы. Женщины были одеты в традиционную одежду индейцев майя и напоминали фигуры из витрин этнографического музея.
На период обучения в летней школе я попросил разрешения посещать вечерние занятия по истории, литературе и археологии индейцев майя в местном университете. Эти занятия проводились на испанском языке, и я хотел тем самым не только больше узнать о культуре Латинской Америки, но и сразу же закрепить знания, полученные в языковой школе. По мнению руководства школы, я делал большие успехи в испанском, и мне, единственному из студентов-иностранцев, разрешили делать два дела одновременно.
Посетив первые лекции, я, конечно, сразу же заметил признаки антиамериканизма у студентов: американцев называли «гринго». Ко мне как к греку относились хорошо. В столичном городе Гватемала проживала только одна греческая семья, владевшая шоколадной фабрикой «Атенас» («Афины»). Ее владелец в свое время женился на местной женщине, и их дети носили греческие имена: Аристотель, Ликург и т. д. Тогдашний консул Греции в Гватемале был француз, торговец люстрами, державший магазин на центральной улице. Я был первым греком, которого тот увидел, не считая хозяина шоколадной фабрики.
Занятия по культуре майя оказались очень интересными. Помню, что я изучал лунный календарь майя, их иероглифы и обычаи, а также основы языка какчикель, на котором говорили индейцы в гватемальских деревнях. В какой-то момент я даже отправился в джунгли посмотреть на основные археологические памятники на полуострове Петен. В этот период там работала археологическая экспедиция Пенсильванского университета, и мне удалось ненадолго подключиться к ее работе.
Памятники находились на низменности, в месте, носившем название Уахактун. Незадолго до этого закончился сезон дождей, и мне предстояло спуститься туда из горной столицы Гватемалы, чтобы проверить, не было ли обрушений в местах проведения археологических раскопок. Я помню, что летел из Гватемалы на военном самолете сначала в город Флорес, а затем в Уахактун, основное место сосредоточения пирамид майя. Иного способа добраться туда в то время просто не существовало. Я помню, что из Флореса в Уахактун меня сначала хотели отправить на джипе, но из этого ничего не вышло, потому что дорогу развезло и джип быстро увяз.
Когда я долетел до места, меня встретили белый испанец по фамилии Ортиз и индеец, имени которого я уже не помню. Они отвели меня в хижину, где меня покормили тортильями с рисом и уложили спать в гамаке. Через какое-то время я проснулся от громких звуков. Оказалось, что в хижине происходит собрание секты свидетелей Иеговы, члены которой читали вслух журнал иеговистов «Аталайя».
Мне запомнилось, что руководил ими восьмидесятилетний старик-китаец, который с восемнадцати лет работал в качестве кули на плантациях, где добывали чикле – смолу деревьев саподилья, служившую основой для производства жевательной резинки. Там он подхватил тропическую лихорадку, вылечить которую смогли только иеговисты, следствием чего и было его обращение и последующее возвышение до главы всей этой компании. Меня, кстати, пригласили участвовать в собрании, на что я откликнулся с большим интересом.
Помню, что, проснувшись на следующее утро, я спустил ноги с гамака и чуть не наступил на большого питона, свернувшегося кольцами на земле и переваривавшего какую-то пищу. От неожиданности и испуга я схватился за привезенный мной из города нож-мачете и убил несчастного, о чем потом очень сильно сожалел.
В Уахактуне я пробыл неделю. В помощь мне выделили уже знакомого мне индейца и двух лошадей, и мы всю неделю совершали вылазки на места раскопок вокруг многочисленных пирамид. Я фотографировал пирамиды с разных ракурсов, чтобы выявить имевшие место обвалы. Позже я послал все эти фотографии руководителю археологической экспедиции из Филадельфии. Помню, что, когда я фотографировал сверху, стоя на пирамидах, я видел на пологе тропического леса снующих туда-сюда и громко кричащих обезьян. В первый же день индеец убил небольшую антилопу, нарезал из нее куски мяса и сушил их на солнце. Этим мясом мы кормились каждый день, закусывая его рисом и все теми же тортильями.
Кроме Уахактуна, я потом еще побывал на местах раскопок пирамид майя в Тикале. Но это была другая история, менее экзотичная, потому что Тикаль уже тогда посещало много туристов и я туда попал с экскурсией, организованной Гватемальским университетом для слушателей летней школы.
Помню еще одну такую экскурсию, на Тихоокеанское побережье, куда нас повезли купаться. Я и еще одна девушка, с которой я разговаривал, пока мы купались, чуть не утонули – нас захватил отлив и унес далеко в море. Помогли нам индейцы-спасатели, заметившие почти на горизонте две барахтавшиеся фигуры и эвакуировавшие нас на моторных лодках-каноэ. Помню чувство бессилия от невозможности совладать с силой океана, безжалостно тащившего нас все дальше и дальше от берега. Помню, как потом лежал без сил на горячем песке и не верил, что остался жив. Повезло нам и в том, что нас каким-то чудом не заметили местные акулы. В общем, в Гватемале я впервые ощутил страх перед темными силами природы. Впоследствии я часто думал о них в связи с начавшейся в 1960 году жуткой и невероятно кровавой гражданской войной в «стране вечной весны».
На обратном пути из Гватемалы я сделал короткие остановки в Сальвадоре, Гондурасе и на Кубе. В столице Кубы я был несколько часов и успел только пройтись по набережной Малекон и бросить взгляд на шикарные бары и казино старой Гаваны. Это было еще до Фиделя Кастро. С Кубы я перебрался морем в Майами, а оттуда до ехал автобусом дальнего следования до Лос-Анджелеса. Ехал я через Техас и остановился в Сан-Антонио у Мориса Леви, моего однокашника из «Афинского колледжа» и хорошего друга. В 1950 году его семья эмигрировала из Греции в США. С Морисом мы приятно провели время, катаясь на лошадях на ранчо недалеко от его дома.
Я уже писал, что во время учебы в колледже слышал много интересных историй. Причем рассказывали их не только мексиканцы. Так, однажды я провел два месяца летних каникул в Северной Дакоте, участвуя вместе с моим другом Джимом Шелдоном в строительстве дамбы Гаррисон на реке Миссури[66]66
Дамба Гаррисона – крупнейшее гидротехническое сооружение на реке Миссури в штате Северная Дакота. Имея две мили в длину и 64 метра в высоту, является пятой по величине плотиной в мире. Строилась в 1947–1953 годах инженерными войсками США.
[Закрыть].
В Северную Дакоту мы ехали на машине Джима, и именно в этой поездке я научился водить машину. Джим оказался великолепным учителем, спокойным и доброжелательным – одним из лучших в моей жизни.
Помню, что с нами работал один тридцатипятилетний немец, бывший офицер, командовавший подразделением в Первой немецкой парашютной дивизии. Эта дивизия была разгромлена греками в 1941 году при парашютном десанте немцев на Крите, а ее остатки были присоединены к частям генерала Роммеля в Северной Африке. Наш знакомый немец служил в личной охране Роммеля и каким-то образом попал в плен к англичанам. По освобождении из плена он сумел перебраться в Канаду и устроился на стройку чернорабочим. Он рассказывал мне об операциях на севере африканского континента, а также о своем участии в операции группы Отто Скорцени, которая в сентябре 1943 года освободила из заключения и тайно вывезла в Германию низложенного итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Начав самостоятельную жизнь в Калифорнии, я много общался с местной богемой, откуда вышли некоторые писатели и художники, позже получившие известность в США и за их пределами. Мое первое глубокое чувство было к одной талантливой юной художнице по имени Клэр Ванвлит. Сегодня она известный американский график, лауреат престижных стипендий и премий. Были у меня и другие влюбленности в девушек из круга молодых интеллектуалов и художников, но гораздо менее глубокие.
С Клэр мы расстались по той причине, что были очень молоды – мне было восемнадцать лет, а ей двадцать, – и не готовы к созданию семьи. Однако девушка оказала на меня большое влияние. Так, считая меня недостаточно культурным, она старалась способствовать развитию моих литературно-музыкальных вкусов и художественных способностей. Вскоре я уже посещал американские музеи и картинные галереи. Особенно мне нравились Леонардо да Винчи, Дюрер, малые голландцы, Пикассо, Ван Гог, Матисс, Сезанн, Брак и некоторые другие европейские художники.
С подачи Клэр я увлекся классической музыкой и начал слушать Моцарта и Баха. Вместе с моей подругой мы слушали «Бранденбургские концерты» и «Хорошо темперированный клавир», ходили на концерты известной арфистки Ванды Ландовской. Тогда же я открыл для себя русскую музыку – Чайковского, Рахманинова, Стравинского, а затем увлекся американским джазом. Моими любимцами стали Луис Армстронг, Каунт Бейси и некоторые другие известные исполнители.
Кстати, с моей любовью к Каунту Бейси связана история о том, как я впервые познакомился с американской уличной преступностью. В то время я довольно часто ездил из Клермонта в гости к моему другу Весу Робинсону, который жил в Сан-Франциско. Однажды я приехал без звонка и не застал дома ни самого Веса, ни его домашних. Пришлось мне уходить ни с чем. Добравшись до станции, откуда отправлялись автобусы фирмы «Грейхаунд», я обнаружил, что следующий экспресс идет в Клермонт только утром. С собой у меня был обратный билет и немного денег – всего несколько центов. Я знал один джаз-клуб, или, как их называли, дайв, и решил провести там часть времени до отъезда.
В тот вечер в клубе выступал Каунт Бейси. Я взял кока-колу и слушал великого джазмена в полной эйфории. В два часа клуб закрыли, и мне, как и всем, пришлось уходить. На дороге к автостанции меня окружила банда молодчиков во главе с мускулистым парнем с металлическим крюком вместо одной руки. С угрожающим видом парень потребовал денег. Я вывернул карманы, предъявил десять центов и предложил ему пойти выпить на эти деньги в ближайший бар. Парень ухмыльнулся и сказал: «Пойдешь с нами». И вправду, дойдя до какого-то бара, вся компания ввалилась туда и немедленно завязала там драку. Я стоял у двери и, не дожидаясь, пока обо мне вспомнят, успешно ретировался. Мне удалось спокойно дойти до автостанции и вернуться в Клермонт без потерь.
Расскажу еще об одной романтической истории, имевшей важные последствия. С отъездом Клэр на дальнейшую учебу в Сан-Диего я остался один и грустил о своей утраченной подружке. Через какое-то время на моем горизонте появилась ее знакомая Хелен, тоже художница. Хелен была способной, артистической натурой, но еще более «богемной» и сведущей, чем Клэр.
Я познакомился с ней на одной из богемных вечеринок, и мы понравились друг другу. Сойтись ближе нам помогло умение танцевать польку. Полька нравилась нам обоим, и мы танцевали ее до одури. Так я перестал страдать по Клэр и сблизился с Хелен. Мы подружились, и вскоре она стала моей девушкой.
С Хелен мы прожили вместе год в небольшом съемном домике среди апельсиновых рощ Клермонта. Жили мы прекрасно, легко, празднично, но в конце года нам предстояло расставание – мое четырехлетнее пребывание в Калифорнии подходило к концу, а вместе с ним подходил к концу и первый американский период моей жизни.
Кстати, полька потом всю жизнь ассоциировалась у меня именно с образом Хелен. Два десятилетия спустя со мной произошел забавный эпизод. Я работал в то время в Университете штата Нью-Йорк в Олбани, и меня пригласили на польскую свадьбу. Выпили мы там по-польски – немало. Неожиданно я обнаружил, что нахожусь в центре зала в паре с рыжеволосой полькой и танцую, естественно, польку же. Мы отплясывали долго и с упоением. В конце концов, я рухнул на пол, и меня увезли домой. Когда я проснулся на следующее утро, у меня было такое чувство, что накануне я танцевал эту польку с Хелен, а от случайной рыжеволосой музы не осталось даже воспоминаний.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































