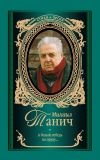Текст книги "Мое облако – справа. Киноповести"

Автор книги: Ю. Лугин
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
14
На улице почти стемнело и к тому же ветер разыгрался низовой поземкой, поэтому Комару в приступе блатного куража кажется вполне уместным повыкобениваться своей якобы крутизной перед пожилым завхозом. То есть попытаться, как у них на зоне говорят, «соскочить». Он вырывается из захвата, которым Иваныч держит его за шиворот, и прыгает в сторону. Вернее, пытается прыгнуть, потому что после ловкой подсечки завхоза летит головой в сугроб – не мягкий пушистый, а слежавшийся и покрытый почерневшей коркой наледи, какими бывают сугробы в начале весны.
– Ну как, размялся? Засиделся в помещении, попрыгать-побегать захотелось? – Иваныч рывком поднимает Комара и выворачивает ему руку в локте, отчего тот орет и сгибается пополам. – Хватит или еще попрыгаем?
– Хватит, – пищит Комар.
– Тогда пошли. И учти, придурок лагерный, от меня не убежишь. Я в Империалистическую в пластунах служил, да и силушкой Господь не обидел. Отец почти до девяноста лет дожил, в восемьдесят мог пудовой гирей пять раз на спор перекреститься, а я, говорят, весь в него!
По тропинке вдоль интернатовского здания какое-то время они идут молча.
Но долго молчать по паскудной своей натуре Комар не может.
– Говоришь, в Империалистическую в пластунах служил? А гражданскую кем? И с кем?
– Тебе-то, деклассированному, что за дело? Или решил в прокурорских поиграть?
– Да не. Просто интересно, какого ляда ты здесь в завхозах обретаешься и на Васю шестеришь. Тебе бы в вертухаи самое то. И силушкой похвастаться, и авторитету больше. Да и шамовка не в пример лучше: зэков объедать не так западло, как детишек… Чё молчишь, дядя? Ударить хочешь? Так ударь!
– Похоже, бесполезно, – вздыхает Иваныч. – Раньше пороть надо было, пока поперек лавки умещался. Шагай уже, глуздырь! И видишь вон то ведро? Забирай!
– А это еще зачем? – ворчит Комар, но ржавое мятое ведро, стоящее недалеко от входа в подвал, забирает.
– Не догадаться? Ничего, когда ночью приспичит, сообразишь.
Иваныч и Комар спускаются в подвал и оказываются в уже знакомой нам кондейке.
– Я чё, здесь ночевать буду?! – возмущается Комар. – Холодно, как в собачьей будке!
– Для тебя в самый раз. Да и остынешь малость, а то горячий шибко. Может, на холоде у тебя мозги работать начнут и поймешь наконец, стоит ли старшим грубить.
Иваныч гремит замком с той стороны двери. Комар плюхается на топчан и заламывает руки под голову.
Когда за дверью все стихает, окно под потолком открывается и через него в кондейку заглядывает Вован.
– Комар, ты здесь?
Комар резко подскакивает.
– А если нет, тогда что? Идиотские вопросы задаешь!
– Мы тут с Чимбой… Короче, если чего надо – скажи. Мы мигом!
– А мне, короче, надо, чтобы вы меня вытащили отсюда! Ферштейн?
– Попробуем, – после короткой паузы говорит Вован.
15
Кабинет директора.
– Только в госпитале, когда меня орденом Ленина награждали, узнал: благодаря нашему взводу атака полка не захлебнулась, а потом и вся дивизия вперед пошла. Только недалеко и ненадолго… Эх, если бы не правая, да от локтя сантиметров десять! – заканчивает свой рассказ Тулайкин.
– Не надо завидовать, Вася. Завидовать нехорошо. Зависть – плохое качество.
Алевтина не кисейная барышня, а хоть и бывший, но боевой офицер-разведчик, чтобы впасть от услышанного в обморок, и ей слишком хорошо знакомо пережитое Тулайкиным, чтобы выразить свое сочувствие ему как-то по-другому.
– Да я…
– Правую у меня гауптман Хоппе трогать не велел. Чтобы на ключе работать могла. Нашу группу под Галковичами еще в воздухе расстреляли.
– Под Галковичами? А где это?
– В Псковской области. В августе 43-го. У немцев там мощная лини обороны была, «Пантера». Нашим ее лишь в июле 44-го прорвать удалось. Ну а тогда… Едва из «дугласа» прыгать начали, а под нами – четыре прожектора… Купола парашютов в их свете красиво смотрелись – как мишени в тире. Что-то и мне в голову прилетело, шлемофон спас, но контузило капитально. Так, что, когда в себя пришла, все равно плохо соображала. Поэтому и взяли живой. Гауптман от радости до потолка прыгал…
…Алевтина смотрит в пространство перед собой и видит не окно в Тулайкинском кабинете напротив диванчика, а небритого неряшливого немца в грязном маскхалате, стоящего у порога заброшенной – и поэтому уцелевшей – кузницы в сожженной деревне.
Никаких знаков отличия на немце нет, как и положено командиру ягдкоманды на задании, но что это офицер нетрудно догадаться по его напыщенному виду и по тому, как угодливо заискивает перед ним синеглазый Генка:
– Герр гауптман, русиш диверсант – радио! Битте!
Гауптман хоть и не прыгает до потолка, как образно выразилась Алевтина, но довольно потирает ручонки.
Генка с полицаем-эстонцем стаскивают Алевтину с телеги, передают двум ягдкомандовцам-немцам, после чего эстонец гонит телегу прочь, а Генка помогает ягткомандовцам затащить девушку в кузницу…
– Если тяжело, не продолжай, – говорит Тулайкин.
– Немного осталось. Рацию немцы рацию тоже нашли. У меня ведь только батареи были, а рация – у старшего сержанта Габдулбариева, вечная ему память и земля пухом… А поскольку рация в сохранности, радистка в наличии, гауптман решил в радиоигры с нашими поиграть. Только не заладилось у него – Наиль умер. Израненный весь, в крови, когда меня увидел, улыбнулся, гауптману кукиш показал и умер. Гауптман обиделся и расстроился. Без Габдулбариева у него шансы заставить меня дезу отстучать сильно поубавились. Занервничал, сволочь. Но попробовал, – Алевтину передергивает…
…потому что у нее перед глазами снова закопченные стены кузницы, нагнувшийся над распластанным на деревянных козлах окровавленным телом десантника гауптман и подобострастно сгорбившийся синеглазый Генка рядом. Гауптман что-то говорит, Генка кивает и, отыскав нужное в куче брошенных в углу инструментов, берет в руки покрытый пятнами ржавчины топор. Один из ягдкомандовцев, не выдержав, отворачивается и зажимает рот…
…а Алевтина продолжает ровным глухим голосом:
– Потом нам с Наилем по очереди пальцы рубили. По одному на левой руке. Сначала ему, мертвому, чтобы я видела, потом мне. Я после мизинчика сознание потеряла – откачали. Хоппе из личной фляжечки конька не пожалел. Хороший коньяк: больше я сознание не теряла. Разве что мутило и больно было очень.
Тулайкин качается всем телом и – сквозь стиснутые зубы:
– Ссс… Попадись мне твой гауптман!
– Не попадется. Я, когда ночью во сне его вижу, сразу просыпаюсь. Как он побледнел весь, как платочек носовой к губам прижимал! Они вдвоем с тем… который с топором, остались. Другие два немца не выдержали, блевать побежали. Повезло, что в одном направлении.
– Повезло?
– Ага. В смысле, мне повезло, а не им. Им-то как раз наоборот. Они же немцы, народ культурный. С крылечка блевать не стали, к сортиру кинулись, а там бабахнуло. Граната, похоже, противотанковая, или не одна. Так рвануло, что фрицев в клочья. Да еще и вперемешку – догадайся с трех раз, с чем?
– Блииин, представляю! Есть же на земле добрые люди!
– Вася, ты комсомолец? – спрашивает Алевтина после короткой паузы.
– Ну да. Честное комсомольское!
– В Бога, стало быть, не веришь?
– Само собой!
– А вот я, комсомолка, иногда думаю: живой осталась только потому, что Он – есть. И еще… Почему по ночам просыпаюсь, я сказала, а хочешь узнать, что мне снова заснуть помогает? Когда вспомню, в каком виде гауптман Хоппе рядом со старой навозной кучей валялся – спиной кверху, галифе на интересном месте мокрые, голова вывернута, потому что шею вилами проткнули, – такой счастливой делаюсь, что сразу засыпаю.
– Какие вы, девушка, ужасы рассказываете!
– Сама себе удивляюсь. Мимо брошенного котенка пройти не могу, чтобы не погладить. Но этих почему-то ни капельки не жалко. Когда после взрыва в сортире Хоппе с… тем, который с топором, из кузницы рванули, у меня перед глазами все поплыло и чудом сознание не потеряла… А может, и потеряла, потому что дальше как кукла заведенная… И сейчас словно бы со стороны себя вспоминаю и не верится, что это со мной было. Или есть все-таки Бог, а иначе никак не объяснить, как живой осталась и после через все немецкие посты незамеченной прошла. Немцев там до черта понагнали – недаром гауптман не боялся оставаться всего лишь с двумя зольдатиками… ну и еще с одним… В общем, какой-то веревочкой культю жгутом перетянула, сообразила нашим сигнал о провале по рации отстучать – Хоппе специально ее «разогретой» держал. Потом рацию – в дребезги, Аллаху про сержанта Габдулбариева напомнила, чтобы милостью своей не забывал, и бегом на улицу. А на улице благодать: солнышко светит, яблоками-паданцами до одури пахнет, у навозной кучи дохлый гауптман валяется…
…покачиваясь и цепляясь за любую опору здоровой рукой, Алевтина выходит во двор. Состояние окружающей природы действительно способно вдохновить любого художника. Разве что идиллической пасторали на полотне не получилось бы – из-за старой навозной кучи и валяющегося на ней дохлого фашиста, но именно эта деталь могла бы привнести в картину более глубокий философский смысл…
Гауптман с проткнутой крестьянскими вилами шеей привлекает внимание Алевтины не по тому, что ей хочется злорадно поглумиться над трупом, а офицерской кобурой на поясе из-под откинутой полы маскхалата. Чтобы достать пистолет, ей приходится опуститься на корточки, а когда она встает с парабеллумом в руке, то видит перед собой Генку. Понимая, что опоздал, Генка с застывшей на лице улыбкой начинает пятиться. Алевтина медленно поднимает пистолет и вздрагивает, снова услышав тихий и до жути нечеловеческий голос, который так напугал еще живого гауптмана несколько минут назад:
Шварцбраун ист ди Хазельнусс
Шварцбраун бин аух их, я бин аух их…
У Генки от ужаса синие глаза становятся почти белыми, он бросается за угол кузницы, оттуда раздается глухой удар и его душераздирающий, преисполненный болью крик.
Чувствуя какое-то движение за спиной, Алевтина резко оборачивается, но сзади никого нет, и лишь, постепенно затухая, слышится:
Шварцбраун мусс майн Мадель зайн
Гераде зо ви их…
Алевтина, зажав пистолет коленями, взводит затвор и заглядывает за угол кузницы. Свернувшийся на земле калачиком Генка бьется в агонии, вцепившись руками в окровавленное древко всаженных на всю глубину стержней ему в грудь и живот крестьянских вил, один в один с теми, которыми свернули шею гауптману Хоппе.
– Классно наши сработали! Партизаны?
– Я, Вася, про Бога тебе недаром напомнила. Не было там никого, кроме дохлых фрицев.
– Да не, партизаны. Сделали дело и ушли по-тихому. Причем здесь бог?
– Был там партизанский отряд, только километров на сорок севернее. Нас потому в тот район забросить хотели, что слишком много карателей там обреталось. Кроме ягдткоманды, эсэсовский спецбатальон, эстонский полицейский взвод и зондеркоманда. Тоже эсэсовская. Командование решило, что неспроста – прячут чего-то немцы… И вообще наши бы обязательно в кузницу заглянули.
– Ну, не знаю, – продолжает сомневаться Тулайкин.
– Еще одна странность. Мои немцы всё Доппельзугера какого-то вспоминали. На каждый шорох озирались. И доозирались, в общем. Другой бы на месте гауптмана, когда во дворе рвануло, в кузнице остался, чтобы под прицелом окно и дверь держать, а этот рыбкой выпрыгнул, едва тот голос услышал.
– Голос?
– Страшный такой, нечеловеческий. Что-то вроде… – Алевтина, коверкая язык, как актриса, на детском утреннике играющая Бабу Ягу, напевает:
Дуви ду дуви дуви ди ха ха ха!
Дуви ду дуви дуви ди…
– Перестань, – морщится Тулайкин.
Алевтина перестает.
– Черт, теперь привяжется!
– А ты фрицевскую каркотню забей. «Катюшей», например. Или моей любимой. Чем плохо? «В а-адном гораде жила пар-рачка…» Как ты сказала? Доплезу…
– Доппельзугер.
– А это кто?
– Специально интересовалась. Персонаж немецких сказок – страшный карлик с мертвым неподвижным лицом. В Доппельзугера превращается ребенок, насильно отнятый у матери, чтобы из мести по ночам убивать людей и высасывать их кровь. В госпитале смершевец из соседней палаты рассказывал: немцев тем летом на Псковщине от одного слова «Доппельзугер» поносом прошибало…
– Даже сказки у них… – Тулайкин, хлопнув себя здоровой рукой по колену, решительно встает. – Короче так, Алевтина! Хоть ты и не совсем правильная комсомолка насчет Господа Бога, хоть и злая ты… к некоторым, а местами вообще бессердечная, я на тебе женюсь!
– Вот так сразу?!
– Не-е, не сразу. Мы слишком мало знакомы – один день всего, да и то неполный. Ты у нас рассудительная. В отличие от меня, безалаберного. Тебе, чтобы меня полюбить, недели полторы-две понадобится. А вот тогда…
– Спасибо, успокоил! – смеется Алевтина.
16
За неимением веревки (где ж ее взять?) сообразительные Чимба и Вован вытягивают Комара из подвала с помощью обыкновенного казенного одеяла. Получается очень удобно – тем, кто вытягивает: оба тянут одеяло с двух сторон и не мешают друг другу, и комфортно – тому, кого тянут. То есть Комару, которому и делать ничего не надо, кроме как держаться за одеяло с боков двумя руками. Вжиг – и готово.
– Молодцы, сявки, классно придумали!
Вполне уместное в этом случае «Рады стараться, ваше выс-прес-вос-ство!» «сявки» выражают бурными моторными реакциями. Особенно Вован, который завилял бы хвостом от радости, если бы у него был хвост.
– И что теперь? – интересуется более сдержанный на эмоции Чимба.
Комар, подражая великому стратегу, скрещивает руки на груди и морщит лоб, изображая работу ума по составлению грандиозных планов. На самом деле, «что теперь» он не знает, но руководить «сявками как-то надо. Было бы в чём.
К парадному крыльцу интерната подъезжает легковушка ГАЗ-М1.
– Оп-па! – причмокивает Вован. – Никак Томочкина мамаша за чем-то пожаловала.
– А это точно она? – Комар щурится, чтобы лучше разглядеть выходящую из машины женщину в дорогой шубе и вычурной шапочке, предназначение которой – издалека семафорить встречным о высоком социальном статусе и материальном достатке владелицы.
– Она, – кивает Вован.
– Похоже, Томочка про кого-то сильно наябедничала, – говорит Чимба.
– Думаешь, заложила?
– Могла и заложить. Мало ли как у нее с мамашей разговор повернулся.
– А и ладно! – весело говорит Комар, демонстрируя блатную удаль. – Семь бед – один ответ! Показывай, в какой комнате воспедрила однорукая кантуется!
– А на кой?
Комар берет Чимбу за воротник, заглядывает ему в лицо и усмехается.
– В гости пойдем. Я приглашаю!
17
В директорский кабинет без стука, бесцеремонно и с самым решительным видом входит дама тридцати с небольшим лет. Не женщина, не гражданка, а именно дама – богато, но безвкусно одетая и с брезгливым выражением на лице, как это свойственно тем, кому из простых повезло стать женами советских или партийных начальников районного масштаба.
– Кто главный в этом бедламе? – высокомерно спрашивает она с ходу.
Алевтина торопливо вскакивает и отходит к окну.
– Вы сюда по делу пришли или нахамить? – вопросом на вопрос отвечает Тулайкин и зачем-то поправляет орден Ленина на гимнастерке
– Что-о?!
– Во-первых, здравствуйте!
– По какому праву вы так со мной разговариваете?
– Пытаюсь соответствовать вашей манере разговаривать с незнакомыми людьми. Кто вам, собственно говоря, нужен?
– Мне нужен директор интерната, потому что я очень обеспокоена судьбой моей дочери!
Дама кипит от возмущения и так пунцовеет лицом, что Тулайкин начинает опасаться, не хватит ли ее удар.
– Присаживайтесь, – говорит он более мягким тоном, выражая заботу о здоровье дамы. – А то когда вы сказали про бедлам, вы обратились не по адресу.
– Извините, но у вас здесь такое творится…
– Я понял: у вашей дочери проблемы. Излагайте по существу. Не отвлекаясь на эмоции и без оскорблений. Если сможете.
– Хорошо, будем говорить по существу. Но имейте в виду: разговоры по существу у моего мужа, товарища Томилина, заканчиваются оргвыводами… Вы в курсе, кто такой товарищ Томилин?
Тулайкин снова поправляет идеально прикрученный к гимнастерке орден.
– В общем, – продолжает дама, – я требую избавить мою дочь от домогательств этого… Кстати, а почему детдомовские учатся в одном классе с нормальными детьми?
– По-вашему, детдомовские ненормальные? Вы вообще-то в курсе, что идет война? И мы, кажется, договорились не отвлекаться. Как-то у вас не очень… Хорошо, я вам помогу. Не стоит волноваться. Отвечайте на мои вопросы – и мы быстрее договоримся. Времени жалко, знаете ли… Вы кто?
– Я?! – возмущенно хмыкает дама.
– Я уже понял: вы супруга товарища Томилина. Но сейчас меня интересуют ваше имя-отчество, а также имя вашей дочери и класс, в котором она учится. Вы же сказали, что у вашей дочери проблемы…
– Вы не в курсе, в каком классе учится дочь товарища Томилина?!
Тулайкин глубоко вздыхает и… медленно выдыхает.
– Просто ответьте на вопрос. Неужели это так трудно?
– Тамара Томилина, четвертый класс. А меня зовут Надежда Николаевна.
– И что случилось с ученицей четвертого класса Тамарой Томилиной, уважаемая Надежда Николаевна?
– Девочка постоянно приходит домой в расстроенных чувствах! Назавтра потребовала положить ей в портфель гораздо больше еды, чем девочке ее возраста требуется. Тем более что приходящие в интернат дети усилиями товарища Томилина поставлены на такое же довольствие, как и детдомовские.
– Вот оно как, оказывается. Я и не знал, что усилиями товарища Томилина…
– Борис Анатольевич не любит афишировать свои добрые поступки. Но не будем отвлекаться, как вы любите говорить. Обычно я ни в чем Томочке не отказывала. Я думала: девочка от доброго сердца хочет угостить школьных друзей домашней пищей. Но буквально час назад, когда девочка, придя из школы, пила чай в столовой, я засту… застала дочь у буфета с бутылкой трофейного коньяка. Это мужу прислал его старый друг по партийной работе, бывший первый секретарь Ивантеевского райкома, а сейчас начальник Особого отдела 330-й стрелковой дивизии Второго Белорусского…
– Вообще-то подобного рода информация разглашению не подлежит, – перебивает супругу товарища Томилина Алевтина.
Супруга товарища Томилина «размазывает» ее взглядом.
– Да, конечно… Коньяк девочка поставила на место, но в ее портфеле я обнаружила две пачки папирос из письменного стола Бориса Анатольевича. Девочка расплакалась и наотрез отказалась идти завтра в школу. Я провела с Томочкой беседу и убедила ее передумать. При условии, что я поговорю с руководством, и ей больше не придется выносить присутствие рядом этого кошмарного Титаренкова. Борис Анатольевич любезно разрешил мне воспользоваться его служебной машиной, и вот я здесь…
– Титаренкова?! – переспрашивает Тулайкин.
– Вот именно. Этого мальчика с обожженным лицом. Который, по рассказам дочери, ведет себя по отношению к ней совсем не как мальчик, а… надеюсь, вы поняли, как?
– Да Коля Титаренков мухи не обидит! И мне просто дико думать о том, о чем вы… короче говоря, намекаете! – Тулайкин едва сдерживается, чтобы не перейти на ту лексику, которая лучше всего передает человеческие эмоции, но печатной и употребимой в приличном обществе не считается.
– Спиртное, папиросы… Титаренков здесь не при чем. Вам Тамара историю со спичами рассказывала? – снова вмешивается в разговор Алевтина, потому что сильные эмоции не позволяют ей не вмешиваться.
– А причем здесь спички? Достаточно того, как он на Томочку смотрит! Вы взрослый человек, но скажите: вы не вздрагиваете, когда видите его лицо? А теперь вообразите, каково десятилетней девочке! И кстати, Алевтина Леонтьевна – это вы? Томочка просила вас, и вы даже обещали свою помощь в ее конфликте с Титаренковым. Или вы только обещать умеете?
Алевтина порывается что-то сказать, но Тулайкин ее опережает:
– Ваши чувства понятны, Надежда Николаевна. Титаренков действительно не совсем обычный мальчик…
– Не совсем обычный? Мягко сказано!
– Я не доктор, чтобы спокойно говорить о психической неполноценности пацана!
– А может, есть смысл пригласить доктора? И оформить перевод Титаренкова в клинику для умственно отсталых. Вы знаете, подходящий госпиталь недалеко. Недопустимо, чтобы нормальные дети учились рядом с сумасшедшими и калеками… Извините, я не имела в виду фронтовые ранения, – супруга товарища Томилина демонстративно и весьма бестактно кивает на искалеченную руку Тулайкина.
Черной перчатки протеза на руке Алевтины она демонстративно не замечает.
– А почему вы решили, что у Титаренкова травмы не фронтовые?
– Не смешите меня, милочка! Скажите еще, будто ваш Титаренков какой-нибудь сын полка или юный партизан-разведчик! Честное слово, я не хотела ставить вопрос о вашем недопустимом для педагога поведении перед Василием Петровичем, но… Может, все-таки объясните, почему вы не предприняли никаких мер после беседы с Томочкой?
– Я пыталась…
– А я думаю, что лучше всего пригласить Титаренкова сюда, – перебивает Алевтину Тулайкин.
– Хорошо, Василий Петрович.
Алевтина уходит.
– Я сам поговорю с Колей Титаренковым, Надежда Николаевна, в вашем присутствии. Попробую убедить его даже не смотреть в сторону вашей дочери.
– Предполагаете, этого будет достаточно? А по поводу того, что Титаренко не просто смотрит, а еще и распускает руки?
– В каком смысле? – напрягается Тулайкин.
– В прямом. Отчего я, как мать девочки, отнюдь не в восторге, – супруга товарища Томилина достает из сумочки носовой платок, манерно промокает им уголки глаз, а после шумно высмаркивается в него. – Надеюсь, не надо объяснять, почему? И мне кажется, подобное поведение требует от вас, как от директора, более решительных действий, чем увещевательные беседы!
– Он действительно это делал?
– Томочка говорила, он постоянно трогает ее волосы.
– По уровню умственного развития Титаренков не отличается от десятилетнего. То есть ни о чем таком не может быть и речи…
– Допустим, вы правы. Хотя я все равно не понимаю, почему воспитанники Детского дома учатся вместе с нормальными детьми? Неужели нельзя разделить? Тем более что детдомовским требуется особый подход.
– В здании Усть-Канорской школы располагается госпиталь. Тот самый. Ничего не поделаешь, война. Детей стало больше, в том числе и детдомовских, а учителей и воспитателей меньше.
– Я была в том госпитале, – предается воспоминаниям супруга товарища Томилина и брезгливо морщится. – Борис Анатольевич лично приезжал вручить подарки раненым в честь 23 февраля. Душераздирающее зрелище, особенно две палаты. В одной, в основном, бывшие танкисты с полностью ампутированными конечностями. Меня поразил цинизм медперсонала – с какой легкостью не только доктора, но даже нянечки называют их «самоварами». А во второй… Кстати, вашему Титаренкову…
– Понял. Не продолжайте, – перебивает Тулайкин и стискивает зубы, чтобы не заскрежетать ими.
Входит Алевтина, оглядывается в дверях и призывно машет рукой.
– Смелее, Коля!
Входит Горел, как обычно, заторможено, сгорбившись и опустив голову.
– Ты забыл поздороваться, Коля! – говорит ему, шестнадцатилетнему, Алевтина, как воспитательница детского сада пятилетнему ребенку.
– Здравствуйте, – глухо говорит Горел.
– Здравствуй, Николай, – говорит Тулайкин. – Жалуются на тебя.
– Я сделал плохо?
– Нельзя трогать девочек, – тем же воспитательским тоном отвечает Алевтина.
– Я сделал плохо?!
– Ты сделал очень плохо. Девочка плакала, – говорит супруга товарища Томилина и куриной гузкой поджимает губы.
– Плакала? Почему? Липка не плакала!
– И почему ты решил, что если какой-то Липке нравилось, когда ты трогал ее волосы, это понравится моей Тамарочке?
– У нее такие же волосы. Светлые, мягкие… Липка не умела заплетать косички.
– Я сама заплетаю Томочке косички!
– Коля, ты трогал волосы девочки, потому что она похожа на Липку? – Алевтина, облегченно вздыхает и выразительно смотрит на супругу товарища Томилина.
– Она другая. Только волосы. Я их потрогал и вспомнил, как заплетал Липке косички… – речь Горела становится быстрой, но прерывистой. – Я не хотел сделать Томочке плохо… Я не хочу, чтобы она плакала… Я вспомнил, как заплетал Липке косички, но я не хочу… – он сдавливает голову руками, начинает раскачиваться вперед и назад, – …не хочу вспоминать… – и вдруг замирает, медленно опускает руки и говорит виноватым детским голосом. – Я больше не буду. Простите меня.
Несколько секунд все молчат.
– Он сдержит слово, не сомневайтесь, – говорит Тулайкин.
– Допустим. Я попробую убедить Томочку. Но имейте в виду, Василий Петрович, если подобное повторится… – супруга товарища Томилина встает, поправляет шляпку, надевает перчатки, – До свидания! – и уходит, преисполненная осознания, что она добилась своего, поставила всех на место и проявила ко всем снисходительность, чего, по ее разумению, никто из оставшихся в должной мере оценить не сможет.
Тулайкин расстегивает пуговицу на воротнике гимнастерки.
– Иди, Коля. Алевтина Леонтьевна тебя проводит.
Горел разворачивается и уходит. Алевтина идет за ним.
А Тулайкин подходит к окну, распахивает настежь форточку, нервно шарит по карманам, достает спичку и начинает мочалить ее зубами. Силы воли у него все-таки хватает, чтобы не закурить.
На цыпочках и оглядываясь, входит Иваныч. Выражение лица у него самое что ни на есть интриганское.
– Василий Петрович?
Тулайкин, вздрогнув от неожиданности, оборачивается.
– Тебя же спать отправили! Чего-то забыл, Иваныч?
– Да нет, наоборот, вспомнил, – Иваныч и по-кержацки хитро щурит глаза.
– Колись. Что-то важное?
– Кому как. Вот тебе, чтобы в кабинете трюмо стояло, шибко надо?
– Трюмо? Откуда у тебя трюмо, Иваныч?
– От верблюда! Я завхоз или где? Короче, тебе не надо и у меня в кладовке оно без пользы пылится. А вещь хорошая, из купеческого дома… Может, Алевтине Леонтьевне в ее комнату поставить? Как думаешь, Василий Петрович, молодой интересной женщине в комнате трюмо пригодится или как?
– А чего тут думать? – говорит Тулайкин. – Пошли, я тащить помогу!
– Оттащить я управлюсь. Поможешь двери открывать.
И они оба уходят.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?