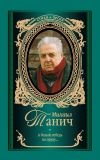Читать книгу "Мое облако – справа. Киноповести"

Автор книги: Ю. Лугин
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
11
Ах ты зона, зона – три ряда колючки!
А за зоной роща – там меня зовут;
А по небу синему золотые тучки
В сторону родную чередой плывут!
Посреди Ленинской комнаты с традиционным гипсовым бюстом Ленина на задрапированном кумачом постаменте, с агитационными лозунгами, картой боевых действий и известным плакатом с Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным в профиль на стене, полулежа, вытянув ноги, раскачивается на стуле досрочно освобожденный Петр Семенович Ахтаров, шестнадцати без малого лет, по кличке Комар.
В комнату вбегают Чимба с Вованом.
– Он? – шепотом спрашивает Чимба.
– Он, – шепотом отвечает Вован.
– Это ты на кого онкаешь, фраерок? – громко говорит Комар.
– Извини, Комар, мы тут с Чимбой… Короче, прими нашенское со всем почтением и уважением!
– Пустым базаром авторитету уважение не выказывают!
Чимба суетливо достает из карманов пачку папирос и газетный сверток и протягивает их Ахтарову.
– Мы порядки знаем, Комар. На вот, прими! Курево и пошамать немного.
– Курево – в самую масть! – Комар обрадовано выхватывает у Чимбы из рук сверток и папиросы. – И пожрать сгодится. В натуре угодили, сявки. Если что… короче, вы поняли! Но если чего скажу – в лепешку расшибись, а сделай. Так в зоне у паханов заведено. Ты, – Комар тычет пальцем в Чимбу, – позаботишься, чтобы у старшака шамовка завсегда была. А ты… – Комар сплевывает на пол и тянет время, не зная, собственно, что ему надо от Вована. – Для начала прикурить дай!
Вован виновато оправдывается:
– Извини, Комар, но спички у нас Иваныч…
– Мне до лампочки, есть у тебя дрова, или в пролете. Я сказал: прикурить дай!
– Да где ж я спич… дрова то есть возьму?
– Найди. Считаю до пяти. Время пошло – уже четыре. Бегом!!!
Вован торопливо убегает.
– А ты пока расклад здешний распиши, – говорит Комар Чимбе. – Для начала про биксу однорукую, которая давеча мне про дисциплину трендела, – передразнивает: – «Посиди туточки, мальчик, пока я тебе учебники подберу!» Мальчика нашла, мля!
– Воспитуха новая. И, похоже, истории нас учить будет.
Вбегает радостный Вован, погромыхивая спичечным коробком.
– Нашел! На первом этаже в дежурке стырил!
– Молоток! Со вчерашнего вечера не шабил, – Комар забирает у Вована спички и закуривает. – Быстро управился – хабарик оставлю!
Входит Алевтина со стопкой книг в руках.
Комар вздрагивает и прячет руку с папиросой за спину.
– Достала я тебе, Ахтаров, учебники. Полный боекомплект. Потрепанные немного, но это ничего… – Алевтина дергает носом. – Вообще-то детям курить вредно и несовершеннолетним не положено. Тем более в Ленинской комнате.
Комар смотрит на нее наглыми серо-голубыми глазами, демонстративно затягивается и, выпускает дым, сложив губы трубочкой и щелкая себя по надутой щеке, отчего из дыма получаются красивые колечки.
– Скажи еще чё-нить смешное, тетенька, а мы посмеемся! – ёрничает он, красуясь перед «сявками».
– Как ты смеешь так со старшими разговаривать?!
– А что ты мне сделаешь, овца увечная?
– Я Василия Петровича позову! – говорит Алевтина дрогнувшим голосом.
Комар дурачится, изображая испуг:
– Извините! Простите! Я больше не буду! – и «затапывает» окурок в плевок на ладони.
Алевтина, успокаивая себя, глубоко вздыхает.
– На подоконнике стопка старых газет. Учебники обернешь аккуратно – поверю. Отсюда ни шагу, пока я за тобой не приду, – говорит она ледяным командирским голосом, которому нельзя не подчиниться.
И уходит, явно сомневаясь, надо ли ей уходить.
– Думаете, испугался? – говорит Комар Чимбе и Вовану. – Тулайкину один разок по телефону стукануть, и кум меня мигом на поруки возьмет. Зоны я не боюсь, зона для меня дом родной, но спалиться на ерунде – шиш вам! Если загреметь, то с музыкой. Чтобы урки уважали. Ты бакланил, бикса здесь за новенькую? – спрашивает он Чимбу.
– С утра только нарисовалась!
– Прописать бы надо… Вместе прописывать будем. Или кто бздит?
– Да ты чё, Комар! – вскрикивает Вован.
Чимба молчит, но молчание, как известно, – знак согласия…
– Договорились. А пока буквари оберните – слышали, что бикса сказала?
Чимба и Вован, как и положено «сявкам», усердно шестерят с учебниками. Комар разворачивает светрок. И все замирают, услышав шум в коридоре. Комар, правда, перед тем, как замереть, успевает поменять позу на стуле в более приличную и скромную.
С криком:
– Спасите! Мама! – вбегает испуганная Томочка.
Следом за ней в Ленинскую комнату входит Титаренков-Горел.
– Не трогай меня, урод! Я маме скажу!
Комар, расслабившись и снова вытянув ноги, с интересом наблюдает за происходящим.
– Отдай! – глухо говорит Горел.
– Не отдам! Сейчас Алевтина Леонтьевна придет и тебе попадет!
– Отдай. Это не твое.
– Это моя кукла. Я ее нашла!
Комар встает.
– Что за кипиш на болоте, что за шухер на бану?
Зэковские словечки и обороты он втыкает к месту и не к месту, как это свойственно не наигравшимся еще в блатную романтику подросткам. Или как лишенному какого бы то ни было авторитета в зоне ничтожеству перед тем, кто слабее его.
Горел не обращает на Комара внимания и смотрит только на Томочку.
– Отдай!
– Не отдам! – кричит Томочка и прячется за спину Комара. – Скажи ему, чтобы не приставал!
– В натуре, чувак, на кой тебе кукла? Ты хоть и урод, но не баба. Или баба?
Вован с Чимбой подобострастно смеются.
– Липка просила никому Олечку не отдавать, – глухо говорит Горел.
– Никакая это не Олечка! Это Нюрочка! Я ее нашла!
– Это Липкина кукла. Отдай!
Горел пытается обойти Комара. Комар отступает в сторону, делает ему подсечку и резко двумя руками толкает в грудь. Горел падает.
– Так тебе и надо! – говорит Томочка не совсем уверенно и обращается к Комару: – Скажи ему, чтобы куколку не отнимал. Мальчишки в куклы не играют!
– Доброе дело почему бы не сделать? Только… У нас на добро добром отвечать положено…
Горел поднимается.
– Зачем ты меня толкнул? Ты не немец, я тебе не делал плохо.
Вован, подмигнув Комару, заходит сзади Горела и опускается на корточки.
– Я больше так не буду! – Комар якобы примирительно разводит руками и бьет Горела в грудь, отчего тот опрокидывается на пол через спину Вована.
– Ты сказал: «Я больше не буду!» – говорит удивленный человеческой подлостью Горел.
– Ну да. Извини. Я нечаянно, – говорит Комар и расслабленной кистью наотмашь бьет Горела по лицу, отчего повязка слетает и видно, как действительно страшно обожжено это лицо.
Вован и Чимба испуганно отшатываются, Томочка, уронив куклу, снова прячется за спину Комара.
– Так ему и надо! Не будет девочек обижать!
Горел поправляет повязку.
– Ты хочешь, чтобы я тебя убил? – в его ровным и спокойным голосе нет ни одной угрожающей нотки, но Комар вздрагивает.
Впрочем, он быстро берет себя в руки.
– Ой, как страшно! – кривляется он и канючит: – Дяденька, не убивай! Тетеньки, помогите!
Вован дергает его за плечо.
– Слышь, Комар, дай спички – хохму покажу!
Комар, не глядя, протягивает ему коробок.
– Фокус-покус! – кричит Вован и зажигает спичку.
Горел испуганно отшатывается и закрывает голову руками.
– Не надо!!!
– А вот тебе! Н-на! Н-на! – Вован зажигает спички одну за другой и кидает в Горела.
Горел пятится, скукоживается комочком, закрывает руками голову, тихо раскачивается и, всхлипывая, бормочет: «Липка-Липка-Липка-Липка…»
– Фокус удался! Ну-ка я попробую! – Комар забирает у Вована спички, зажигает сразу несколько и подносит к голове Горела.
– Не надо! Не надо огонь! Здесь нет немцев! – кричит Горел, еще больше скукоживаясь, и плачет навзрыд. – Липкалипкалипка-а-аааа!
– Клёво! – ухмыляется Комар. – В каком загоне этот псих кантуется?
Вован пожимает плечами и на вопрос «старшака» приходится отвечать более информированному Чимбе:
– С тремя мелкими в спальне на нашем этаже.
– Мелких выгнать. Мою лежку туда, и вы оба туда же. Будем из урода дрессированную обезьянку делать, – наклонившись, Комар передразнивает Горела: – Липкалипкалипка-аааа! – после чего, отхаркнув, смачно сплевывает на пол рядом с ним.
Горел скрючивается на полу в позе эмбриона, плач и бормотание его становятся все надрывнее и надрывнее.
– Тулайкин не разрешит, – сомневается Чимба.
– Не разрешит, когда узнает. А пока он, Тулайкин ваш, ничего такого не запрещал… Понял, урод? – Комар пинает Горела.
– Не надо… больше, – дрогнувшим голосом говорит Томочка.
– Конечно, не надо, – соглашается Комар и говорит с Томочкой с потугами на снисходительный тон, которым, как он думает, уместно разговаривать с маленькими наивными девочками. – А мы больше и не будем. Но и он теперь не станет девочек обижать. Тебе его жалко, да?
– Немножко.
– Немножко – это нормально. Множко уродов жалеть не надо. А ведь он урод, сама говорила.
– Говорила.
– Ты, если тебя кто-нибудь еще обидит, мне скажи. Мы всегда за слабых заступаемся. Эх, за нас бы кто заступился! – Комар сокрушенно вздыхает и – после короткой паузы: – Ты, девочка, не из детдомовских?
– Нет. Я с папой и мамой живу.
Вован что-то нашептывает Комару на ухо.
– Даже так?! – удивляется Комар.
В глазах его появляется странный блеск.
– Скажи, девочка, а твой папочка какие папироски курит? А мамочка нарядно одевается?
– Видел я раз еёную мамашу. Шмотки по высшему разряду. Шуба на песце, бусы, сережки из рыжевья с камушками…
– Ша, сява, не с тобой базар! – обрывает Вована Комар, но с Томочкой продолжает говорить ласково, чуть ли не сюсюкая: – А вот у Вована с Чимбой папы-мамы нет. А ирисок, сахарку им ой как хочется! Сечёшь, девочка? Тебя как зовут?
– Томочка.
– Вот я и говорю: врубаешься, Томочка? Мне лично ирисок не надо, но от папиросок я бы не отказался.
– Я у мамы попрошу.
– А вот маме ничего не говори. А то получится, будто ты ябеда. А с ябедами мы не водимся. Ты так, потихоньку, чтобы мама и папа не заметили.
– Я попробую.
– Попробуй. Прямо сейчас иди и попробуй. А то мамочка дома ждет, волнуется…
– До свиданья! – вежливо прощается Томочка и уходит, не переставая оглядываться даже тогда, когда Комар закрывает за ней дверь.
– Папахен у Томочки в натуре большая шишка, – говорит Вован. – Связываться с такими…
Комар пренебрежительно цокает языком.
– Куража больше. Томочку не обижать, наоборот. Промежду делом, поспрашивайте, где живет, когда родителей дома не бывает, где шмотье хранится, где камешки с рыжевьем и денежки. Хотя нет, не лезьте, я сам.
– Думаешь, хату обнести? – подает голос Чимба. Он бы лучше промолчал, но перспектива стать сообщником преступления его не то чтобы пугает, но…
– А почему нет? Не ссы, вас на дело подписывать не буду. И сам дуриком не полезу. Я при случае фартовым маляву кину, а они решат, обносить фатеру или нет. Как бы карта ни легла, фартовые мне припомнят, на дело возьмут или долю малую за наводку отстегнут. Только об этом – ша!
– Да ты чё, Комар! – обижается Вован.
– Ладно. Сваливать пора. Шконку выбрать, мелкоту уважению поучить…
– А учебники? – спрашивает Чимба.
– Оставь, бикса сама обернет. И сама меня найдет, чтобы отдать!
– Оп-паньки! – Вован нагибается и поднимает с пола оставленную Томочкой куклу. – Томочка куклу забыла! Догнать?
– Нафиг, – отмахивается Комар. – Если бы урод не приставал, нужна ей та кукла. Дома, поди, игрушек навалом.
– Ага, не то, что эта рвань – закопченная, бензином воняет! – Вован брезгливо морщится и бросает куклу на пол.
– Короче, сваливаем, – Комар вихлястой своей походочкой шагает к дверям, но вдруг возвращается и останавливается перед Горелом. – Живи пока, убогий! – ухмыляясь, он с садистским наслаждением дает Горелу щелчка-пиявку и только после этого выходит из Ленинской комнаты.
Вован, подражая Комару, отвешивает бьющемуся в затихающих конвульсиях Горелу еще одну пиявку. Чимба собирается проделать то же самое, но в последний момент передумывает.
Горел, оставшись один, подползает к брошенной кукле, берет ее в руки, раскачивается и, делая над собой огромное усилие, хриплым голосом пытается петь, хотя он уже почти забыл, как это делается:
Тихо… стало… в комнате…
за окном… темно…
Ну и моей… девочке…
спать пора… давно…
…и ослепительной вспышкой в его затуманенном сознании всплывает в мельчайших подробностях картинка-воспоминание, никак не связанная ни с тем, что было до, ни с тем, что случится после.
Зимний вечер в деревенской горнице… Красивая женщина в наброшенном на плечи платке, где на зеленом фоне в орнамент вплетаются белые и красные розы, качает детскую кроватку и поет ласковым материнским голосом:
Едва слышно ходики на стене стучат,
Мама-зайка в норке баюкает зайчат.
Звездочки мерцают, не жалея сил,
Словно кто-то бусинки в небо уронил.
За окном так холодно, дождик проливной.
Ты не бойся, деточка – мамочка с тобой.
И еще Горел видит себя – десятилетнего Кольку Титаренкова, который, подложив ладошку под голову, глядит на поющую женщину с кровати напротив, и постепенно засыпает с улыбкой на счастливом спокойном лице. Потому что сниться ему будут хорошие сны. В отличие от кошмаров, которые не оставят Горела до конца его недолгой жизни. Недолгой, потому что слишком больно жить, когда каждую ночь снятся кошмары.
12
– Принимай работу, Петрович!
Гордясь собой, Иваныч вручает Тулайкину ключи и демонстрирует новенький навесной замок на дверях в комнату Алевтины, постукивая по нему снизу указательным пальцем.
– Принимаю, – барственным баритоном глаголет Тулайкин. – В смысле, работу принимаю и отдельным нарядом специально оформлю. Только ключи ты ей сам передашь – а вдруг в приступе благодарности девушке захочется тебя, небритого, в щечку облобызать? Я бы и сам не отказался, но не за чужие заслуги – мне, скромному и местами застенчивому, своих хватает!
– Тогда придется Митрофановну позвать, чтобы рядом стояла, когда меня девушка лобызать будет, – усмехается в усы Иваныч. – А то я и забыл, что это такое. За сорок лет с последнего раза. Зато как меня Митрофановна в тот раз скалкой по шее, отлично помню!
Продолжая балагурить, директор и завхоз идут по интернатовскому коридору, но бдительности Тулайкин не теряет.
– Стоять! – негромко командует он двум младшеклассникам, которые, вежливо поздоровавшись, как-то уж очень быстро пытались проскочить мимо.
Младшеклассники от негромкого Тулайкинского «стоять!» замирают, как если бы рядом с ними ударила молния.
– Показывайте, что прячете, – командует проницательный Тулайкин, хотя со стороны незаметно, чтобы малыши что-то прятали, и не ошибается.
Малыши послушно выворачивают карманы и выкладывают на подоконник десять половинок от восьмушек хлеба и десять кусков сахара.
– Со всех собирали, мелкие у нас как раз вдесятером за один стол садятся, – говорит Иваныч.
– Кому несли? – спрашивает Тулайкин.
Несуны молчат. Но один молчит, упрямо набычившись, другой начинает тихонько плакать.
– Ладушки, – сквозь стиснутые зубы шипит Тулайкин. – Я и так знаю, кому… Короче, свое ешьте прямо сейчас, а остальное вернёте, у кого брали. Ешьте, я сказал!
Малыши неуверенно переглядываются.
– Иваныч, у меня к тебе просьба, извини, но…
– Незачем извиняться, Василий Петрович, я понял. Ты иди к себе в кабинет, а Ахтарова я приведу. Иди, иди, не сомневайся! И из кабинета не выглядывай – негоже директору видеть, как я паскудника пенделями подгонять буду!
– Негоже, – соглашается Тулайкин. – Ну а поскольку я этого все рано не увижу, ты ж постарайся как следует его отпенделять!
Услышав про Ахтарова, «несуны» с жадностью набрасываются на хлеб и сахар, но едят только свое, и нет ни малейшего повода сомневаться, что указание Тулайкина они исполнят в точности.
13
В кабинете Тулайкина по радио голосом Левитана звучит вечерняя сводка Совинформбюро:
– В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттин, наши войска в результате наступательных боёв овладели населенными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген, Хельневизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд, Эшенриге
В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника, овладели пригородами Альтхофнасс, Гроссе-Чанш и заняли 10 кварталов.
В Чехословакии, западнее города Лученец, наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, овладели населёнными пунктами Заежова, Нересница, Забава, Бзовик, Стара Гора, Кластава, Бадан.
На других участках фронта – бои местного значения и поиски разводчиков.
За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 48 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.
Тулайкин сидит за столом и нервно барабанит пальцами по столешнице. Одет он, в соответствии со своими представлениями о том, как должен выглядеть директор Дома-интерната в официальной обстановке – то есть во все ту же гимнастерку, но с орденом Ленина на груди.
Алевтина, как обычно, стоит у окна.
Входную дверь, скрестив руки на груди, перекрывает Иваныч.
В центре комнаты с вызывающе наглым видом стоит Архатов.
– Вызывал, начальничек? – ерничает Комар и развязно садится верхом на стул перед директорским столом.
– Встать! – говорит Тулайкин, не поднимая глаз.
– Чито?
– Встать, я сказал!!!
Комар испуганно подпрыгивает и подобострастно вытягивается, хотя тут же, словно бы опомнившись, расслабляется.
– Не надо грубить, Петенька, – ласково улыбается ему Тулайкин и обращается к Алевтине: – Обратите внимание, Алевтина Леонтьевна на это… человекообразное. Вам, как историку, оно тоже может показаться интересным, хотя для зоологов интереснее и намного… Когда у нас крепостное право отменили? А Монголо-Татарское иго когда закончилось? Мальчик, похоже, не в курсе, ибо… – вворачивая в свою речь пафосное «ибо», Тулайкин многозначительно поднимает вверх указательный палец, – обложил младших данью!
– Ни к чему хорошему это не приводит. Это как раз история доказывает. Начиная с князя Игоря и древлян.
– Вот и я спрашиваю: зря мы, что ли, революцию делали? Чтобы такое вот… насекомое на вверенном нам объекте малышню тиранило?
– Алё, начальничек! Горбатого не лепи, причем здесь революция? – возмущается Комар.
– Та-а-ак… Как по-вашему, Алевтина Леонтьевна, он грубит, оттого что плохо воспитан, или специально, чтобы меня унизить?
– Не вижу разницы, – пожимает плечами Алевтина.
– Ну, если он просто дурно воспитан, я, пожалуй, перенесу. И даже посочувствую – не повезло парню, бывает… А вот если он, шушера наблатыканная, хамит – мне, боевому офицеру… – не договаривая, Тулайкин смотрит на Комара так, что тот, изготовившись по привычке презрительно сплюнуть на пол, проглатывает слюну. – Давай договоримся, Петенька, к учителям, воспитателям и техническому персоналу обращаться строго на «вы» и желательно по имени-отчеству. Ко мне по имени отчеству не желательно, а строго обязательно. Никаких «товарищ директор» – тамбовский волк тебе товарищ! И предупреждаю: или мы будем дальше разговоры разговаривать, или, только заикнись… – передразнивает: – «начальничек», я вызываю наряд. И тогда… – Тулайкин напевает: – «Ты пройдешь по зонам воровскою мастью вдалеке от дома, где родня ждет». Понял, да, Петенька?
– Понял, – едва слышно отвечает Комар.
– А мы проверим, как понял. За дверь! Вежливо постучать и войти, как следует. И поздороваться не забудь, шваль подзаборная! Пошел!
Иваныч делает шаг в сторону и насмешливо кланяется, как швейцар перед барином.
Комар в бешенстве срывается и хлопает дверью.
Через несколько секунд раздается стук, который с натяжкой, но можно назвать вежливым.
– Да, войдите! – отзывается Тулайкин.
Комар входит.
– Здравствуйте, Василий Петрович! Вызывали?
– Проходи, Ахтаров.
Комар семенит к столу и останавливается напротив Алевтины.
– Здравствуйте еще раз, Василий Петрович, здравствуйте, Алевтина Леонтьевна! Наше вам с кисточкой! Простите меня, я больше так не буду!
Иваныч удрученно вздыхает и качает головой.
– Торжественно клянусь: я больше никогда не буду обижать маленьких и говорить гадости вам, Алевтина Леонтьевна! Честное непионерское! Мне очень жаль, что я говорил вам гадости. Накажите меня! Накажите меня ремнем по попе! – Комар дурашливо изгибается пятой точкой к Алевтине и делает вид, будто приспускает штаны.
– Ахтаров!!!
– Что, Василий Петрович? Я и вас чем-то расстроил? Ах, я гадкий, ах, я нехороший! Гадкий! Гадкий! Нехороший! – Комар бьет себя по лицу кончиками пальцев.
– Перестань паясничать!
– А то что? Наряд вызовете, Василий Петрович? Вызывай, начальничек! Напугал, блин! – Комар, передразнивая Тулайкина, поет с шутовским надрывом:
Ах ты зона, зона – три ряда колючки!
А за зоной роща – там меня зовут;
А по небу синему золотые тучки
В сторону родную чередой плывут!
– Будут тут меня всякие однорукие на понт брать! Сюда смотри, Петрович! – Комар задирает штаны и демонстрирует на коленках синие звезды.
Тулайкин медленно встает, смачивает водой из стоящего на столе графина носовой платок и прикладывает его ко лбу.
– Жарко-то как! Не пожалел ты в печку дров, Иваныч. Надо бы поэкономнее… Это ты сейчас нам вроде визитки предъявил, пацанчик? Мол, «на колени ни пред кем не стоял и не встану»? А ну покажь еще раз, правильные звезды наколол или как?
Комар развязно ставит на стул согнутую в колене ногу.
– Смотри, начальничек, мне не жалко. Можешь даже понюхать!
Тулайкин наклоняется.
– Придержи-ка гопника, Иваныч!
Иваныч обхватывает Комара со спины – сопротивляться тот не может, так как стоит на одной ноге.
– Посмотрим, посмотрим… – говорит Тулайкин, проводя платком по колену Комара. – Химическим карандашом красоту наводил, Петенька?
– Не твое дело! – верещит Комар, дергаясь в руках завхоза.
– Отпусти его, Иваныч. Я с ним бодягу разводить не буду. Я теперь с ним по-ихнему поговорю, без базара.
– Пару раз пристукнуть – сговорчивее будет!
– Не надо. Он и так поймет.
Иваныч нехотя отпускает Комара.
– Сука! – шипит тот на завхоза, отскочив на безопасное расстояние.
– Деловой, да? – голос Тулайкина внезапно приобретает ту вкрадчивую интонацию, которая свойственна тюремным паханам и от которой блатных рангом попроще пробивает дрожь. – Ладушки. А давай я тебя публично козленочком назову? Чтобы все видели и слышали. Тогда ты в натуре себя козлом выставишь, если на меня не кинешься. А если кинешься, я тебя с легким сердцем и чистой совестью вохровцам сдам. А на взросляке тебя авторитетные дяди по полной оприходуют. За то, что на понтах спалился, не своей мастью выгибался, воровские звезды на коленках химическим карандашом позорил. Как бы в натуре прокукарекать не пришлось – а, Петенька? Петя, Петя, петушок, золотой гребешок…
Комар зло сопит.
– А теперь иди, Ахтаров. Я говорил – ты слушал. А если не понял, все равно иди. Дураков не жалко.
Комар, в бессильной ярости зыркая на всех ненавидящими глазами, уходит.
– Ты даешь, Василий Петрович! – восхищается начальством Иваныч.
– Поделись опытом, Вася, как ты это делаешь? – завидует начальству Алевтина.
– Да ничего особенного. Ты, Алевтина Леонтьевна, в случае чего тоже фронтовую смекалку включай…
– Мы не фронте. А ты, Василий Петрович, как всегда, тупо гнешь свою линию. Одну и ту же. Непедагогично, но, вынуждена признать, весьма убедительно.
– Алечка, вы меня в краску вгоняете! Я же такой скромный, такой стеснительный! А вдруг загоржусь? Вдруг начну тут, шнобель к потолку задравши и руки за спину заложивши, важно прохаживаться туда-сюда?
Какое-то время все молчат, успокаивая нервы.
– Мальчишкам тоже в герои хочется, – вздыхает Алевтина. – Оттого и на блатную романтику тянет. В отличие от тех, кто постарше и на фронт успели.
Иваныч вздрагивает.
– Я что-то не то сказала, Иваныч?
– Да нет. Все нормально, Алевтина Леонтьевна, – Иваныч отворачивается, чтобы Алевтина не видела его лица. – Я пойду, пожалуй, Василий Петрович. Присмотрю за паршивцем, а то мало ли…
– Иди. Ты ведь и не спал почти после дежурства. Иди, отсыпайся – этой ночью я подежурю. Все одно хлопотни много. Да и за паршивцем надо будет присмотреть, а то мало ли…
Иваныч хочет что-то сказать, но, передумав, кивает головой и уходит.
– На сына в сорок втором похоронку получил, – поясняет Тулайкин Алевтине, глядя на дверь.
Алевтина молчит – и так понятно, о чем она думает.
– На романтику тянет, говоришь? Я вот на фронте меньше суток пробыл, но хватило, как видишь. И все равно стыдно и обратно хочется…
– Судя по ордену, тебе, Василий, стыдиться нечего. Кстати, за что наградили?
Тулайкин смущается. На откровенный и доверительный разговор с симпатичной девушкой его тянет со страшной силой, но он боится, не покажутся ли Алевтине его слова слишком высокопарными, да и хвастаться он не привык.
– Если тяжело, не рассказывай, – с пониманием говорит Алевтина.
– Тяжело, но придется. А то тебя это самое любопытство замучает.
– Какое это самое?
– Женское.
– А-а, тогда рассказывай!
Алевтина присаживается на край дивана, жестом предлагая занять всю оставшуюся его площадь Тулайкину.
Тулайкин степенно садится рядом и делает вид, что откашливается как лектор перед началом лекции.
– Коротким рассказ получится. Если предысторию опустить. Про училище, дорогу к фронту, то, се, пятое десятое. Короче, едва взвод принял, – приказ: через три часа в атаку. Сразу мандраж перед бойцами прошел: бой покажет, какой из меня командир…
…В окопе рядом с полковым КП – тем самым, из декабря 1942 года – подполковник и замполит напряженно вглядываются в сторону линии немецкой обороны. И не только вглядываются, а еще и прислушиваются…
Сквозь затухающий гул артиллерийской канонады откуда-то слева слышны аккордеон и слова песни, исполняемой звонким красивым голосом:
На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
– Здоровски поет, – одобряет аккордеониста замполит.
– И ведь не скажешь, что невовремя, – говорит подполковник. – Повезло нам с лейтенантиком. Лишь бы…
– Ну да, – соглашается замполит и тоже не договаривает.
Но разведка доложила точно:
И пошел, командою взметен,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Одна за другой перечеркивают небо две зеленые ракеты, песня обрывается раскатистым многоголосым «Ура!», и линия немецкой обороны взрывается грохотом и пульсирующими точками огня.
В своем окопе окруженный бойцами лейтенант Тулайкин складывает в футляр инструмент, убирает его в брезентовый ранец, ставит на землю и передергивает затвор пистолета. Он слишком занят и боится не успеть, чтобы бояться чего-то другого.
Далее то, о чем рассказывает Тулайкин в директорском кабинете Алевтине два с лишним года спустя, мы видим его глазами. В полном соответствии услышанному, но контраст между его спокойным и слегка ироничным голосом только обостряет ужас восприятия от увиденного.
– Пошли в атаку. Я, как политрук на той фотографии из «Правды», ногу на бруствер, руку с «тэтэшкой» вверх – и: «За Родину, за Сталина!» А рядом фрицевская мина хлопнула. Поначалу боли не почувствовал. Бегу, ору: «Вперед, бойцы!» – а бойцов и подгонять не надо: кто на меня посмотрит, глаза выпучит и вперед рванет – куда там братьям Знаменским! Что фрицы впереди в окопах не тишком сидят, а из всех стволов по нам шмаляют, уже по барабану. Кстати, не шибко метко шмаляли – я уже потом догадался, почему. У них тоже на меня глаза пучились. В общем, выбили их из окопов. А когда выбили, я на рученьку свою посмотрел. На то, как то, что от нее осталось, вибрирует и кровь – толчками… Тут меня обмороком и накрыло…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!