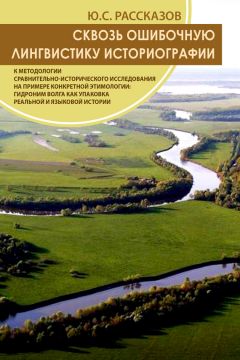
Автор книги: Ю. Рассказов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ю. С. Рассказов
Сквозь ошибочную лингвистику историографии. К методологии сравнительно-исторического исследования на примере конкретной этимологии: гидроним Волга как упаковка реальной и языковой истории
Введение
Кому приходилось проезжать летом на автомобиле в зоне нижней Волги, например от Самары до Волгограда, не мог не заметить характерный волнистый рельеф холмов и валов, то зеленовато-, то желтовато-белёсых (от вечно припыленных лесков и степи и вечно присушенного бурьяна), отделяемых друг от друга сухими песчаными оврагами, зеленеющими, но привяленными балками, вологими лощинами, полными туманной влаги или марева полуденных испарений. Часто на очередном спуске в такие лощины видишь, как в них вложены водные языки Волги, виляющей, если судить по указателям и карте, далеко в стороне. Стоит однако выехать на берег, то с недоумением замечаешь, что виляет такой долгий вал вод, который по своей ширине и впрямь есть великое славное море, даже в спокойную погоду погоняющее свои вольные валки волн. А наблюдая в каких-то небольших, не главных, не потёмкинских, населённых пунктах загорелых и припылённых аборигенов волжан, вяло торгующих какой-то ерундой, поделками, овощами или рыбой, невозможно не опознать в них вольных или невольных волгарей и невозможно не проникнуться духом и впрямь великой Волги-матушки. А если ещё вспомнить недавнюю популярную фольк-историю! Султана Селима с его военной переволокой или Петра Великого, по-разному пытавшихся в конце 16 и 17 вв. не просто повторить старинный волок в новом пути из варяг в арабы, а соорудить Волго-Донской канал. Удалось это только к 1952 г. уже другим чудо-богатырям по указанию Великого Сталина… Впрочем, давно нет ни волочной волокаты волов, ни волока бурлаков, ни волоколыма зк и военнопленных арийских Volk`ов, ни волокиты перегруженных барж, ни пустой баланды биваков. Только нескончаемая булга сверкающих издали современных городов и разноголосые балаки сволочённого в них люда. Учитывая современную, позднесоветскую и нынешнюю, всё ещё посоветскую, деградацию Поволжских регионов, включая обмеление Волги-реки, и деградацию всей России, чему никак не найдётся Дна-батюшки, ясно, что всё былинное величие в прошлом, поросло быльем. Но речь пока не об этой хозяйственной разрухе, организованной странными столетними проволочками волостных и всевластных володетелей и володимеров великорусского мира.
Речь пока о слове «волга», о сопричастных с ним словах и поиске их исконных значений. Это, конечно, не исправление имён, но беглый опыт восстановления всех исторических коннотаций, в контексте которых будет понятно, насколько нелепа наша зацикленность лишь на современных, так называемых, «естественных», или «первых», или «академически» – авторитетных значениях.
Заранее признаюсь, это сообщение может показаться слишком жёстким. Но на самом деле это элементарная прямота и честность, сознательно положенная в основу стиля. За всю мою тридцатилетнюю научную практику не нашлось (если не считать М.К. Мамардашвили в 1989 г.), ни одного человека и специалиста, который бы пошёл на профессиональное общение и для начала просто прочитал исходный текст. Если кто-то и брался читать, то, чаще всего мгновенно, исчезал из контакта. При том, что сначала ничего феноменально нового я не излагал, всего лишь напирая на новую логику выведения. Это особенно странно, если учесть, что среди этих визави были как не самые последние академики (вроде С.С. Аверинцева), так и ближайшие товарищи собутыльники (имя им…). На самом деле это лишь тотальная идейная цензура, из-за которой нельзя и ничего издать даже за свой счёт. Как раз поэтому я и не пытаюсь соблюдать жанровые нормы, трамвайные приличия и риторическую ловкость. Читать меня будут тогда, когда всех нынешних авторитетов уже не будет, а читать будут те, кто ценит только логические сущности, а не дипломатические реверансы.
1. Волга по лингвистике
В самом первом приближении это установление этимологии слова. Само собой, его «истинного, первоначального значения», как это полагается в обиходе уже 2 тысячи лет. Но не только. Сколь-нибудь научный подход требует кроме выверенного значения найти и первую форму слова. В. Пизани: этимология должна «определить формальный материал, использованный тем, кто первый создал слово, и то понятие, которое он хотел выразить этим словом», включая то, «что обычно называется изменением значения» («История – проблемы – метод». М., 1956, с. 70 – http://history-library.com/index.php?id1=3&category=drugoe&author=pizani-v&book=1956&page=31). Поскольку я не стремлюсь тут к исчерпывающему лингвистиковедческому охвату всех суждений ни в области теоретических определений (см. «Модель историко-языковых реконструкций.
Инакомысленные материалы к теории сравнительно-исторического языкознания. Книга первая. Выборочная история лингвистики». 2012. 495 с. – http://www.proza.ru/2012/05/10/1727), ни по сути темы, начать её проще с эталона современной этимологии – со сводки русского немца М. Фасмера, в энциклопедической статье о Волге чётко показавшего современные научные пределы допустимости того или иного толкования. С учётом существования подобных Волге по звучанию названий для своих рек в чеш. Vlha и польск. Wilga с их регулярными соответствиями Фасмер «принимает» как самую вероятную форму происхождения слова праслав. *vьlga с современным, обобщённым из этих же языков значением «влага». Наоборот, из-за отсутствия таких регулярных соответствий (по происхождению и чередованиям в системе языка) отметаются вроде бы похожие слова, фин. valkea, эст. valge, «белый», или мар. jul, тат., башк. jylɣa «ручей, река». Хотя в одном из этих случаев, кроме прямой невыводимости звуков, и значение «белый» совсем не вяжется к смыслу на фоне «влага» или «река»: с чего это вдруг Волга могла называться белой? Ещё более произволен по значению пример толкования, добавленный к Фасмеру в виде казуса О.Н. Трубачёвым, из похожего звучания от названия птицы иволга, чеш. vlha, рус. и-волга. В самом деле, с какой стати реку нужно было наречь по имени птички? С таким же успехом можно и волобьём. Скорее птичку следует назвать по имени той реки, например, на берегах которой она эксклюзивно обитает. В отношении иволги этот пример не работает: она живёт практически по всей Европе, а в России – в умеренных широтах вплоть до Енисея.
Но усомниться нужно не только в отношении очевидных глупостей. А с чего вдруг следует считать этимологией слова Волга понятия, точнее, представления «влага» или «река»?
Во-первых, разве есть что особенное во влаге Волги, что определило бы такой выбор имени, или она единственная большая река в России? Нужно дать хотя бы какое-то убедительное реальное обоснование. Сразу скажу, ничего убедительного мне не попадалось. Но это и невозможно в силу заведомой ложности такого хода мысли: название обязательно дается по ценностному выбору носителей языка, поэтому никакого объективного реализма в их чувственном предпочтении просто не может быть. Обоснование может быть реальным, т. е. убедительным, только в психофизическом смысле. Например: вокруг столетиями стоит великая сушь, а эта река всегда полна влагой (жаль, что не водой). Или: все реки так себе, а эта Река – матушка. Первого никогда не было, Волга всегда течёт либо в болотах и плавнях, либо сама становится большим болотом и старицей. А матушкой эта Река является только для русских. Что ж они не назвали её Рекой, а позаимствовали чужой термин реки? Нет, если эта река – матушка, то и Волга – её подлинно русское имя, настолько подлинно-авторитетное, что стало термином реки и для окружающих её народов (т. е. юлга и пр. – это искажённое Волга, как ватт от фамилии Уатт, коньяк от провинции Cognac, бродвей в любой деревне от американского Broadway, голгофа в любой душе от горы Голгофы).
Во-вторых, разве изолированное представление может быть этимологией, исходным значением слова? По самой структуре значения оно вариантно, многозначно, многопонятийно (намекаю на азы семантики, от Пирса и Фреге до Чомского и Апресяна). Именно поэтому нет и не может быть первого и единственного этимологического значения. Кроме того, выше был перечислен ряд разных слов, выражающих одно представление. Выходит, что самые разные слова, тем более – слова разных языков, имеют одну этимологию? Разумеется, этого не может быть в принципе. В противном случае все языки, по сути, являются одним языком.
Как же совмещается парадокс многозначности любого этимологического значения и уникальности этимологии каждого слова? Решение находится в самой природе слова, точно определённой ещё В. Гумбольдтом и многообразно объяснённой его последователями, лучше всего А.А. Потебнёй, К. Фосслером, А.Ф. Лосевым, М.М. Бахтиным. Если вспомнить Потебню, то слово по указке его формы является особой установкой многих значений – точкой зрения на мир представлений через то, что называется мотивацией, или внутренней формой. «Под словом окно мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом око, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое – субъективное содержание, в котором признаков может быть множество (пользуемое, условное значение – Ю.Р.)» («Мысль и язык». М., 1999, с. 90 – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/07.php). Так вот, в строгом смысле найти этимологию слова – это определить его внутреннюю форму, объективную мотивировку (например, по Потебне, всё же речь об отверстии, местоименно названном: око воно-вно, т. е. наружу и внутрь: оковно → окуно → окно; ср. с осторожничающим Фасмером: «Праслав. *оkъnо -из око, ср. англ. window «окно», др.-исл. vindauga – то же, букв. «глаз ветра»», – что Викисловарь уверенно сводит к необъясняемому: «из *oko глаз + *-ъno»). Т. е. установить уникальное единство формы и значения, которое и является постановом слова как цельного смыслозвука, которое образует, производит слово как таковое и впервые. Ни «влага», ни «река», как вариант имени собственного, а как раз мотивационное определение «Волга есть такой-то предмет с такой особенностью» (не обязательно в такой форме логически правильной дефиниции, допустим для примера бессмыслицу, «влажная река», – это и могло бы быть научной этимологией, если бы все остальные реки были сухими.
К сожалению, и определения этимологии, а тем более практика этимологии крайне редко приближаются к сути дела. В качестве нейтрального примера, не относящегося к этой теме, можно привести слово невеста с колоссальной, почти двухсотлетней историей научного этимологизирования, которая так или иначе отражена у Фасмера. Его предпочтение из этой истории по словообразовательной славянской очевидности: «Лучшей по-прежнему остается стар. этимология, которая видит здесь первонач. знач. „неизвестная“ (см. не и ведать)… Табуистическое название должно было защитить женщину, вступающую в чужой для нее дом, дом ее жениха, от злых духов». Другую славянскую же очевидность, опровергаемую Фасмером, от вест– вести (< *neuo-ued-ta в противоположность < *ne-uoid-ta), предпочитает Ю.В. Откупщиков: «Невеста 'новобрачная'… В семантическом аспекте д. – рус. водити жену полностью совпадает с лат. uxorem ducere… в литовском языке имеется слово nauveda = 'новобрачная', которое и в семантическом, и в словообразовательном (словосложение!) отношении самым убедительным образом подтверждает надежность этимологии» («Принципы этимологического анализа» // «Из истории индоевропейского словообразования». 2005 – http://bookish.link/yazyiki-inostrannyie/istorii-indoevropeyskogo-slovoobrazovaniya.html). Нужно понять, что обе версии, почти равные со словообразовательной точки зрения, и равно вероятностные по разным семантическим обоснованиям (в первом случае по мифологическим, во втором – по компаративно-семантическим), всего лишь сообщают разные условные значения слова, а не мотивацию, и как раз поэтому они, как любые народные этимологии, произвольны, частью алогичны в житейском смысле, а частью не соответствуют всей парадигме ближайших значений: невесты – это и новобрачные, и добрачные, и повторно-потенциально брачные, которых не только не табуируют этим словом, а наоборот, детабуируют, маркируют их принадлежность к категории ещё небрачных, не познавших брака, не введённых в брак. Т. е. по сути это незнающие-неведающие, не прошедшие полностью брачную инициацию (молодые, глупые, непорочные, девственные, непоятые, очарованные). Но именно такова внутренняя форма слова. Невеста – исключительно в русском языке! – это не-ввест-на(я) / не-вед-та(я), невведённая обрядом, небрачная ещё неведа, о которой к тому же неизвестно до брачной ночи, такая ли она неведа (с совершенно естественной из-за корневого чередования произносительной редукцией д): даже если в десятый раз невеста, всё равно не ведает, сохраняет наивность, надеется на брак, на более удачный инициационный ввод.
Мотивация сохраняет и обыгрывает древнее единство корня вед-, в котором равно актуально и значение «знать-познавать», и значение «вести-вводить». Какой резон изображать научность и объяснять абстракциями мифологии, статистикой соответствий и параллелей значений из других языков, когда нужно просто осознать (исключительно в рассматриваемом языке) целостную органику формы и смысла слова, как можно полнее и системнее описывающую реальное явление. Сбор всех возможных значений, указанных мотиваций, и актуализация всех возможных формантов, объясняемых из одной внутренней формы, непроизвольно (но не произвольно, а закономерно) соответствующей реальным событиям, и являются подлинными критериями надёжности этимологии. В этом развёрнутом жизнью единстве смыслозвука, читающегося исключительно в испыточном, проверяющем контексте жизни, даже одно слово является, по Бахтину, произведением речевого жанра. Первоначально слово-мотивация возникает в многократном пробном применении как сгущение жизненно-словесного контекста эпохи. Много позже контекст меняется, к формам и значениям примысливаются новшества: добавленные мотивации вызывают трансформацию формы. Первичные мотивации забываются, но сохраняются тайно в каких-то разных трансформациях-упаковках (некоторые из которых, изолировавшись в другом контексте, становятся нормами других языков: вот «нео-веда» – новоприведённая-новобрачная, вот «не-вестна» – неизвестная, вот «невiста» – невыставленная на обозрение / невыстоявшая от соблазнов и т. п.). В конце концов слово осознаётся только по условным пользовательским значениям и употребляется по прежнему практическому опыту.
Найти в этих обстоятельствах этимологию – это и значит восстановить все прежние формы и значения в контексте исторической эпохи и конкретного речевого жанра, формулируя мотивирующее единство этих сло́ва и эпохи. Бегло на нестрогих полуусловных примерах это будет так. Если судить исключительно по реальной логике событий, око-вно появилось тогда, когда стали строить жилье, в тёплом климате, но на основе пещерного ледникового опыта (око-отверстие для света может быть смыслоразличительным только в полностью закрытом тёмном объёме, постоянно открытое отверстие возможно при сравнительно высокой температуре окружающей среды, в которой, однако нельзя выжить вне помещения). А невеста – когда стала важной наследственная чистота зачатия, когда люди уже сознательно культивировали род. Первое слово – произведение обустраивающей речедеятельности (где дыра в жилье и как опознаётся), второе – произведение проверочной, инициационной (насколько суров обряд и насколько серьёзно воспринимается). Именно эти признаки в словах являются жанровыми основаниями анализа языковой ситуации и сравнения разных языков. Так, англ. окно window в системе самого языка мотивируется как «ветер-сквозь» (wind+down с учётом арх. row de dow / разг. просто row – шум, гам, гвалт, гул, где dow забыто, не имеет значения) (дув, сквозняк без опознания причин, что бывает уже, как минимум, при двух дырах в пещере). Др.-исл. Vindauga – скорее «ветроглаз», а не «глаз ветра» (дыра, ясно опознанная как причина ветра что сообщает о большем, чем в английском, понимании устройства помещения). А лат. fenestra – «колеблющее соломинку» (feneus сенный, соломенный, traho тянуть и trachea дыхательное горло) (лёгкий сквознячок, наблюдаемый на сенном ложе, т. е. внизу, или на сенном тюке у входа, «сено-дыра»: дыра в пещере одна). С учётом этих примеров и русское окно в первоначальном виде было око-на, просвет сверху, вентиляция-дымоход, что сообщает, в отличие от английского и латинского, и полное сознание факта, и, в отличие от них и др. исл., продуманность конструкции жилья. Первые отражают различные пользовательские сознания (самое архачное английское, самое молодое – др. исл.) и разную реальную среду его обретения (холод в английском, тепло в латинском, темноту и холод в др. исландском), а русская мотивация сохраняет устанавливающее сознание (важнейшую особенность приспосабливаемого помещения), на основе чего и возможно любое из названных пользований. Если в литовском языке невеста мотивируется как нововведа, только что приведённая в семью, а в украинском как ещё не показавшая публично следы брачной инициации (вариант: ещё не признавшаяся в своём грехе), то ясно, что в украинском суровость и серьёзность обряда сохранены гораздо нагляднее, что указывает на более древнее образование слова. Русская мотивация полностью и безоценочно, по сути, научно, охватывает всю предметную зону ситуации «невеста». Если сравнить, то литовская мотивация является всего лишь одним из обиходных значений русского слова, украинская – добавленной мотивацией к основной русской мотивации. Всё это сообщает о том, что литовское и украинское слова возникали на материале русского слова в совершенно разных предметно-ценностых условиях (т. е. носители языка слышали русское слово, но в процессе пользования им переосмыслили в меру своего понимания и переоформили в меру своих произносительных способностей и по гиперкоррекции предметно-логической ситуации).
Наконец, все эти открываемые факты – совсем не то, чтобы, по жанру компаративистики, найти единую для разных языков надконтекстную форму и значение гипотетического межъязыкового слова (например, трансформировать форму window к оку, хотя бы как wind+auga, а всех разномотивированных невест – к «не-вед»). Уже поэтому, из-за приблизительности и ложности компаративной методики и цели поиска, кажется, нет смысла разбирать, как на практике доказываются этимологические версии этой усечённой учёной наукой. Но нет другого способа сделать суть дела этимологии наглядной, кроме как показать её на фоне существующей практики.
Фасмер добавляет ещё для сведения и некоторые исторические именования Волги. Птолемевское `Ρᾶ, морд. э. Rav(o) (с перекличкой с авест. Raŋhā, др.-инд. Rasā, и выведением из индо-ир. *Sravā: др.-инд. sravā «течение»), чув. Atäl, Adyl, тат. Idyl, казах. Edil, тат. Kara Idyl «Волга» и т. п. Итили.
Само собой, Фасмер в силу жанра энциклопедии проигнорировал довольно много общих сведений, точно относящихся к Волге, но не обязательно что и к слову. И это не единственная его личная избирательность. Не все согласны с Фасмером и по технике собственно фонетических соответствий. Так, оспариваемый им И.Ю. Миккола, выводил слово Vьlga из реконструируемого древнемарийского *Jьlga вполне логично, по заверению В.Н. Топорова, который, однако, придерживался совсем другой, не упомянутой Фасмером балтской этимологии («Ещё раз о названии Волга» // «Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию С.Б. Бернштейна». М., 1991. С. 47–62 – http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1991_Studia_Slavica.pdf).
Ретрансляцию позиции Микколы см. у Ф.И. Гордеева: «В общефинно-угорское время оно (*jala) выступало со значением «река», о чем свидетельствуют соответствия из родственных языков: коми-язьв. йула «река»; йула дорса «около реки», йу «река», мар. йу. Рассматриваемое нами слово *йала подверглось определенным фонетическим изменениям: ф/у *йала > йола > йула > йу. Данное слово является индоиранским заимствованием эпохи финно-угорского языка-основы, сскр. Jala, вода» («О происхождении гидронима Волга» – http://op.imja.name/statji/gordeev1969.html).
Несмотря на эти частные расхождения суть классической компаративной избирательности одна и та же. Предполагаемый остов слова должен произойти либо из праязыка (общеславянского, индоевропейского, ностратического – в зависимости от стадии выведения), либо из другого языка – с видоизменённым заимствованием формы и со слегка смещённым значением. Идеальна тавтология, говоря на лингвистиковедческом жаргоне, происхождение путём онимизации чужого апеллятива, превращения нарицательного имени в собственное: слово Волга произошло из слова такого-то языка, которое значило «река». Когда онимизация случается внутри одного языка, это просто переосмысление. Никакое не происхождение слова, а другое его употребление (видовой термин становится ярлыком индивидного предмета: г. Орёл называется птицей, пусть даже по недоразумению, как омоним). Несомненно, связь с прежним употреблением может быть утрачена навсегда, если апеллятив исчез, а оним от него остался (было доно, остались дно и Дон). Именно поэтому внутри русского языка никакая река не может называться просто Рекой (только по какому-то казусу, вроде поручика Киже). Легче и быстрее всего утрата прежнего употребления случается, если прежним был другой язык. Но так слово не создаётся, а переносится в новый язык, т. е. переводится-транслитерируется (и только в такой степени трансформируется по звуку и смещается по смыслу): англ. tank-резервуар стал танком-машиной. Такое перемещение слов бывает только через кабинеты толмачей, а не в жизни. Но кабинетное перемещение никогда бы не стало фактом другого языка, если бы не было переноса в живую речь и полного забвения в ней английского значения и восприятия ранее английского слова как совсем иного. В жизни слова создаются на раз, по ходу дела, кстати к моменту из имеющихся запасов слов носителя языка и по опыту их понимания-применения. В любом случае, слово создаётся людьми по делу – подбирается по случаю уместный к смыслу дела суетный (повседневный, обычный, знакомый) звук. «Ставь сюда эту херню и бей этой фиговиной!» – тут процедура делания слова хорошо видна из-за его недоделанности, использования в качестве слова его ситуативного разового типового суррогата. В случае с танком, наоборот, вопреки норме обычного создания слова, из-за жанровых соображений секретности, специально подыскан алогичный звук, смысловой суррогат. И никак не подбирается из готовых, чужих или своих, словарей уместное к сути дела значение. Переход tank в танк из книжности в жизнь засвидетельствован по памяти и документально, поэтому и не вызывает сомнений, несмотря на полное несходство значений. Не будь такой житейской достоверности, слово можно было бы выводить с не меньшим основанием из таран, из г. Танк, из нем. Ding, из яп. танка и бог весть ещё откуда.
Именно так, по второй схеме, и делает чаще всего компаративистика, как и любая народная этимология. То, что считают происхождением слова компаративисты и что они изучают как этимологию, поиск транслитерированной исходной формы и уровня смещения её значения, – это не анализ спонтанного скока слов из уст людей, закрепляющегося от многократного скока в похожих ситуациях как происхождение, а учёное рассмотрение полуучёных заимствований слов из словаря. Они тоже бывают, но только в местах и временах интенсивного переводческого, книжного общения и только по правилам построения письма и по контакту двух орфографических систем. Эти факты занимают ничтожное место в жизни языка, не имеют внутрисистемно-языкового характера и поэтому вовсе не определяют его начально-этимологических установок и развития, до широкого вовлечения в сферу письменности. Но только эти факты книжности считаются достоверным предметом науки, начиная с А. Шляйхера (исключившего всё остальное из науки как неизвестную «предысторию языка»). Потому что только они, на ум этой науки, проявляют какой-то чёткий лингвистический порядок. Это фактическое заимствование толмачей (называемых народом), чтобы казаться кабинетным учёным соответствующим реальному происхождению слов, должно по их учёному рассмотрению проходить по строгой фонетической закономерности, многочисленно представленной в книжных языковых параллелях и при очень небольшом смещении значения при переходе из языка в язык. Это может казаться даже нормальным, когда сравнивают старые книги. А в живых языках (которые к тому же невозможно изучить все, в отличие от древних книг) заранее не известно, имеют они дело с живым словом или переводческим, вероятных языков-источников очень много, а путей физической передвижки одних звуков в другие ещё больше, поскольку в языке возможно всё. Вот почему в основе любой академической гипотезы всегда лежит первопричинный (порождающий живые факты и объясняющий их) приоритет древних текстов, т. е. установка «научного» предпочтения переводческих фактов, а в её рамках разрешено и индивидуальное ощущение и мнительность конкретного кабинетного исследователя по каждому из этих допусков.
Даже по одному этому принципу многоэтажной избирательности, фонетически строгой, с тавтологическим значением и допустимой лишь по усмотрению персоны, но из заранее заданного списка вариантов, невозможно считать такие упражнения научными. Тогда нужно признать наукой и по-своему последовательные выкладки А.И. Сомсикова (предупреждаю, что мой конспект несколько усиливает произвольность суждений, но нисколько не меняет самого детского пафоса интуиции): «ГАНГА=ГА-НГА. Нетрудно догадаться, что здесь обычное сокращение или «редукция», образованная повторением двух одинаковых слов НГА-НГА. Простое обозначение множественности посредством удвоения. А значит, ГАНГА есть просто БОЛЬШАЯ НГА….ВЕЛИКАЯ река Индии. Остается найти этимологию исходного слово НГА. Несложно предположить, что это тоже редукция исходного и не чего-нибудь, а именно русского слова НОГА….Означает, вероятно, просто ПОДНОЖНАЯ. Поскольку ГАНГ вытекает из Гималаев и течет у их подножия. По-русски, мы бы скорее сказали «Подгорная»… ВОЛГА=ВОЛГА. Второй слог дает уже знакомое слово – ГА, означающее ниспадающее (падающее вниз) движение. А первый дает известное русское слово ВОЛ-Я, означающее свободу… Наименование Волга означает ВОЛЬНО (беспрепятственно) ТЕКУЩАЯ (ниспадающая). А обозначение ВЕЛИКАЯ тоже используется, но уже отдельно, а не в составе самого наименования» («ВОЛГА и ГАНГ. Проблемы этимологии» – http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5812.pdf).
Как видим, и тут названия рек – простые субституции нарицания воды, и тут закономерные редукции-передвижки звуков, и тут минимум смещения значений. Почему же Сомсиков не котируется как большой учёный? Потому что весь его произвол уникален, единичен, не согласован со столетним опытом и списком допущений профессиональных словолюбителей. Почему читается [ганга], а не [гэнга, ханха, кханкха] и т. п., почему вдруг га=нога, почему нога означает подножную, почему вол – означает волю, а не быка, почему нога сдвинулось в нга-га, а волянога в волга – это всё установлено и выведено только по личным ассоциациям. Это всё личные фантазии, индивидуальная мифология.
В отличие от этого академическая компаративистика принимает в расчёт только конвенционально выверенные (по древним и современным документам, по словарям с условно узаконенными тождествами записи и звучания слов, морфологических и логических значений), традиционные отложения фонетических и смысловых передвижек. Учитывая все сложности с конвенциями, выверенностью методик и мнений, достоверностью памятников и их фонетических озвучек, условностью словарей и произносительных прочтений, понятно, что академическая наука имеет дело с научными установлениями по коллективным установкам, по вере. Отсюда и характерный задор наивных компаративистов. И.Н. Рассоха: «Если я не верю в существование индоевропейской семьи языков, то я вообще не ученый» («Прародина Русов» – http://www.tinlib.ru/istorija/prarodina_rusov/p1.php). Нужно обязательно помнить, зная о существовании других учёных, методик, памятников и т. д., что и установления не единственны и не вечны, и коллективные установки не только не лучше, но хуже индивидуальных, поскольку они не замечаются ни самим, ни другим индивидом. Фосслер: «Рассматривать язык с точки зрения установлений и правил – значит рассматривать его ненаучно» («Позитивизм и идеализм в языкознании» // Эстетический идеализм. М., 2007, с. 33, доступный вариант см. в хрестоматии В.А. Звегинцева). На практике – это чистые предустановления как раз в виде списка допустимых передвижек, под которые нужно лишь подогнать конкретные полевые факты. Подгонка делается путём статистического обследования избранной предметной зоны, отбора согласующихся с предустановлениями фактов и переинтерпретации несогласующихся, т. е. в таком их изменении, чтобы они согласовались. Так, Миккола не только находит нужную трансформацию финно-угорского ja в ju, а потом в wu, но и объясняет эти компаративно несвойственные северянам трансформации в славян древними влияниями ираноязычных южан, из которых как раз славяноруссы компаративно-успешно и вышли. Именно в области переинтерпретации несогласующихся фактов допускается максимальная свобода мысли для учёного. Однако на примере Микколы хорошо видно, что это свобода в очень узких пределах. Хоть из праславянского, хоть из финского, хоть из нганожного взята этимология, а всё равно – вода.
Таким образом, классическая этимология выводит только то, что знает заранее, жёстко закреплённые факты прежних учёных мифологий (свидетелей, составителей, переводчиков, историков и т. д.), и крайне редко демонстрирует уникальные идеи, размышления, логику. Стоит ли удивляться, что все решения заданы и что они заведомо, ещё до обсуждения фактов, по первичным научным основаниям и свидетельствам, ошибочны. Тогда как критерий неошибочной жизненной установки прост. Река Волга течёт по России, имеет русское имя с незапамятных для нас времён, поэтому самым верным жизненным, не теоретическим основанием для начала должно быть заведомое предпочтение русскоязычной этимологии, а не какой-то другой. Не той, которую могут предпочитать теоретики по общепринятым компаративным дивергентным выводам из праязыка, соответствующим общепринятым историко-археологическим данным, которые, однако, интерпретируются, становятся общепонятными данными именно по этой, только ещё подкрепляемой историками дивергентной теории. К сожалению, никого не смущает логический круг, очень похожий на фокус Мюнхгаузена, самого себя вытаскивающего из болота. Более того, это кажется научным достоинством. Откупщиков: «В качестве основных методов проверки правильности той или иной этимологии уже давно и успешно применяются фонетический, словообразовательный и семантический критерии. Причем важно отметить, что каждый из них… фактически используется не только как метод проверки, но и как отправной пункт этимологического исследования» (там же). Что же говорить об историках, наивно доверяющих таким лингвистам? Б.А. Рыбаков: «В научном поиске древнейших судеб славянства первое место принадлежит лингвистике», умозрительно определившей ландшафт проживания, соседей, время размежевания («Рождение Руси». М., 2003 – http://lib.ru/HISTORY/RYBAKOW_B_A/russ.txt).









































