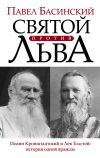Читать книгу "Лев Толстой"
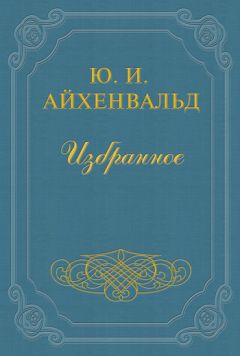
Автор книги: Юлий Айхенвальд
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Органическая преданность Толстого всему стихийному, послушание земле, верно-подданничество природе и народу, опрощение и благовестный зов к первобытности – все это имеет величайшее философское значение; но только надо помнить (а сам он этого часто не помнил), что не глубоко и лишь условно самое противоположение природы и культуры. Ведь культура продолжает природу, которая не есть что-либо готовое, однажды навсегда законченное: природа становится, природа делается, природа растет (хочется сказать по-немецки: die Natur wird); и вот именно этот длящийся процесс ее выявления и роста, осуществляемый сознанием, и есть культура. Природа не факт; природа – акт. По выражению одного русского физика, культура – вторая природа. И привычка – вторая природа; культура же – это и есть привычка человека к природе. Природа в культуре узнает, осознает самое себя. Культура – самоопределение и самосознание природы. Культура – условие природы. Не будь первой, не было бы и последней. Культура творит природу, культура развертывает бесконечный свиток ее сил, великую хартию ее свобод и возможностей. Высота культуры – глубина природы. Вовсе не так легко отличить, где кончается одна и где начинается другая. Не трудно только, но зато и не плодотворно делать обычное противопоставление города и деревни, цивилизации и первобытности, науки и невежества; и здесь, в этой поверхностной сфере, Толстой для большего обличения городской тонкости даже написал, удостоил написать «Плоды просвещения»… Но, к счастью, не такое решение вопроса о природе и культуре является для него господствующим и характерным: нет, он создал в этой области высокие и мудрые творения, в которых образно выказал свои заветные мечты и мысли о мире.
В «Трех смертях» он рассказывает, как срубали, как убивали ясенку, которая вдруг «необычайно затрепетала»; «сочные листья ее зашептали что-то», потом дерево «вздрогнуло всем телом» и «рухнулось макушкой о сырую землю». Все это сделал «странный, чуждый природе звук», который разнесся и замер на опушке леса. Звук топора, чуждый стихии; чужой человеческий шум, который врывается в первобытное звучание леса, всей природы вообще, – вот что является началом всяческой разрухи и всяких дисгармоний, вот зерно трагедии. Ясенка, умершая от людского вмешательства, от этого вторжения топора, – она лучше, потому что естественнее, ближе к первоначалу бытия, нежели тот ямщик, могилу которого она украсит в виде креста; в свою же очередь ямщик лучше, потому что естественнее, той умершей барыни, которую возили его товарищи. Да, такую градацию устанавливает автор. Он понимает, конечно, и сострадательно переживает все страдание этой молодой барыни, которой мучительно, безумно не хочется умирать и вздох которой, «не кончившись», превращается в кашель. Она прежде была красавица чудная, а теперь что сделалось с ее лицом, и как искривляется оно, когда она по-детски пугается смерти и плачет! Она молится, подняв глаза к небу, и шепчет несвязные слова. «Боже мой, за что же?» Она «долго и горячо молилась», говори! Толстой, но он знает, что в продолжение человеческой молитвы (которой посвятил он особый глубокий рассказ) ничего не изменяется. И потому барыня долго и горячо молилась, «но в груди так же было больно и тесно; в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно; и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету, на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету»… Все это горе близко Толстому, и мы от него, сочувствующего, узнаем, что, когда пришла весна, и зажурчали «торопливые» ручьи, и «радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека», – тогда в безумной, в дикой тоске умерла молодая барыня и к вечеру «больная уже была тело». Но разве одно сочувствие к ней выражает Толстой, разве не слышится у него – тяжело сказать – и презрение к ней, презрение за то, что она так боялась смерти, так судорожно хваталась за жизнь и была в этой жизни так безнадежно мелка? Вот она лежит, мертвая, и над нею мерно читает дьячок, «не понимая своих слов», – она лежит, и звучат над нею священные слова: Сокроешь лицо Твое – смущаются, возьмешь от них дух – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются и обновляют лицо земли. Да будет Господу слава вовеки. «Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хотя теперь великие слова эти?» Теперь она являет глубокое внимание мертвых, но при жизни она великого не понимала и имела душу невнимательную, душу глухую. И за это винит ее Толстой, и за это он ставит ее ниже ямщика Федора, который тоже давился горловым, неразрешавшимся кашлем, но умер так просто и спокойно, не по-барски, так деловито, так прося не серчать на него, что он занимает угол в избе, и когда его попросил молодой Серега отдать ему новые, теперь не нужные сапоги («тебе, чай, сапог новых не надо теперь, отдай мне, – ходить, чай, не будешь?»), ответил, подавляя кашель: «Ты сапоги возьми, Серега. Только, слышь, камень купи, как помру». И уж совсем просто, без всяких слов и без всякого сознания, умерло дерево, незаметно отмерла часть природы, иссякла одна капля ее зеленой крови, не нанеся этим никакого ущерба вечно живому целому в его беспрерывных возрождениях: «птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сонные листья радостно и спокойно шептались на вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом», ибо, когда хоронит вся природа, когда мертвых хоронят живые, тогда смерть не страшна. Природа лучше людей, а люди тем лучше, чем они проще и природнее. И в смерти своей мы обнаруживаем степень своей естественности, то насколько мы были живы и были правы.
Но с особенною силой роковая отторженность человека и его сознания от мудро недумающей природы показана в повести «Казаки», иногда в памяти читателя заслоняемой другими произведениями Толстого, но внутренне представляющей одно из самых гениальных и живописных проявлений его творчества. Именно в «Казаках» безыскусственность и стихийность жизни воплощены в такие могучие и цельные образы, как дядя Брошка и Марьяна, перед которыми нравственным пигмеем является московский юноша Оленин. Как Алеко и Кавказский пленник, он бежал от цивилизации в первобытную жизнь, и он близок стал к возрождению, когда впервые по пути на Кавказ увидел горы. Он почувствовал бесконечность их красоты, и горы, как факт, грандиозный факт природы, всколыхнули его душу, сделали ее восприимчивой для тех новых впечатлений, которые ожидали его в казачьей станице. На фоне гор, рождавших «строгое чувство величавой природы», в девственном лесу, где была «дикая, до безобразия богатая растительность, мириады насекомых, бездна зверей и птиц», – там Оленин стал лицом к лицу со стихией, после столичных гостиных трепетно и радостно увидел само Естество и понял природу как правду. «Ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня такого-то и такого-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него». Какое расстояние от Москвы и дворянства, какой подъем на высоту космического! Не унизительно, по Толстому, а счастливо для человека быть низведенным до степени комара или фазана, опуститься в мировой океан, в это лоно единой жизни, просто жизни как таковой, без иерархии, без человеческих подразделений и без ослабления этого бытия непрошеным вмешательством сознания, звуком какого-нибудь людского топора, чуждым природе. И действительно, Оленин, в лад спокойному безмыслию природы, жил не мысля. Когда он вечером возвращался из лесу или с речки, где зарница отражалась в воде, как в «черном зеркале», усталый, но «морально свежий», с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы, тогда, «ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешочке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем». Зачем ей шевелиться, о чем и мыслить человеку, когда вокруг него – природа с ее горами и когда он затихает в ней, в ее величии? Здесь и люди живут почти бессознательные, недумающие – те, кто покорно отдал свое тело и душу приливам и отливам самой стихии. Такова удивительная фигура старого дяди Брошки. Он охотник, но разве отличишь его от зверя, за которым он охотится? Разве не вырос он в лесу прямо из почвы, из черной земли, как стволы этих дремучих деревьев? Первобытный человек, будто сохранившийся от далекого пещерного века, он так не похож на столичного Оленина, но кажется ему носителем жизни и истины. У дяди Брошки – minimum человеческой словесности, но у него, пьяного и дикого, есть свое мировоззрение, которое сродни исповеданию более культурного, но такого же благоволящего и спокойного в своем благодушии Платона Каратаева. Громадный, с лицом, изрытым «старческими могучими трудовыми морщинами, с белой окладистой бородой», точно живая, никем не изваянная, чудовищная статуя природы, Брошка не знает всех этих выдумок мудрствующего сознания. «На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так?.. Нет, отец мой, это не грех, а спасение! Бог тебя сделал, Бог и девку сделал». Он со всеми людьми «кунак», всему живущему друг. Всякие классификации выдуманы «уставщиками». «Мне все равно, только бы пьяница был». Эта широкая нетребовательность идет и гораздо дальше, и дядя Брошка берет пример с зверей: «Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется; он все знает». И дядя Брошка на охоте действительно, не метафорически, явственно слышал, как дикая свинья сказала своему потомству: «Беда, детки: человек сидит». Так исчезает искусственная, выдуманная, поверхностная разница между отдельными проявлениями жизни, между человеком и зверем; у природы нет любимцев, все и вся для нее равны, люди и фазаны; и косматое сердце Брошки, воплотившего в себе это зверино-человеческое, растворяется в священных водах жизни, в общей жалости к живому. Своими толстыми пальцами он старается «учтиво» поймать за крылышки бабочку, которая летит на огонь свечи. «Сгоришь, дурочка! Вот сюда лети, места много», – приговаривал он нежным голосом. А этот дядя Брошка с нежным голосом, спасающий бабочек, на своем веку убивал не только зверей… И здесь нет противоречия, ибо в душе охотника, в душе первочеловека живут одни только непосредственные желания, и, уверенный в неиссякаемости природы как целого, он одинаково спокойно направляет их, эти вольные желания свои, и на убиение, и на спасение ее отдельных тварей.
Если дядя Брошка – природа в ее дикости, то казачка Марьяна, та «девка, которую Бог сделал», не красивая, а именно красавица, олицетворяет собою все прекрасное в естестве, и как она, эта девушка в розовой рубахе, стихийна, так и Оленин полюбил ее точно не сам, не за себя, «а через него любит ее какая-то стихийная сила; весь мир Божий, вся природа вдавливает любовь эту в его душу и говорит: люби». «Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира». У подножия гор с вечными неприступными снегами увидел он эту женщину, вечную Еву, «в той первобытной красоте, с которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца». Мы далеко ушли от первого, мы так забыли его – мы, поздние, бросившие свою родину, не первые, последующие; а вот Оленину предстало первое, начальное, первозданное, – он взглянул прямо в глаза природе, в черные глаза Марьяне. И она, эта жизнеобильная девушка, тоже почувствовала к нему любовь. Но при всем напряжении Оленина сбросить с себя путы городской искусственности и, так сказать, объерошиться, ему это не удалось, и, очевидно, в тайниках его души таилось отравленное зерно культуры, и чуткая женщина, любимое дитя и первеница природы, Марьяна заметила это и презрела его. Горы его не переродили вполне, и она предчувствовала его тоску по Москве, по этой чужбине, затмившей родину-природу. И после нравственного поединка между казаком Лукашкой и Олениным победу одержал в ее сердце первый, более ей понятный и родной, связанный с нею общей бессознательностью, не опростившийся, а простой, – одержал победу особенно тогда, когда его пристрелили чеченцы, и жалость и «красивая печаль» овладели девушкой; и Марьяна отвернулась от Оленина, и последние слова, которые он услышал от нее, были: уйди, постылый. «И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться». Он уехал из станицы. Дядя Ерошка на прощанье расцеловал его в «мурло», но Марьяна равнодушно взглянула на увозившую его тройку; и когда коляска тронулась и Оленин в последний раз оглянулся – на кого? на станицу? на природу? – «дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него». Замечательно, что вообще лицо Марьяны Толстой часто рисует как равнодушное (или строгое); и Ерошка тоже живет и чувствует не цепко – во всех этих людях природы есть какое-то бесстрастие, которое они переняли именно у нее: ведь она спокойно, после солнечных ласк своих, непосредственно за ними, может нахмуриться, неожиданно повеять холодом; природа не берет на себя никаких обязательств, величественная в своем равнодушии; такова и Марьяна. Итак, природа не приняла, – уйди, постылый. Оленин рад был бы в ее рай, но грехи культуры не пустили. Мало, значит, пожелать вернуться домой – надо еще преодолеть замкнутость природы и свою давнишнюю отчужденность от нее. И непрощеный сын будет продолжать свои печальные скитания. Однажды совершенная измена не может быть заглажена.
Таким образом, истинный смысл призыва назад, к природе, состоит не в том, чтобы вернуться в среду первобытных людей и внешне разделить с ними их простую жизнь, «упряжки» их дня, а в том, чтобы природа, как и царство Божье, была не вне, а внутри нас, чтобы естественно было сердце, непосредственны и наивны были самые помыслы. Именно в связи с этим у Толстого так часты мотивы обновления, возрождения, страстное искание совершенства: человек ищет самого себя, жадно хочет из-под навеянных слоев искусственного извлечь свое подлинное, свое природное «я». Сам Толстой, благодаря художественности своей натуры (художественность – это природа, сконцентрировавшая себя в одной личности, вошедшая в индивидуальную душу; в художнике природа находит своего выразителя, для него по преимуществу она и существует), – сам Толстой уже в юные годы испытывал это свое, никогда потом не покидавшее его, отожествление и слияние с природой: «и все я был один, и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собою все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всею необъятною могучею силой любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».
Да, природа и он – одно и то же, но вот, по отношению к остальным людям, оказывается, что мысль неминуемо с природой разлучает. Осознать природу уже значит ее отвергнуть. Поднимаясь над нею в своей рефлексии, делая ее предметом своей думы, человек этим самым расстается с нею, недумающей. Для счастья надо было бы не понимать и надо было бы все в космосе оставить так, как мы нашли. Но мысль неизбежна, но культура – закон природы, но сознания не избыть: не выйти из этого заколдованного круга. Мы вкусили от древа познания, от древа сознания, и с тех пор, одною гранью своею находясь в слепой стихии, которая нас порабощает, а другою пребывая на освещенной высоте разумности, мы навсегда потеряли спокойную цельность природного бытия. Человечество, как сирота вселенной, бьется о нее своей беспомощной мыслью. Оно постигло, что природа рассчитывает на культуру, и культуру дало, но этим и завязало тягостный узел трагической антиномии. С первой неизбежно загоревшейся искоркой сознания для нас потемнело непосредственное пламя самой стихии. И вот наш, прометеевский, огонь горит, но, для Толстого, как тускло это искусственное, вторичное солнце и как из-за него только сгущается окружающий мрак! Сознательность, дар Прометея, не высшее для Толстого; немудрому Алеше Горшку не давалась грамота, но больше всех грамотных мира познал он смысл жизни, и когда на слишком заслуженный вечный отдых улеглись его наболевшие, нывшие, натруженные ноги, когда он «удивился чему-то, потянулся и помер», тогда его удивление было оценено выше, чем грамотность и культура, чем «удивление» Аристотеля, все догадки умных и ученых…
Человек, невольно разорвав исконный союз свой с природой и правдой и отрекшись от стихии, оскорбляет этим землю, изменяет матери. А нет в мире ничего величественнее ее, и если так часто и в таком благодатном сиянии выступает у Толстого человеческая мать, то это лишь потому, что она – представительница, носительница природы, воплощение ее рождающей силы. Мать – самое несомненное, наиболее естественное существо на свете. Кто за природу, тот за мать. Так было и с Руссо. Именно этот натурализм и породил у Толстого всю ту интимность, и нежность, и семейственность, которую он больше всех писателей внес в русскую литературу. Он чувствует женщину. В элегическом «Семейном счастье», одной из менее заметных, но прекрасных жемчужин своего писательского венца, он говорит от ее имени, ее тоном, ее устами и словами – и какая девушка и жена не узнает в этом зеркале себя и своего сердца? Он входит во все возрасты женщины, в ее заботы, и боли, и упования – он, мужчина, стоящий на высоте гениальности, он, деятель и писатель войны; и Долли, купающая своих детей, и Кити, кормящая своего ребенка, – все это внимание великого к малому – к малому ли? – не только художественная, но и нравственная заслуга. Раздавшиеся потом больные звуки «Крейцеровой сонаты» не могут заглушить той симфонии материнства, какую создал Толстой, друг и провидец женщины, ее заступник и поэт. Он со многими семьями породнил нас, особенно с семьей Ростовых, и грядущие русские поколения будут, подобно нам, всей тревогой и трепетом сердца вникать в радости и печали этого степенного старого дома Ростовых, который воплощает собою устойчивый быт и в котором смена людей, волны старости и юности, рождения и смерти знаменуют собою нечто типичное и общечеловеческое.
Так чуден и символичен образ матери, покойной «мамы», реющий и в «Семейном счастьи» и особенно в «Детстве и отрочестве»… Там – предел трогательного. Рассказывает мальчику старая любящая няня Наталья Саввишна (образ дивный в своей простоте!), как умирала его мать… «Только» откроет губки и опять начнет охать: «Боже мой! Господи! Детей! детей…» После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает! Я так думаю, что это она вас заочно благословила; да, видно, не привел ее Господь перед последним концом взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я вспомнить не могу: «Матерь Божия, не оставь их!»
Так мать передает Матери своих детей – великое поручение смертного часа! История не расскажет, что стало с прочими детьми этой женщины; но одного ее сына она уже облекла бессмертным именем и сохранила для вечности. И мы знаем наверное: Мать послушалась матери и не оставила, и сберегла, и взлелеяла его, и подарила ему не только гений и славу, но и, в угождение своей богомолице, сделала его поэтом святого материнства, писателем-сыном. И если где-нибудь живет и витает дух той, которая дала ему его долгую и благословенную жизнь, то должна она радоваться высокой и гордой радостью, ибо себя, свою душу, свое влияние видит она в творениях своего великого сына – великого и любящего, к своей и ко всякой матери благоговейного.
Но жизнедавец и пестун жизни от самых истоков ее, Толстой в неразрывной связи с этим много думал и много написал о смерти. Он так часто и близко видел ее, она так часто возвращается в его художественных произведениях, и страх смерти является жизненным нервом его морали. Единственная глава, которую он в «Анне Карениной» озаглавил, – это Смерть. И особо он создал «Три смерти» и «Смерть Ивана Ильича». Он вообще изумительно, вызывая почти суеверный трепет у читателей, передает ощущения умирающего. Что такое жизнь, это показал он и в смерти. От первого крика новорожденного и вплоть до могилы провожает он своих героев. Силой дивинации, вдохновенной догадки, он, живой, так близко приник к смерти, как это лишь возможно тому, кто сам – еще в рамках бытия, и он приблизился к самому краю человеческого. И кажется, еще одно усилие, еще одно последнее усилие – и слово мировой загадки будет найдено, и тайна творения будет раскрыта. Его психология смерти проникнута тем исключительным, толстовским правдоподобием, той несомненной правдой, которой нельзя противиться: разве можно допустить, что Андрей Болконский в предсмертные минуты своего бреда и своих умиленных просветлений испытывал что-нибудь другое – не то, что говорит нам Толстой, вещий провидец последних тайн?
Умирает Иван Ильич, барахтается «в черном мешке» смерти, – он это знает наверное, но просто не понимает, никак не может понять этого. Правда, в школе он заучил силлогизм о смертности Кая, но ведь то был Кай, человек вообще, а он, Иван Ильич, был не Кай и не вообще человек, а «всегда был совсем, совсем особенное от всех других существ; он был Ваня, с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери?» Но Кай в индивидуальном облике Ивана Ильича умирает со своими мячиками, с папой и мамой… Однако в последнее мгновение вместо смерти ощутил он свет, и, когда живые произнесли над ним: «кончено», он понял, что это кончена не жизнь, а смерть. Ибо смертью является вся эта наша пошлая, мелкая, невнимательная жизнь, смертью является все это бремя ненужных разговоров, одежда и обстановка, весь этот внешний человек. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная, и самая ужасная». Не только те мертвые души, великолепно похороненные, «с далеким подобием улыбки», с далеким подобием всего человеческого, те бездушные сановники-тюремщики из «Воскресения», которые, сами мертвые, хоронят живых (это еще ужаснее, чем когда мертвые хоронят мертвых), – но все мы не живем в своей жизни, и чем дальше мы от детства, этого подлинного носителя природы и правды, тем мы ближе к нравственной смерти. И Толстой пристально наблюдает, как борется в нас внешний человек с внутренним. Часто первый берет нас в свою полную власть, как он завладел Стивой Облонским, – но княжна Марья испытывает «высокое страдание души, тяготящейся телом»; но Пьер, взятый в плен, смеется над тем, что его, его бессмертную душу, думают держать в плену, ее хотят запереть в балаган из досок; но князь Андрей, слушая пение Наташи, готов плакать от живо сознанной им «страшной противоположности между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам и даже была она (Наташа)». Да, Толстой, с такой непревзойденной глубиною описавший душевные состояния человека именно в неразрывной связи с телесностью, «тайновидец плоти», Толстой, в известном смысле Рубенс русской литературы, – он в своих завершающих созерцаниях пришел к духу, к чистейшему платонизму, и в освобождении от тела, в этом выходе из видимой природы, в смерти, познал спасение. Душе тесно в теле. Или это не противоречит натурализму, потому что ведь и смерть натуральна? Да и, в конечном счете, может быть, и сама природа – дух? И мир не вещь?
От бремени вещей и внешнего, от земной тягости, от всяческого плена освобождает нас смерть. Она – благо, потому что избавляет от необходимости жить, т. е. не любить или любить любовью разрозненной. Жизнь не может быть любовью сплошной. А в частичности любви заключается грех. Его, но только до некоторой степени, преодолевает не обремененный внешностью и вещами, почти исключительно внутренний, в круглый облик мира своей круглотою входящий Платон Каратаев; он олицетворяет собою и любовь круглую, беспрерывную, безустанную, но для того, чтобы она достигала своего предельного совершенства и завершенности, своей последней круглоты, на нем должен был разрядить свое бездушное ружье французский солдат. Правда, эта каратаевская любовь ко всему, беспричинное и беспредельное благоволение, как часто показывает Толстой, в своем истоке рождается в человеке из горячей любви к самому себе, из чувства собственного счастья. Любовь к другим – от любви к себе. В любви сплошной сливаются ее объект и субъект. Человек любит в себе то, что в нем любят люди, – свое хорошее. Это испытал Левин, когда полюбила его Кити и он получил для себя огромное значение и важность; это испытал и Оленин, чувствуя в себе безудержное счастье и любовь ко всему; об этом, об этой «беспредметной силе любви», ищущей для себя предмета, говорят многие герои Толстого. Любовь к другим, когда-то сказывавшаяся в горячей юной влюбленности и самовлюбленности, в жажде счастья, приходит к радостному самоотвержению. Это – явления одного порядка. Не обеднение, а обогащение – всякое дело любви, и чем больше мы отдаем, тем обильнее становится наш внутренний мир, и в конце концов одна индивидуальность так в подвиге своей жертвы переносится в другую, что теряется различие между ними и на деле торжествует вселенское Tat twam asi. «Жив Никита – значит, жив и я», – говорит умирающий, отдавая свою жизнь другому. Вот силлогизм, продиктованный живою логикой любви. И так замыкается круглая линия мира, вечное кольцо бытия.
Та область существования, в которой особенно нужна любовь и помощь, область нужды и муки, подолгу задерживала в себе Толстого. И вековечная проблема хозяина и работника, но не только в своей социальной, а и в своей этической и религиозной постановке, не покидала его никогда. Как Достоевский написал это плачущее «дите» на руках у голодной матери, так и у Толстого является оно же, только не плачущее, а старчески расплывающееся в голодную предсмертную улыбку; и все эти бедные и голодные, которые окружают умирающее от недокорма дитя, все эти обреченные Хитрова рынка, арестанты и каторжники – они Толстым не забыты, им отдает он свой лучший дар: он их изображает. Но для него, широкого, всеобъемлющего и всеоживляющего, любовь не является достоянием только работников – он показал (и это гораздо важнее) любовь хозяина в ее неожиданном и в то же время естественном, психологически подготовленном расцвете. Когда Петруха говорит свой стишок, вычитанный у «Пульсона»: «Буря с мглою небо скроить», и Василий Андреич замечает на это: «вишь, стихотворец какой», читателя пугает открывающееся вдруг перед ним безмерное расстояние, какое отделяет стихотворца, Пушкина, от Василия Андреича, и кажется безнадежным соединить, связать людей в человечество. Какую нить взять для этого? Но вот оказывается через несколько страниц, что Пушкин, идеальное, высокое, просыпается в замерзшем было сердце хозяина. Вид чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил его содрогнуться, искать спасения, и кончил он эти поиски тем, что собственным телом прикрыл замерзавшего работника со слезами умиления на глазах, на этих всю жизнь торгашеских глазах; он согрел его собою и вернул к жизни, а сам перестал быть Брехуновым, переродился, узнал, в чем дело (не в деньгах, не в лавке, не в покупках и продажах оно – теперь знаю), и с этим новым счастливым знанием перестал уже что-либо видеть, и слышать, и чувствовать в этом мире Василий Андреич.
Так Любовь устрояет. Она – последнее слово Толстого. Из природы выросшая, она над природой поднялась и живой вершиной своею увенчала ту храмину естества, воспроизведенную Толстым, о которой говорит Бодлер. И на свете все «образуется» ее, любви, стихийной силой. Покуда в это верил и только этим жил творец «Войны и мира», он был художник. Но художества ему показалось мало, и он жизнь захотел осмыслить, определить, объяснить. Он забыл, что сам прежде, как писатель, отказался от этого. Прежде он считал, что можно жить хорошо, а думать дурно – жить «духовными инстинктами»; что ответы находишь тогда, когда не спрашиваешь, так как мысль и жизнь несоизмеримы. Его Левин не мог построить жизнь как систему, понять себя и ее как целое, но он продолжал жить и в самом существовании находил его философию и тем, что жил, влагал в свою жизнь несомненный смысл добра. И другой искатель правды, представляющий самого Толстого, был возмущен жестокосердием богатой люцернской публики, ничего не подарившей бедному музыканту, и он не мог понять и уразуметь этой жестокости и несправедливости, в которой отразилась вся неправда мира. Но потому ли, что он заметил «большие добрые глаза» горбатой судомойки, участливо смотревшей на обиженного певца, или потому, что вообще углубилась работа его духа, – он понял всю бесплодность попытки точно разделить жизнь на добро и зло и авторитетно указать сферы и границы каждого из них. «Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой – неблаго. Проходят века, и где бы что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются и на каждой стороне – столько блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответов на вопросы, данные ему только для того, чтоб они вечно оставались вопросами!.. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся бесконечном, бесконечно перемешанном хоасе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится… Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, принимающий нас всех вместе и каждого как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно, – тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».