Текст книги "Лев Толстой"
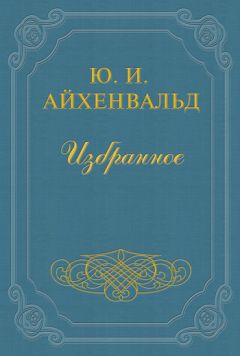
Автор книги: Юлий Айхенвальд
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Так увеличил он жизнь на земле, помощник и пособник Богу, сотрудник Творца. Он умножил свою душу на души чужие. Долгий свидетель миру, старожил вселенной, он обходит ее своим художественным дозором и все замечает – все детали, все вещи, все существа. Вот они, эти две девочки, которых встретил в покинутых Лысых Горах князь Андрей, там, где «все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колоде лаптя», – они страстно хотят одного: унести в своих подолах и доесть зеленые сливы, сорванные с барского дерева; они, девочки, со своими недозрелыми сливами вмешались в историю, в наполеоновские походы, и сохранились в поле зрения Толстого и навсегда переданы читающему человечеству. Или, вдыхая душу в каждое явление, встречающееся ему на пути, он говорит об этом мальчике с тонкой шеей и торчащими ключицами, который, проезжая с родителями и сестрой в богатой коляске, задумался над партией арестантов, преградившей дорогу; не спуская глаз, смотрит мальчик на страшное шествие. «Он знал твердо и несомненно, узнав это прямо от Бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное, – такое, чего не должно делать, и ему было жалко их… И оттого у мальчика все больше и больше распухали губы, и он делал большие усилия, чтобы не заплакать, полагая, что плакать в таких случаях стыдно». Проехала эта коляска, затерялась в людском движении – но кто же не запомнит мальчика в матросской шляпе, остановленного и отмеченного перстом Толстого, кому не ясна будет возможная перспектива его дальнейшей жизни, его, как и все дети, правду «узнавшего прямо от Бога»?
Медленно совершая по мировой орбите свое животворящее движение, останавливаясь на всех проявлениях существования, Толстой этим не затемняет его общего смысла, ради быта не упускает бытия и чует последнее в каждой мелочи. Он не растерялся в подробностях мира. Микроскопия, опасная для другого, ему никакого ущерба не наносит. Он раздробляет душу, но и восстановляет, собирает ее. Своеобразное divide et impera [1]1
разделяй и властвуй (лат.)
[Закрыть] можно применить к нему: он делит и властвует, потому что он делит для нового и высшего синтеза, и в каждой капле психизма светит у него солнце всей души, по существу единой и неразделимой. Щедрый, не угрожаемый опасностью иссякновения, никогда не беднеющий, он слышит даже, как визжит под булавкой лента на платье Сони, и вообще он отдает подробности много времени и внимания, возводит ее в перл творчества и не спешит перейти к другой. Он может роскошествовать. Оттого целые страницы – и какие страницы! – посвящены охоте, косьбе, скачкам, именинному обеду, свадьбе.
И изо всего этого, из обычностей и мелочей, чудно поднимается возвышенная красота. У Толстого обыденность переходит в величие как-то незаметно. Он творит из праха, из ничего – и чистейшими волнениями волнует сердце. Среди будней, из их материала, он устраивает праздник духа; из прозы вырастает у него благоуханная поэзия – поэзия любви, детства, природы, вся пленительность и вся трагедия, и все умиление и таинство жизни, вся гамма чувств и страстей, – и хочется его благодарить, и хочется его благословлять. Подобно своей Долли, он в Сахаре жизни находит другими не замеченные радости и всю вообще высокую человечность – как золото в песке. В мировое величие «Войны и мира» он вводит ничтожными словами ничтожной женщины (вспомните начальные строки романа). Он – бесстрашный натуралист и ничего не стесняется, обо всем говорит, каких только сторон обыденности не касается он, например, в «Смерти Ивана Ильича» или «Ягодах»! И тем не менее его натурализм сочетается с такой целомудренностью, с такой незапятнанной чистотою, светлее которой нельзя ничего найти на самых эфирных высотах романтизма. Он неоспоримо доказал, что вовсе нет необходимой связи между натурализмом и беззастенчивой манерой в духе Золя. Он и к постели роженицы подведет нас, но эстетически и этически нигде не оскорбит, как неоскорбительна вообще вся его физиология, даже в «Холстомере». Быть неизменно верным природе и в то же время сохранить стыдливость – это ему дано в высшей мере, и это позволило ему в таких тонах правды, сдержанности и чистоты написать сцену увлечения Катюши Нехлюдовым или то, как Анна Каренина, побежденная Вронским, все «ниже опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову»…
Поэт жизни, глубоко имманентный ей, не ищущий красоты и смысла над нею или вне ее, он в своем органическом уклонении от всякой риторики и декламации находит, как и Левин, что «слова снимают красоту» с вещей и «благородные слова редко сходятся с благородными делами» и «великое слово портит великое дело». Толстой не то что боится фразы и позы, а просто не умеет их, и, целомудренный, застенчивый и в своей застенчивости кажущийся угрюмым, он бережется, как бы словом не оскорбить жизни, не оскорбить правды: ведь слово так легко переходит в словесность. Его не прельщает человечество «французское», театральное и нарядное с его героями и гениями, все эти афоризмы, изречения, девизы – блестящие вывески, парадные спектакли истории. Наполеона, этот воплощенный эффект, он развенчивает и презирает, отказывает ему в гениальности, противопоставляет ему не только прозаического Кутузова, но и, главным образом, Каратаева с его «круглотою». Он в подвиге заметит пошлость или, по меньшей мере, снимет с него наряд и парад, обнаружит его неэстетичность – и, в бесстрашии толстовского реализма, девочка, которую спасает из пламени Безухое, оказывается золотушной, неприятной, вызывает гадливость. Певец простодушия, певец классического русского простеца, он отвергает всякую мишуру и позолоту и разрушает мнимую торжественность. Ему, напротив, приятны и милы всяческие неловкости (он сам неловкий) – то, например, как Левин во время венчания путается руками с Кити и ни за что не может понять, чего хочет от него священник. Или для него удовольствие – спугнуть благолепие именинного обеда звонким возгласом Наташи: «Мама, какое пирожное будет?» Ту жизнь, которая ему не нравится, в которой он видит внутреннюю ложь, он всегда изображает как обряд, берет ее с ее механической и внешней стороны. Он рассеивает ложь своею победоносной правдой. Он опасен и страшен тем, что проникает в затаенные побуждения человека, любит переводить его, часто обманные, слова на язык их истинного смысла; он разоблачает в других и в себе самое тонкое притворство и лицемерие, в котором иной раз и сам не даешь себе отчета. Он знает человеческую нецельность, нестройность, и даже его лучезарная Мария Болконская таит в себе злое чувство к своей прежней сопернице Соне. Влюбленный и влюбляющий в Наташу, он не скроет ее физического увлечения. Он услышит, что немец-полковник «с видимой радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки» звучно отрубит красивое слово наповал, когда будет доносить о своих убитых гусарах. Он почует тщеславие горести, он и в сердце матери подметит «затаенное чувство недоброжелательства, которое всегда есть у нее против будущего супружеского счастья дочери», и в отношениях мужа к жене укажет на перемежающееся чувство «тихой ненависти». Часто люди у него, как в беседе Воронцова с Хаджи-Муратом, говорят одно, а глаза их выражают другое, и вот это разногласие и вечный поединок, в котором находятся уста и глаза, как никто, подмечает и разоблачает Толстой. Он никогда мощью своего анализа не позволит себе и нам обмана и самообмана.
Это постоянное изобличение могло бы превратиться в нечто недостойное и мелочное; но знаменательно и отрадно в нем, писателе строгом, что, разоблачая с такою неумолимой силой, с такой беспощадной к себе и к другим проницательностью, он, однако, не приходит к скептицизму, к отрицанию людей. Он не Ларошфуко, этот, по выражению Ницше, меткий стрелок, который всегда попадает в черноту человека. Толстой без идеализации обретает идеал. В неудержимом тяготении к серому и затрапезному одеянию быта, сняв с него все пышные и праздничные уборы, от полководцев спустившись к Акиму, чистящему городские ямы, с его тае вместо слов, и еще в большем тяготении к обнаженной душе, к жизни раскрытой, к людям изобличенным он именно в этой наготе увидел нечто утешительное и прекрасное. Не нужен возвышающий обман, потому что не низка истина. Это ничего, что, хранитель правды, враждебный эффектам, он должен был рассказать, как при первом свидании с Нехлюдовым в тюрьме – свидании, которого с таким напряженным трепетом ожидают читатели, – Катюша Маслова попросила у последнего десять рублей; это ничего, вы не станете презирать Маслову, не откажете ей в человечности. Правда не презренна. А с другой стороны, характерно для Толстого разжалование героя. Творец Платона Каратаева отнял у нас Наполеона, безжалостно разбил воздушный корабль по синим волнам океана и все эти красивые сказки про двенадцать часов по ночам. Горе той легенде, к которой приближается Толстой, – но зато счастье правде! Зато он, в сущности, только и делает, что открывает неведомые раньше человеческие клады, – хотя бы этого маленького, незаметного капитана Тушина, про которого все забыли и который, «не выпуская своей носогрейки», бегал от одного орудия осыпаемой ядрами батареи к другому и оказался истинным героем Шенграбена. Величие малого, красота некрасивого, обаяние обыкновенности показаны Толстым так ярко и проникновенно, и в этом – источник оптимизма. Он утешает человечество, узнающее себя в его книгах, он дает силы жить; сама жизнь не знала, он перед ней обнаружил, как она хороша и сколько чистого и возвышенного поднимается кругом нас. Доверие к реальному, невыдуманному и слабому человеку с его «простым, комнатным лицом» – оно не дороже ли того благоговения к людям, которое ценит в них только подвиг, только ореол, только исключительность?
Зато уж если Толстой свидетельствует о красоте или торжественности какого-нибудь жизненного момента, то веришь ему всей душою, как никому, и радостно и горделиво становится на этой вознесенной душе. Когда он пишет о самоотвержении, о героизме и благородной победе над инстинктом самосохранения или рисует севастопольские твердыни и этого не испугавшегося смерти офицера Козельцова, который умирает, не зная, что на Малаховом кургане уже развевается французское знамя (его праведным обманом обманул священник, сказав, будто победа осталась за русскими), и слабыми руками берет крест, прижимает его к губам и плачет и в свое последнее мгновенье думает о брате: «Дай Бог ему такое же счастье», т. е. счастье доблестной смерти; когда Толстой описывает, как доктор молча поцеловал в губы лежавшего на операционном столе смертельно раненного князя Андрея; когда он говорит о сборе винограда, о сиренях и соловьях, о даме в белом платье и с перлами, в которую из глубины своего оркестра, в театре, влюбился бедный скрипач Альберт, или о казачке Марьяне, которая была «отнюдь не хорошенькая, но красавица», то вся эта поэтичность и пленительность, все это идеальное и необыкновенное, весь этот чудный романтизм проникают в нас с особенною силой, потому что они прошли через испытующее горнило его аскетически-правдивого духа и, на фоне общей реалистической строгости и честности Толстого, выступают перед нами не только как светлая красота, но и как правда, – и мы уже знаем наверное, наверное, что все это так и было, что Марьяна была красавица. На Толстого можно положиться.
В том испытании, какому он подверг человека, большую роль играет реакция на смешное. Но и из смешного вышел человек серьезным, но и здесь, под рукою Толстого, тоже часто возникает нечто растрогивающее. Вот декабрист Петр Иванович вернулся в Москву из сибирских пустынь – он провел в ссылке тридцать пять лет. Не приготовив сестры, старик с белыми волосами, он прямо явился к ней. Та, решительная, сильная, добрая, встретила его так, как будто виделась с ним вчера. Но потом она «еще раз взглянула на седую бороду, на плешивую голову, на зубы, на морщины, на глаза, на загорелое лицо – и все это узнала»… «Какой ты дур…» – голос ее оборвался, она схватила своими белыми, большими руками его плешивую голову. Какой ты «дурак», она хотела сказать, «что не приготовил меня»… но плечи и грудь задрожали, старческое лицо покривилось, и она зарыдала, все прижимая к груди плешивую голову и повторяя: «Какой ты ду… рак, что меня приготовил»… И голова Петра Ивановича была в руках сестры, «нос прижимался к ее корсету, и в носу щекотало, волосы были спутаны, и слезы были в глазах. Но ему было хорошо». Или Николенька Иртеньев, уезжая в Москву из деревни, в невыразимой горести разлучается со своей мамой (словно предчувствует он, что ему не суждено больше видеть ее), и в последний момент прощания они нечаянно стукнулись головами; «она (maman) грустно улыбнулась и крепко-крепко поцеловала меня в последний раз». Или, подавленный изменой жены, Каренин во время одного из мучительных объяснений с нею говорит о своих муках, о том, что вся жизнь его нарушилась, что он так много «пеле…педе…пелестрадал». Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец «пелестрадал». Ей (Анне) стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. У Толстого нет ложного стыда перед жизнью. Он знает, что она косноязычна. И под оболочкой смешного увидел он красоту.
На дороге у него стояла еще и другого рода комика, стоял соблазн Гоголя, казнившего людей смешною смертью, но Толстой его преодолел. Толстой мог бы, он имел бы силы многое не только осветить комическим светом, но многих и пристыдить и погубить им, если бы только хотел. Он мог бы совсем уничтожить, например, этого дурно обрусевшего немца Берга, который «жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами» и который в порыве русского патриотизма так выражается в беседе с тестем: «Один предвечный Бог, папаша, может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание… Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно-древнего мужества российских войск, которое они – оно показали или выказали в этой битве 26-го числа, нет никаких слов достойных, чтобы их описать… Я вам скажу, папаша… что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги (сказал он скороговоркой)…»
Но Толстой милосердный, разоблачая без коварства, смеясь без издевательства, великодушно не воспользовался своею зоркостью и силой для уничтожения и осмеяния, и конечный смысл его произведений – это оправдание жизни и людей. Человек испытание выдержал, он и жизнь оправданы – вот факт мировой значительности. Теодицея человека нужнее, чем теодицея Бога, и в первой уже заключается последняя.
В самом деле, две волны, два течения переливаются во всем творчестве Толстого: он изобличает; сатирик и обвинитель человечества, он много горькой правды бросил ему в лицо, так много и порою мелочно выговаривал ему, находил в нем столько недостатков, вплоть до курения табаку, и делал он это не только в качестве моралиста, но и художественно, как писатель; но над этой строгостью учительствующего психолога возвышается другая стихия его духа – благоволение, любовь. Это потому, что он понимает; это потому, что он беспредельно чуток. Недаром все хорошие люди у него – и хорошие психологи, внимательны к чужому сердцу и все счастливые хотят кому-нибудь свое счастье отдать.
Только сердечной чуткости понятны, например, горе и обида некрасивой княжны Марьи, которая должна поддерживать с Николаем Ростовым светский разговор, а на сердце у нее такая тоска… И она, забыв условные приличия и этикет, выпустила нить пустой, ненужной беседы и задумалась. «Княжна с помощью m-elle Бурьен выдержала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время как он (Ростов) поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало радостей в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся».
Толстой любит своих героев, хотя любовь его – какая-то особая, величественная, будто не эмоциональная. Он всегда спокоен, поэт без пафоса; о самом трогательном рассказывает он без сентиментальности, и это не он, а мы с трудом удерживаемся от слез, когда Каренина навещает своего покинутого Сережу или когда мы читаем эти бессмертные, единственные в мире и в мир невозвратимо входящие страницы о том, как светлым и реальным привидением явилась к смертному одру Болконского, среди его томлений и бреда, «живая, настоящая» Наташа, «быстрым, гибким, молодым движением опустилась на колени» и, «взяв осторожно его руку, стала целовать ее, чуть дотрагиваясь». Этой своей объективной манерой он, потрясающий, но не потрясенный, еще более оттеняет и усиливает впечатление, идущее от его книг. Ему чужд энтузиазм, его не отличает интимно-лирическое настроение, и в повести «Поликушка», где передана такая ужасающая трагедия, даже неприятно слышать его как будто шутливый тон; но эта частность исчезает в тихой глубине его любовного миротворчества и спокойствия, его нравственной щедрости, его потребности щадить. Как бы ни были дурны его отдельные персонажи, он их не казнит, и не только веселая пошлость Стивы Облонского не написана у него в красках отталкивающих и презрительных, но даже порочная Элен Куракина сопричастна той светлости, которой у него всегда проникнута девушка-невеста. Элен не любит Пьера и выходит за него из расчета, но в тот час, когда она ждет из его уст признания в любви, она искренне счастлива, обвеяна чем-то хорошим, и кажется, что самые «огни свечей сосредоточены на этих двух счастливых лицах», ее и Пьера, и это она своею молодостью и красотою, за которые ей многое прощает Толстой, – это она вызывает в старых, отживших людях, в дипломате и генерале, чувства грусти и тоски по утраченном, давно улетевшем счастье. И брат ее, развратный Анатоль, в последний раз, в завершающем явлении своей злой жизни, выступает перед нами как боль, как мука, и он вызывает к себе сострадание, и последнее назначение его, конечный смысл его существования, заключается в том, чтобы смягчить и растрогать сердце Андрея, – да и его ли одно? Или этот гусар, обидевший Лизу; лунная ночь принесла и для него «свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви… Боже, какая ночь, какая чудная ночь! – думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. – Чего-то жаль. Как будто недоволен и собой, и другими, и всею жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась»… Или опять этот сухой Каренин, сановник во фраке со звездой. Его покинула жена, и, может быть, немногие пожалеют его; но на другой день после ее отъезда ему принесли счет из модного магазина, по забывчивости не оплаченный Анной, и приказчик сказал Каренину: «Извините, ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к ее превосходительству, то не благоволите ли сообщить их адрес». Адрес жены, которая безвестно ушла и от которой остался этот ужасный по своей прозаичности и тонкой мучительности след – счет из модного магазина, счет за платье, которое она, любимая, желанная, обидевшая, будет надевать не для него, мужа! Какое терзание, какая тоска! И «Алексей Александрович задумался, как показалось приказчику, и вдруг повернувшись, сел к столу. Опустив голову на руки, он долго сидел в этом положении, несколько раз пытался заговорить и останавливался». Кто же теперь увидит в нем сановника, а не человека, не брата, которого Толстой, по его замечательному выражению, забрал в «путину» своей любви? Ибо все достойны ее, ибо всякий «Богу-то человек», и все мы на счету у Него и у него, Толстого…
Уменье находить светлую жизнь и душевную красоту здесь, в буднях, под пластом смешного, неинтересного, сухого, любовь к обыкновенному и обыкновенным, неодолимое влечение к простоте удерживают Толстого и в пределах более глубокой обыденности, т. е. не пускают его в сферу мистики. Свой в мире, он не знает начала домирного, предземного, и хаос, тютчевская ночь не близки ему. Конечно, он слишком велик и всеобъемлющ, для того чтобы его не коснулась и эта грань, отделяющая космос от хаоса, и не раз он смотрел, по его собственному слову, в те «отверстия», сквозь которые видно сверхчувственное, и, прежде чем открылась весна, он заметил, что надвинулся густой серый туман, «как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен», – но и сюда, в эту загадочность и мглу, вносит он свой реализм. Он никогда не испытывает робости. И к тайнам подходит он разумно. Он не боится войти в темную комнату. Толстой не верит, чтобы какой-нибудь злой дух осенил огромным крылом вселенную, и так характерно отрицает он в «Поликушке» власть этого духа и говорит о жутком страхе мужиков перед телом самоубийцы: «Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечку или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем ужас ночи, то он увидел бы знакомое, худощавое тело… и доброе лицо с открытыми, не видящими глазами, и кроткую виноватую улыбку, и строгое спокойствие и тишину на всем». Этот смельчак – сам Толстой; он не думает, чтобы немыслима была такая свеча, огнем которой можно было бы рассеять весь ужас человеческой ночи. «Власть тьмы» для него временна, уничтожима. У него – мир без дьявола. Правда, в посмертных сочинениях у него появляется дьявол – в виде определенной и, может быть, всерьез принимаемой реальности. Тот мельком упоминаемый дьявол земной любви, которого отгоняла от себя княжна Мария Болконская, – в «Отце Сергии», «Дьяволе», «От ней все качества», «Что я видел во сне», представляет собою уже постоянную силу – поистине нечистую силу. Но замечательно, что и здесь, в посмертных произведениях, толстовский дьявол, во-первых, не дидактичен и ему противопоставляется не аскетизм, не презрение к женщине, а милое, нежное лицо Лизы, его блаженное и страдальческое выражение, провозвестник зреющего материнства, ее длинные волосы, ее длинная влажная рука, которую тихо целовал Иртенев; и, во-вторых, он, дьявол, все-таки не обвеян мистикой, он все-таки сближен с самыми реальным и фактами. Нет жути, не слышится ледяное дыхание потустороннего мира. Толстой вообще роднит страшное с обычным и в том же «Поликушке», например, в будни претворяет стихию Достоевского. Он фантасмагории придает правдоподобие, и хотя для читателей ясно, какую мистическую роль сыграла в жизни Анны Карениной железная дорога, но сон героини, ее кошмар, этот мужик, копающийся в железе, такие глубокие корни имеет в действительности; страшное обволакивается здесь именно вокруг мужика, вокруг излюбленного толстовского мужика. Или, говоря о рождении ребенка, писатель указывает, что «как огонь над светильником колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с той же значительностью для себя будет жить и плодить себе подобных», – но эта великая тайна рождения так неразрывно, так неизбежно связана у нашего реалиста, у нашего натуралиста с обыкновенностью, с болью и благом человеческого тела, что загадочное слабеет в этом своем качестве, как загадочное, и, волнуя, умиляя, возвышая, сливается, однако, с общей тканью повседневности, подобно тому, как незаметно переходят друг в друга явь и сновидение, – за этим так часто и внимательно следит Толстой (вспомните один из многих примеров – страшную и прекрасную «Метель»).
Вообще поразительно в нем, что при своей гениальности он вовсе не утончен, – чужда ему не только современная больная или изысканная утонченность, непонятен ему не только Меттерлинк, но и вообще его талант и его душа как бы вырублены топором. Это и производит совершенно исключительное, мы бы сказали – космическое, впечатление. Его стремление к простоте имеет углубленный, вещий, философский смысл. Его простое – не внешний прием, не художнический метод, не литературное направление: его простое, это – метафизически-простое, самое ядро, самая субстанция бытия. Его простое – это целое миросозерцание, это именно та обобщающая синтетическая формула, которой он объединяет все предметы своего творчества, как ни разнообразны и далеки они друг от друга; это – та живая сердцевина стихийности, которую он хотел бы открыть, открыть даже во всех отщепенцах естества, под наносными песками культуры. Любимый сын природы, он остался так похож на нее, удержал от нее столько первобытности и, как бы высоко ни поднимался в титанической мощи своего дарования, сохраняет неразрывную связь со своею матерью. Именно любовь к ней, любовь не нежная, а грубая, та самая, которою, вероятно, любил Землю и сын Земли Антей, – как раз она является главной психологической основой того призыва к опрощению, который звучит на протяжении всей деятельности Толстого. Это так замечательно: он – аристократ по своему рождению и воспитанию, и, что еще важнее поверхностного аристократизма, внешних перегородок, он – аристократ духа, единственный носитель гения, блестящий метеор среди человеческой заурядности – и это ослепительное исключение всегда тяготело к самому обыкновенному людскому правилу, ко всему будничному и серому, ко всякой обыкновенности; знаменательно контрастируя самому себе, Толстой всеми физическими и духовными нервами своей натуры всегда несокрушимо привязывался к людям простым; всегда противопоставлял он бедных и богатых, хозяина и работника, батраков и бар и все свои симпатии отдавал бедному, работнику, батраку. Вопреки своему положению в обществе и в мире, не дорожа своим престолом, венцом таланта и славы, он хотел быть не единственным, не одним, а одним из многих, – и даже на смертном одре своем, в муках и боли, для всех окружающих, для близких и далеких, самый дорогой и важный, необходимый и незаменимый, – он сетовал, что на нем одном, только на Льве, сосредоточилось так много заботы и участия. И так искренне проведена у него эта антитеза богатства и бедности, избранничества и обыкновенности, и так он одержим ею, что она не создает впечатления навязчивой тенденциозности – даже в столь явных «Ягодах». Уже в раннем отрывке, в «Утре помещика», где описано стремление князя Нехлюдова облегчить крестьянскую долю (стремление внутренне бессильное, так как рабам нельзя даже помочь, рабам можно только вредить, особенно если к ним подходит рабовладелец), – уже там герой мечтает, как бы сбросить с себя свой княжеский титул и блеск роскошной жизни и претвориться в существо, менее удаленное от природы. Ропщет князь, зачем он не ямщик, не этот Илюшка, который спит теперь здоровым, беззаботным сном и видит такие хорошие сны: «Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, – видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше и видит золотые города, облитые ярким сиянием, и синее небо с чистыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше…»
Эта идеализация и поэтизация простолюдина коренится у Толстого в его общем демократизме, который, в свою очередь, как раз потому отличается у него такою незыблемой, захватывающей стихийной силой, что имеет под собою необщественную, не гуманистическую, а натуралистическую основу. Сама природа – демократка. Так смотрит на нее Толстой, и это только усиливает в его глазах ее красоту, и он так любит и любовно воспроизводит ее живой пейзаж – неизмеримо лучше, чем прославленный в этом отношении Тургенев, и он живописует не только природу явную, но и ее «ночные, чуть слышные движения, которые невозможно понять, ни определить». Природа у него – рабочая, работница, существо не слов, а дела; оттого, между прочим, хотя и значительную роль в его книгах играет хозяйство, но хозяйственность у него не оскорбительна, и его помещики не похожи на гоголевских: Левин не только не Чичиков, самозваный «херсонский помещик», но и не Костанжогло, и герои Толстого, хозяйничая, осуществляют некую мировую миссию, исполняют обязанности к земле, приобщаются все к той же древней труженице-природе. Дух работы вообще, тяжелое дыхание труда проникает его страницы, и слышится на них святая усталость крестьянской рабочей страды. Аристократ, но демократ из демократов, первый из рабочих, Толстой всегда помнит, что природа ждет от нас великого напряжения, и он не жалуется на это, хотя и, по глубокой мысли его, наше проклятие, наша кара за грехопадение, состоит не только в том, что мы обречены на труд, что в поте лица должны мы снискивать хлеб свой, но и в том главное, что «по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны»: тайный голос всегда упрекает нас за праздность.
Природа, простая природа, объект нашего жизненного дела, – вот что является путеводной звездою Толстого. Он чувствует по ней, по этой родине, ту жгучую тоску, которая фатально посещает человечество на самом пышном и изысканном пире его культуры и зовет его к давно покинутой святыне естества. Для Толстого, чем ближе мы к первоистокам природы, к «великим матерям» Фауста, к стихийной бессознательности, тем больше в нас мудрости. Отсюда – все его призывы к опрощению, все его недоверие к плодам просвещения и цивилизации; отсюда – простота и правда его созданий. Толстой – это Адам, до того как он вкусил от древа познания. Ключарь природы, страж естества, вещий кудесник земли, он помнит первое утро Божьих дней. Он нерасторжимо и непосредственно связан с той первозданностью, которую мы, люди, уже застали и зазнали. Житель догородского мира, ровесник природы, древней деревни, Толстой, точно минуя промежутки, историю, вырос прямо из первобытного и безо всяких посредников, поверх многовековой культуры человечества, смотрит прямо в глаза космической изначальности, своей предвечной матери. Для мирового старика, для земного первопоселенца, современника Богу, может ли всякое просвещение и образованность и сознание не быть чем-то вторичным и второстепенным, чем-то ненастоящим и ненадежным? Толстой верит только тому, что – первое. Так его народничество стихийно, так восходит оно к первым дням творения. Не просто деревенский быт интересует его, а сказывающееся лучше всего именно в этом быте бытие. Деревня – категория мировая. Люди – крестьяне. И потому его ухо любит крестьянскую речь, и потому его глаза любуются зрелищем деревни.









































