Текст книги "Поэтика «Дневников» протопресвитера Александра Шмемана. Лирические истоки литургического богословия"
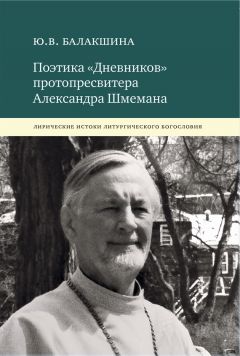
Автор книги: Юлия Балакшина
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 1
Осмысление возможностей и границ диалога светской культуры и церкви в «Дневниках» протопресвитера Александра Шмемана
Образ и смысл культуры
В 2005 г. в издательстве «Русский путь» увидели свет «Дневники» известного богослова и литургиста, протопресвитера Александра Шмемана (13.09.1921-13.12.1983). Отец Александр родился в Эстонии в семье эмигрантов из России, первую половину жизни провел во Франции, вторую в – США, куда он переехал в 1951 г., приняв предложение стать преподавателем (а позднее – деканом) Свято-Владимирской духовной семинарии. Он никогда не бывал в России, но великолепно знал классическую русскую культуру и сам в какой-то мере являл собой ее итог. Во многих городах Америки и на радио «Свобода» о. Александр читал лекции о А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове и многих других русских писателях; он был лично знаком с А. И. Солженицыным, И. А. Бродским, Н. М. Коржавиным, В. Е. Максимовым; на страницах своих дневников цитировал и рецензировал сотни произведений русской и европейской литературы. Слог, образный строй дневников о. Александра сложились под несомненным влиянием художественного слова, и свое богословское «писание», «выражение» он с годами все больше ощущал именно как «искусство» (603).
С первых же страниц дневников культура становится особым предметом размышлений протопр. Александра Шмемана. Ощущая в самом себе «кровную, необходимую связь христианства с культурой» (но), он стремится обосновать и сформулировать необходимость этой связи, не переходящей в тождество, не размывающей границ субъектов диалога.
На страницах своих дневников о. Александр Шмеман фиксирует моменты встречи с теми или иными явлениями мировой культуры. В ряде случаев эти встречи становятся для него безусловным прикосновением к опыту Небесного Царства, центральному для его жизни и богословия:
Сегодня после обедни в воскресной тишине дома (солнце, голые деревья) слушали Matthaeus Passion[24]24
«Страсти по Матфею». – Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть] Баха. Всегда, слушая их, вспоминаю «встречу» с этой удивительной музыкой в нашем домике в L’Etang la Ville. Она тогда буквально «пронзила» и восхитила меня. И с тех пор всегда, когда слушаю ее, особенно некоторые места (плач «дщери Сиона», последний, завершительный хорал), думаю то же самое: как можно в мире, в котором родилась и прозвучала эта музыка, «не верить в Бога»? (127).
В четверг—Jefferson Memorial, Capitol и National Gallery[25]25
Памятник Джефферсону, Капитолий и Национальная галерея. – Прим, ред. «Дневников».
[Закрыть]. Этот музей просто потрясает: в комнате Рембрандта (ап. Павел!) почти физически чувствуешь, в чем «смысл» искусства: в очищении, в возношении, в прикосновении к чистой, беспримесной радости… Начали с поздних французов – Моне, Мане, Писсарро, Сезанн, потом великие – Клод Лоррен… И, в конце, как climax[26]26
Высшая точка, кульминация (англ.). – Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть], – Рембрандт. Праздник… (353).
Знаменательно, что встречу с гениальными произведениями мировой культуры протопр. Александр Шмеман воспринимает как таинство, что определяет и внутреннюю логику, и язык описания этой встречи. Так, в своих литургических трудах Шмеман подчеркивает динамическую природу таинства, требующую от человека вхождения, или точнее – восхождения к открывающейся реальности Божьего Царства. В обеих процитированных дневниковых записях легко проследить ступени этого восхождения, в чем-то сходные с элементами, входящими в структуру литургического таинства: префацио – вводная часть, анамнесис – воспоминание, эпиклесис – призывание, интерцессио – ходатайство. Префацио, приуготовление – это воскресная тишина дома, солнце, голые деревья, – все то, что готовит душу к восприятию музыки Моцарта, или прогулка по залам музея с великими и поздними французами, без и вне которой невозможно потрясение в зале Рембрандта. Анамнесис – это и личное воспоминание о первой «“встрече” с этой удивительной музыкой в нашем домике в VEtang la Ville», и память культуры, собранная в залах музеев «Jefferson Memorial, Capitol и National Gallery». Эпиклесис – высшая точка литургического напряжения, призывание Святого Духа, явленная реальность Царства – слышится в итоговых словах двух отрывков: «как можно в мире, в котором родилась и прозвучала эта музыка, “не верить в Бога”?»; «в прикосновении к чистой, беспримесной радости… <… > И, в конце, как climax, – Рембрандт. Праздник…». Говоря о смысле искусства, Шмеман использует литургический термин, название главной евхаристической молитвы – «возношение», по-гречески, «анафора».
Однако в дневниках о. Александра Шмемана описание переживаний от встречи с культурой далеко не всегда строится в соответствии с литургической моделью. Качеством таинственной причастности к Царству обладают не все культурные феномены, с которыми приходится сталкиваться о. Александру. Иную, но также несомненную ценность имеют произведения, в которых явлена правда о мире, даже если этот мир отказался от Бога:
Вчера вечером кончил «Чевенгур». Читал, и все в уме сверлила ахматовская строчка: «Еще на западе земное солнце светит…»[27]27
Из стихотворения «Чем хуже этот век предшествующих? Разве…». – Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть]. А тут – погружение в мир, весь сотканный, в сущности, из какой-то бездонной глубины невежества, беспамятства, одержимости непереваренными мифами. Как будто никогда не было ничего в России, кроме дикого поля и бурьяна. Ни истории, ни христианства, никакого логоса. И показано, явлено это потрясающе. И еще приходит в голову: «если свет, который в вас, – тьма…»[28]28
Ср.: Мф 6:23. —Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть]. Все происходит в какой-то зачарованности, душевном оцепенении, каждый ухватывается за какую-то соломинку… Удивительный ритм, удивительный язык, удивительная книга (ю).
Встреча с такими явлениями культуры разворачивается в дневниках о. Александра как длящийся внутренний диалог. С одной стороны, происходит погружение автора дневника в мир, созданный произведением искусства, художественным текстом, с другой – постоянное дистанцирование от него, проверка его истинности собственным духовным опытом, опытом веры («И еще приходит в голову: “если свет, который в вас, – тьма…”») и культуры («все в уме сверлила ахматовская строчка: “Еще на западе земное солнце светит…”»). Часто, если речь идет о произведениях, претендующих на создание образа «внутренней жизни мира» (645), Шмеман не ограничивается одной записью, он возвращается к тексту несколько раз, делает выписки, фиксирует внутренние и внешние отклики на него. Так, спустя почти месяц после приведенной записи о «Чевенгуре», о. Александр делает на страницах дневника обширную выписку из письма Н. А. Струве, предваряя ее ремаркой: «Письмо от Никиты Струве с замечательной, по-моему, оценкой Платонова» (14). Очевидно, что в письме Струве, ответом на которое явилось приводимое послание, Шмеман излагал свое видение и понимание творчества Платонова. На первом месте в оценке Струве оказывается тоже соположение правды книги с правдой жизни, истории, открывающейся его умственному взору:
…Платонов, бесспорно, замечательный писатель, владеющий каким-то доселе неслыханным языком, но, на мой взгляд, писатель не гениальный, потому что «с сумасшедшинкой» и болезненным восприятием мира. Есть в нем и какая-то недосказанность: все в его мироощущении предполагает веру, а была ли у него вера в Бога – неясно (14).
Отец Александр солидаризируется с точкой зрения Струве в силу наличия у них общего критерия в оценке явлений культуры, который Струве определил следующим образом: «О. Александр все (и литературу, которую любил, и политику, которой увлекался) всегда соотносил с высшими ценностями, с Единым на потребу»[29]29
Струве Н. А. Православие и культура. М.: Русский путь, 2000. С. 204.
[Закрыть].
Третий тип реакции на встречу с явлением культуры в дневниках о. Александра Шмемана – спор, драматическое взаимодействие, доходящее подчас до духовного противостояния.
Тоже вчера – две главы из «Дара» Набокова, который перечитывал много раз. Смесь восхищения и возмущения: какое тонкое разлито во всей этой книге хамство. Хамство в буквальном, библейском смысле этого слова: самодовольное, самовлюбленное издевательство над голым отцом. И бесконечная печаль набоковского творчества в том, что он хам не по природе, а по выбору, гордыне. А гордыня с подлинным величием несовместима (27).
Подобную реакцию вызывают у Шмемана все проявления того, что он называет «демоническим». Природу «демонического» о. Александр видит в претензии не-бытия называться бытием: «Демоническое в искусстве: ложь, которая так подана, что выглядит, как правда, убеждает, как правда» (28). Поэтому он особенно болезненно реагирует на все попытки формы стать самодовлеющей, на потенции мастерства превратиться в «умение, трюкачество»:
Америка не пошла впрок русским литераторам. Они сами уверовали в «литературоведение», сами стали по отношению к себе уже и «литературоведами». Они [готовят] свои стихи так, чтобы о них почти сразу можно было написать дурацкую американскую диссертацию. Мироощущение Чиннова не изменилось ни на йоту: бессмыслица жизни в свете (или тьме) смерти, ирония, подшучивание над всем и т. д. Но раньше это звучало органично, убедительно. Теперь: «Смотрите, как я ловко и умело это делаю» (22–23).
Второе качество художественного текста, неизменно вызывающее у о. Александра реакцию духовного сопротивления, – «нажатая педаль» (225), «вечный… напролом» (411), за которым для него скрывается отсутствие «настоящего, Божественного смирения» (4ii). Именно способность внимать, слышать, являть не себя, а то, что открывается в даре жизни, отличает, по мнению Шмемана, гения от таланта. Говоря о Цветаевой или Набокове, о. Александр подчеркивает их безусловную талантливость, но не гениальность:
Искусство самоутвержденья, искусство – власть над словом, искусство без смирения. <… > И потому искусство таланта (который все может), а не гения (который «не может не…») (411).
Оппозиции «гений – талант» соответствует оппозиция «служение – “творчество”». Служение понимается о. Александром как способность открыть, раздать, подчинить свой талант чему-то большему. Гениальные люди «берут на себя – Россию, мир, революцию, грехи и т. д.» (411). «Творчество», здесь не случайно взятое в кавычки, связано не с тем духом творчества и свободы, о котором писал Н. А. Бердяев, а с «психологией всесилия, вызова, требования, самоутверждения» (411).
Отец Александр полагает, что внутри творящей личности «гений» и «талант» могут быть смешаны («В Толстом – гениален ребенок и бесконечно глуп взрослый» (26)) и противопоставлены, что создает ситуацию необходимости личного выбора между двумя возможными путями: «В Набокове, может быть, и был гений, но он предпочел талант, предпочел власть (над словами)…»(411).
В ситуациях, когда протопр. Александр Шмеман видит в явлениях культуры какую-то духовную искаженность, «демоничность», он менее всего склонен выносить их создателям окончательные приговоры. Однозначно называя и резко отрицательно оценивая проявления духовного зла, по сути разрушающие и творца, и его творчество, он, тем не менее, ведет борьбу за саму личность художника. Так, читая биографию Э. Э. Камингса, Шмеман размышляет о «сюрреалистах, дадаистах, футуристах и всяческих “модернистах”» (518) и приходит к заключению, что «модернизм – это… явление духовное», укорененное «в каком-то глубоком духовном искривлении…». (519). Суть этого искривления о. Александр видит в радикальном противостоянии прошлому, в стремлении к разрыву с ним и в восстании против «статики», в устремленности к движению, которое являет только само себя – «в пределе – бессмыслица и – что хуже – разложение самого есть» (519). Однако оценка художественного течения, к которому принадлежал Камингс, не предопределяет для Шмемана оценки самого художника. Отец Александр приводит на страницах своего дневника текст двух вполне модернистских стихотворений американского поэта, поразивших его своей «магической» точностью в передаче «сущности» Америки (503–504) и более того – сущности жизни:
Это как раз о «жизни». И это, по-моему, неизмеримо ближе к тому, о чем вера, религия, чем богословские книги, которыми завален мой стол… (521).
Еще более развернутыми, сложными и драматичными оказываются отношения Шмемана с русскими поэтами и писателями. Напряженные диалоги с Солженицыным, Набоковым, Цветаевой и др. становятся сквозными сюжетами дневников. Так, увидев в Набокове хамство, гордыню, предательство гения ради таланта, власти, Шмеман в то же время ищет его оправдания, находя его зачастую не в области творчества, а в сфере жизни:
Читал вчера Набокова. «Весна в Фиальте». И раздумывал о месте и значении этого удивительного писателя в русской литературе. Вспоминал давний ужин с ним в Нью-Йорке. «Моя жизнь – сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет…» За такие-то вот строчки сразу все ему прощаешь: снобизм, иронию, какую-то «деланность» всего его мира (402).
Аналогичным образом, через личное прикосновение к тайне жизни другого человека, к его внутренней боли, в конечном итоге – через сострадание происходит и «оправдание» Цветаевой:
Продолжаю читать письма Цветаевой. И отказываюсь от позавчерашних «рассуждений». Только жалость, только ужас от этой замученной жизни… (412).
Лотман, описывая процессы, происходящие в общем пространстве культуры, отмечал, что «тексты, достигшие по сложности своей организации уровня искусства, вообще не могут быть пассивными хранилищами константной информации, поскольку являются не складами, а генераторами»[30]30
Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Он же. Избранные статьи: В з т. Т. I. Таллинн: Александра, 1992. С. 202.
[Закрыть]. Нам представляется, что дневник протопр. Александра Шмемана можно отнести к числу именно таких текстов. На страницах дневника в процессе прочтения, интерпретации о. Александром текстов культуры предшествующих эпох, но также и в процессе их включения в образную систему нового текста вырастают новые смыслы. Можно выделить три основных подхода, при помощи которых автор дневника интерпретирует то или иное явление культуры: культура как явление Небесного Царства; культура как отражение «внутренней жизни мира»; культура как порождение пустоты и не-бытия.
Отметим особый характер интерпретации текстов культуры, производимой в дневниках Шмемана. Он признает и ценит способность культуры к «различению, оценке, анализу» (480), однако его собственный анализ стремится избегать объективации, превращения акта познания в «мертвое знание» (430). Поэтому отношения, которые возникают у Шмемана с явлениями культуры и их творцами, уместнее описывать при помощи терминов «диалог» или «общение», восходящих к философии Бахтина-Бубера[31]31
См.: Бубер М., Бахтин М. М. Я и Ты. М.: Высш. школа, 1993-175 с.; Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М.: Сов. Россия, 1979. 320 с.
[Закрыть].
В своем подходе к конкретным явлениям культуры протопр. Александр Шмеман продолжает традицию, истоки которой следует искать еще в опыте богословского отклика на явления современной ему культуры архим. Феодора (А. М. Бухарева)[32]32
Статьи Бухарева были, в частности, посвящены книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», картине Иванова «Явление Христа народу» и др.
[Закрыть]. Бухарев писал о необходимости для тех, кто «утвердился в свете Христовой истины», «с глубоким участием любви следить за тружениками мысли, хотя бы во многом пресмыкающ<и>мися и падающим<и>»[33]33
Цит. по: Зеньковский Василий, прот. Проблемы культуры в русском богословии: А. М. Бухарев // Вестник РСХД. 1953. № i (26). С. 8.
[Закрыть].
Прот. Василий Зеньковский в статье «Проблемы культуры в русском богословии» безоговорочно солидаризировался с позицией Бухарева и подчеркивал необходимость не только с «участием любви» следить за творцами культуры, но и отвоевывать у небытия их самих и их творения:
В дневниках Шмемана происходит практическая работа по «оцерковлению культуры» (В. В. Зеньковский), заключающаяся не только в отборе и оценке текстов культуры, но, прежде всего, в их свободной и творческой рецепции, позволяющей сохранять «прошедшее как пребывающее»[35]35
Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении. С. 201.
[Закрыть] и генерировать новые смыслы. Еще раз подчеркнем, что свойством смыслопорождения обладают не любые тексты культуры, а только «достигшие по сложности своей организации уровня искусства» (Ю. М. Лотман). Иначе говоря, именно и только «искусство есть язык, выражающий смыслы и образующий из них заново осмысленные целые» (В. В. Вейдле). Шмеман, вполне принимая мысль своего учителя В. В. Вейдле, создает особый жанр, в котором мемуарный автобиографический материал преобразуется по законам художественного текста[36]36
См. об этом гл. 2 «Своеобразие литературной формы “Дневников” протопр. Александра Шмемана».
[Закрыть].
Помимо непосредственной реакции на встречу с явлениями культуры, в дневниках протопр. Александра Шмемана можно найти немало размышлений о философии и богословии культуры. Представляется необходимым собрать воедино разрозненные наблюдения, сделанные Шмеманом на страницах своих дневников, и представить их в виде более или менее целостной системы.
Протопр. Александр Шмеман оригинально и творчески развил философское и богословское понимание культуры, сформулированное в трудах Н. А. Бердяева, В. В. Вейдле, прот. Василия Зеньковского, С. Л. Франка и др. Ключевым в его взглядах на культуру становится центральное понятие его литургического богословия, «Небесное Царство» и, следовательно, вопрос о причастности культуры эсхатологической реальности. С одной стороны, о. Александр утверждает, что «и культура, и богословие – эсхатологичны по самой своей природе» (57), что подлинная культура – это «причастие», «участие в том, что победило время и смерть» (61). С другой стороны, он признает, что «само понятие Царства Божия может “взорвать” культуру» (но) как раз потому, что культура принадлежит истории, миру: «Культура и есть тот мир (а не биология, не физиология, не “природа”), который христианство судит, обличает и, в пределе, преображает» (по).
Внешняя противоречивость позиции о. Александра обусловлена антиномичностью самого христианства в отношении эсхатологии и истории. У своих ближайших учителей и соратников еще по Свято-Сергиевскому богословскому институту в Париже прот. Георгия Флоровского и протопр. Николая Афанасьева Шмеман учился парадоксальной сложности соотношения эсхатологического и исторического. Прот. Георгий Флоровский писал о том, что «христианство – эсхатологическая религия и именно поэтому религия историческая»[37]37
Флоровский Георгий, прот. Положение христианского историка // Он же. Догмат и история. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1998. С. 71.
[Закрыть]. Протопр. Николай Афанасьев утверждал, что проблема истории и эсхатологии «решена самим фактом существования Церкви»[38]38
Афанасьев Николай, протопр. Ей, гряди, Господи Иисусе! (к проблеме эсхатологии и истории) // Вестник РСХД. 1966. № 4 (82). С. 78.
[Закрыть]. Протопр. Александр Шмеман на страницах дневников пытался показать антиномичность христианства через антиномичность личности Христа:
Единственность христианства – это «имманентность трансцендентального» и, обратно, «трансцендентность имманентного». Христос не для политической свободы, не для культуры, не для творчества, Он трансцендентен по отношению к ним, но, так сказать, изнутри и потому их самих делает путем к трансцендентному (447).
Таким образом, у культуры в понимании Шмемана есть потенциальная возможность стать путем к Небесному Царству и даже его явлением («“вне” культуры – ни понять, ни услышать, ни принять его невозможно» (по)), но возможность до конца и вполне не могущая быть реализованной: «Вся культура и все в культуре – в конце концов – о Царствии Божием, за или против» (188). Культура взрывает быт, угрожает его статике, вносит в быт «проблематику, вопрошание, трагизм, искание, борьбу» (57), но и сама может успокаиваться, окостеневать, сбиваться наложные, «демонические» пути, не являя Царство, а заполняя внутреннюю пустоту. Поэтому, по мнению Шмемана, «христианство призвано все время изнутри взрывать культуру, ставя ее лицом к лицу с последним, с тем, кто выше нее, но кто, вместе с тем, и “исполняет” ее, ибо на последней своей глубине культура и есть вопрос, обращенный человеком к “последнему”» (ш).
Следует уточнить, что используя глагол «взрывать», Шмеман не вкладывает в него значения разрушения. Он противопоставляет позицию христианства, изнутри изменяющего и обновляющего культуру, позиции варварства – культуру отрицающего и уничтожающего.
Культура пребывает внутри мира и истории, но благодаря тому, что она может быть исполнена Христом, она внутри мира может стать тем семенем, которое зреет для вечности. Качество культуры для о. Александра определяется степенью того, насколько культура выполняет это свое предназначение, насколько она причастна «Единому на потребу». Отсюда необходимость качественных уточнений: «подлинная культура», «культура на глубине», – предполагающих, что есть и совсем другая культура, основанная на «ложных, даже демонических – предпосылках» (247).
Эсхатологический аспект культуры проявляется в ее особых отношениях со временем. Отец Александр, обладавший особым даром открытости к жизни, ценивший и собиравший моменты теофании, остро переживал преходящесть, невозвратимость мгновений жизни. Вслед за многими литераторами и художниками нового времени он видел в искусстве особую способность преодолевать необратимую текучесть времени:
Сохранить же навеки все это: группу седеющих людей, уходящих в свете фонарей в промозглый парижский вечер из русского собора, после вечной памяти «Державным шефам», – эту вспышку праздника, молодости, дружбы и т. д., сохранить, воплотить все это, причастить этому может только искусство (136).
Однако позиция Шмемана существенно отличается и от позиции романтической поэзии, предполагавшей свободу от времени только в мире мечты[39]39
См., например: Ляпушкина Е. И. Идиллические мотивы в русской лирике начала XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов» // От Пушкина до А. Белого: Проблемы поэтики русского реализмаXIX – началаXXвека. СПб.: СПбГУ, 1992. С. 102–117; Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М.: Наука, 1976. С. 148.
[Закрыть]; и от позиции А. А. Фета, который «мятется в сознании потерь» звеньев драгоценной временной цепи и ищет «исступленных состояний духа», чтобы спрятаться от ужаса этой потери[40]40
Недоброво Н. В. Времяборец (Фет) // Вестник Европы. 1910. Кн. 4. С. 241.
[Закрыть]; и от позиции Пруста, который в поисках утраченного времени предлагает читателям «не вещи, которые вспоминаются, но воспоминания о вещах»[41]41
Ортега-и-Гассет X. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста // Он же. Эстетика: Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 178.
[Закрыть] и «вместо того чтобы реставрировать утраченное время… довольствуется созерцанием его обломков»[42]42
Там же. С. 179.
[Закрыть].
Отец Александр полагает, что искусство и культура призваны не к победе над временем и не к бегству от него, а «к восстановлению времени»:
Правда Пруста: искусство призвано к восстановлению времени. Трагический тупик Пруста: совершая это, искусство свидетельствует о Боге, о возможном «прорыве». Ау него нет этого прорыва, и воскрешенное искусством temps perdu[43]43
Потерянное время (фр.). – Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть] есть свидетельство о смерти и пропитано тлением. Нету этого удивительного бунинского прозрения: «Как будто все, что было и прошло, / Уже познало радость воскресенья…»[44]44
Из стихотворения И. Бунина «Зачем пленяет старая могила…». – Прим, ред. «Дневников».
[Закрыть] (186).
По сути Шмеман утверждает, что искусство способно выполнить собственно христианскую задачу, о которой говорил, в частности, прот. Георгий Флоровский в своих размышлениях о положении христианского историка:
Сам Шмеман идет еще дальше, показывая в своих богословских и литургических трудах, как христианство не только освящает, но и преображает время:
Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. «Анамнезис»: все христианство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности сейчас и здесь (25).
В пределах земного бытия это воскрешение времени происходит, по Шмеману, в таинствах Церкви: «Литургия: претворение времени, наполнение его до конца вечностью» (186). Напомним, что, передавая опыт своего приобщения к подлинной культуре, о. Александр часто и далеко не случайно использует именно евхаристическую терминологию «претворение», «приобщение», «возношение»: «Сейчас иду в семинарию – еще один “антракт” кончился, еще раз мой “Париж” претворяется в память» (323);
«А я начинаю опять свое “приобщение” Парижу, ставшее для меня настоящей потребностью» (205); «почти физически чувствуешь, в чем “смысл” искусства: в очищении, в возношении, в прикосновении к чистой, беспримесной радости…» (353). Эсхатологическая природа «подлинной культуры» проявляется для о. Александра в том, что в мире сем она являет себя как таинство – знак, символ, образ Богочеловеческой реальности. Но любое таинство церковно, т. е. существует в Церкви, для Церкви, и в конечном итоге – Церковь являет. Эсхатологическая реальность, новый зон, согласно трудам протопр. Николая Афанасьева и самого протопр. Александра Шмемана, – реальность, открывающаяся «только верным в Церкви»[46]46
Афанасьев Николай, протопр. Ей, гряди, Господи Иисусе! С. 78.
[Закрыть]. Вопрос же о церковности светской культуры остается в дневниках протопр. Александра недоговоренным, до конца не осмысленным.
Особая способность культуры являть Царство ставит перед Шмеманом вопрос о взаимосвязи культуры и богословия. В связи с «Архиереем» А. П. Чехова о. Александр записывает в дневнике:
Вот почему богословие в отрыве от культуры, которая это (красоту поражения, свет победы в ней) одна может явить – ибо это неопределимо, так часто теряет свою соль и становится пустыми словами… (220).
В своих размышлениях о культуре, искусстве как об особом языке и особом способе выражения невыразимого о. Александр развивает наблюдения, сделанные его парижским другом и учителем В. В. Вейдле[47]47
Ср., например, запись от 9 марта 1876 г.: «Кончил “Зимнее солнце” Вейдле. “Религия без искусства немеет”, – пишет он. Книга, родившаяся из радости. “Ныне отпущаеши”, снова повторенное. Собираюсь писать ему» (257).
[Закрыть], который в своей статье «Искусство как язык религии» прямо указывал, что религия «говорит на языке искусства, как на своем родном и единственно для нее пригодном языке»[48]48
Вейдле В. В. Искусство как язык религии // Он же. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 195.
[Закрыть]. Отсюда забота самого о. Александра о поистине художественной форме его богословских сочинений, долгая и тщательная работа над словом, безусловно, учитывающая опыт всей предшествующей культуры:
В связи с этим: думал вчера о том, что богословие (слова о Боге, вживание в сущность веры) предполагает как свое непременное условие – либо подлинную культурность, либо же святость, в смысле простоты, смирения и т. д. (645).
Шмеман ищет таких слов, которые, по выражению Вейдле, были бы не «обозначающими», а «выражающими знаками», т. е. знаками, которые «не просто обозначают, а выражают то, что они обозначают, иначе говоря, уподобляются ему и являют его в себе»[49]49
Вейдле В. В. Искусство как язык религии. С. 192.
[Закрыть]. Искусство, по Вейдле, обладает способностью выражать живые, гибкие, подвижные, текучие смыслы. В дневнике Шмемана эта мысль выражена несколько иначе: «Богословие предполагает некий общий язык с культурой, внутри которой оно witnesses[50]50
Свидетельствует (англ.). – Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть]» (286); «богословие без культуры – фактически невозможно и даже при формальной “правильности” звучит иначе, не так, как нужно…» (623). В конечном итоге, и для Вейдле, и для Шмемана вопрос о месте и роли культуры упирается в вопрос «о символах, знаках, языке и их соотношении с реальностью и с опытом этой реальности» (286): в каком смысле, в какой мере реальность Царства может быть явлена на языке культуры? каково соотношение образа и первообраза? может ли оно быть описано в терминах сходства? уподобления? отождествления?
Столь же важным, как эсхатологический, оказывается для Шмемана исторический аспект бытия культуры: ее открытость не только Небесному Царству, но и истории, миру. Отказ от культуры, тождественный отказу от ответственности за мир, «совершенно отрешенная церковность», приводят, с точки зрения о. Александра, к «духовному краху сначала Византии, а потом – России» (78). Это остается болезнью части русской эмиграции.
В истории культура раскрывает себя как память, как «живое преемство» (427) поколений человеческого рода, которое принял, признал как свое, прежде всего, сам Иисус Христос: «Скажут, никакой “культурой” Христос не занимался. Неправда. Каждое слово его – о Царстве Божьем, о Давиде, о “древних” – предполагало знание, понимание, память о том, что Он говорил, к чему звал, что обличал» (597) j «Как важна, как драгоценна потому эта, постоянно подчеркиваемая в Евангелии, связь Христа и Его проповеди со всей преемственностью, то есть именно культурой тех, кому Он проповедует» (ш).
Отец Александр Шмеман также воспринимает запечатленную в культуре память человечества как свое личное достояние, как то, без чего невозможна целостность его собственной личности. Он настаивает на особом характере культурного преемства, связанного с такими способами познания жизни, которые недоступны ни бытовому, ни формально-рассудочному мышлению:
Культурность, однако, это не просто знание, это приобщенность к внутренней жизни мира, к «трагедии» (в греческом смысле) человеческой истории, человеческого рода (645).
Если Христос до конца и вполне воспринял человеческую природу, чтобы исцелить ее, то Он до конца и вполне воспринял и человеческую культуру, чтобы «трагедия» человеческой истории могла стать победой «Победившего мир». Эта победа силы Христова воскресения, которая уже вошла в мир, но еще до конца не исцелила, не освятила и не преобразила его, остается Богочеловеческой задачей. Каждая новая историческая эпоха ставит христиан перед вопросом, насколько они смогли приблизить эту победу. Ответить на это вопрос христианам опять-таки позволяет культура: «Культура каждой данной эпохи – это зеркало, в котором христиане должны были бы увидеть самих себя, степень своей верности “единому на потребу”[51]51
Лк 10:42. —Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть], “победы, побеждающей мир…”[52]52
Ин 16:33. —Прим. ред. «Дневников».
[Закрыть]» (по).
С другой стороны, наблюдая и оценивая пребывание культуры в истории, Шмеман видит, что культура далеко не всегда сохраняет ту высоту, которая позволяет Христу изнутри освящать и преображать ее. Особенно много размышлений в дневниках о. Александра посвящено путям и судьбам современной «постмодернистской», «западной» культуры. Насколько доверяет Шмеман культуре классического типа, настолько он подчас категоричен в оценках современных ему культурных явлений:
Нужно отвергнуть всю современную культуру в ее духовных – ложных, даже демонических – предпосылках (247).
Однако в отношении Шмемана к «новой» культуре нет взгляда с высоты, отстранения от нее как от явления, за которое он не хочет и не может нести ответственности. Он называет культуру, в которой живет, «нашей культурой» и в большом количестве читает труды писателей, философов, историков, богословов XX века (Ж. Ле Гоффа, Ж.-П. Сартра, М. Фуко, М. Элиаде и др.), их биографии и автобиографии. Отец Александр исполняет принцип, сформулированный им на страницах дневников, – всматривается в культуру как в зеркало, чтобы увидеть в ней лик современного христианства. Поэтому для него «“религиозная драма Запада”, ее отличие от “религиозной драмы Востока”» – это «краеугольная тема» (566), в которой решаются судьбы не только культуры, но и христианского мира.
Наоборот, ответственность за происходящее с культурой лежит на церкви, на христианстве:
Запад: не отказ от Бога (как думают обычно), а разделение – внутри религии – «трансцендентного» от «имманентного», от эсхатологической сущности христианства. Отождествление его либо с «неотмирным», либо с миром и историей. Потеря при этом и «неотмирного», и «мирского». Пустота, образовавшаяся от этого разрыва, и «культура» как попытка эту пустоту не преодолеть, а «заговорить» объяснениями ее. В сущности, шизофрения. Новая западная культура – шизофреническая и потому клиническая. Всегда на грани безумия, саморазрушения, самовзрывания… (566).
Христианство, утрачивая эсхатологическую напряженность, перестает быть «закваской истории» (прот. Георгий Флоровский), что приводит, в первую очередь, к утрате «некоего органического, изначального и вечного опыта» (247), который, по мнению Шмемана, был заложен в основаниях бытия мира, искажен грехопадением, но должен быть восстановлен в реальности Небесного Царства.









































