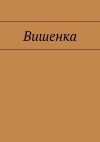Текст книги "Источник солнца (сборник)"

Автор книги: Юлия Качалкина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 3
Артем очень хорошо помнил, как звучит по утрам пишущая механическая машинка «Ятрань». Звук был ни с чем не сравнимый: Артем лежал обычно в детской, еще до конца не проснувшись, и слушал, как в ограниченном каком-то, прямо сказочном пространстве в затяжном поцелуе запечатлеваются буквы на сизых листах формата А4. Он так и представлял себе, как механическая железная лапа толкает профиль буквы вперед, как от соприкосновения с ней болезненно морщится бумага, как прогибается черная лента, прокручиваясь с одной катушки на другую, как сохнет сиротливо отпечаток… потом он представлял себе отца, который замирал над машинкой с поджатыми руками, как тушканчик, всматривающийся в степную даль. Потом от этого пришедшего на ум сравнения Артем начинал улыбаться и открывал глаза. Машинка стучала еще какое-то время, но вот печатные утехи сходили на нет, и папа прокрадывался в детскую. Он сначала делал в двери щелку, заглядывал в нее, и стоило Артему или Вале приоткрыть глаз, или хотя бы пошевелить ногой, как папа, обрадованный, входил уже целиком и певуче говорил:
– Ой, Тема, ты проснулся? Ну, вставай, вставай. Умывайся. А я уже варю тебе кашу. – Евграф Соломонович сделал по комнате несколько кругов и полукружий, после чего, улыбаясь, собрался выходить. – И заметь: я тебя не будил, ты сам проснулся. – Он скрылся за дверью и оставил сына одного.
– У-уух! – Артем сладко потянулся, почмокал губами и посмотрел на часы в мобильнике, лежавшем на журнальном столике у кровати.
Было без четверти десять. Без четверти десять! Вчера он опять лег позже всех, и, помнится, папа еще ворчал на него из кабинета. Да-да, ведь надо было подвинуть стул, чтобы залезть в шкаф, достать чистую наволочку… как всегда впотьмах… а стул возьми да и упади… и тут папа… Артем вспомнил все до мельчайших подробностей. И, вспомнив, он окончательно вошел в новый день.
И Вальки уж точно не было. И мамы тоже. И когда они последний раз были все вместе?
Евграф Соломонович на кухне гремел кастрюлями, а в ванной ревуче подпрыгивала старая стиральная машина. И отец, и сын оба помнили, как однажды эта самая «Эврика» выпрыгнула из своего законного угла и приземлилась на большой палец Валиной ноги, отчего Валя взвыл, а палец с тех пор слегка изменил форму. Да, Евграф Соломонович очень живо помнил, как Артем в детстве свалился с трубы отопления в тарусинском доме и порвал себе вензелем щеку. Или как они с Настей застали своих мальчиков за весьма странным занятием: один сидел на кровати и держал другого, стоящего на руках, за ноги. И этот другой просил первого кинуть его на батарею. Другой, ясное дело, был Артем. Или вот еще… Евграф Соломонович прислушался к плеску воды в ванной и, решив, что любовь к батареям будет преследовать Артема до конца жизни, предусмотрительно пошел за ним. Артем, с мокрой взъерошенной головой, стоял босыми ногами на кафельном полу и вытирал кончиком полотенца уши.
– Давай-давай, а то холодную будешь есть. – Евграф Соломонович окинул сына недовольным взглядом и ушел обратно на кухню.
Да, ели уже холодную! И не раз. Бывало, утром не осилят тарелку геркулеса – им его на обед оставят. Или особого удовольствия ради – на ужин. Артем улыбнулся воспоминанию. Он развлекался тем, что следил за папой, который кипятил чайник на плите, и пытался делать это красиво. Да, у людей бывает эстетическое отношение к действительности. У многих бывает, а не только у Чернышевского, о котором знают почти все. Артем с детства был немногословен, и это позволяло ему пристальнее наблюдать за прочими болтунами. Валя был болтун. Мама тоже. Да и папа, когда нападет на любимую тему анекдотов про евреев. Возможно, Евграф Соломонович живо чувствовал обиду за свой народ, возможно, он живо поддавался всеобщему еврейскому чувству обиды за себя, но в любом случае был искренен и смотрел на жизнь иронически. Дядя Маня, его старший брат, подвизавшийся на поприще математики, и успешно подвизавшийся, надо сказать, звал его в глаза «хулиганом». Так, приедет, бывало, в гости, стоит на кухне, пьет кофе, ставит чашку в раковину, берет чистую, наливает, пьет, ставит в раковину, снова берет чистую – и так и говорит: помню, говорит, был Евграшка хулиган. Глаза закатит и добавит: я б ребенка уж точно Евграфом не назвал! И Артем почему-то с юных ногтей знал, что Евграфами детей называть нельзя. И когда ему самому исполнилось пять лет, придумал имя своему будущему сыну – Коля. И этот сын мечтался ему чем-то вроде младшего брата. Рожать девочку он не собирался абсолютно. Так вот, Артем отмалчивался и наблюдал, как и о чем болтают взрослые. И изо всей этой болтовни он сделал два важных вывода: а – чем больше человек болтает, тем меньше он следит за течением собственной мысли; б – чем меньше он следит за ней, тем больше иной раз рассказывает о себе и тем чаще бывает откровенен. Хотя это большое заблуждение, что всегда и всем интересно, а главное, приятно и нужно слушать чужие откровения.
Так вот, сидел Артем и, насыщаясь кашей, наблюдал за папой, готовый слушать его. Однако Евграф Соломонович разговаривать не спешил. Он в который раз пытался эстетически снять огненный чайник с плиты и не менее эстетически потушить пламя в горелке, повернув эдак ловко ручку. Но и чайник и ручка его красивостей не разумели, а тяготели, наивные, к прозе жизни: снимать и тушить приходилось быстро, как на пожаре. И так, оскорбленный в попытке быть элегантным в мелочах Евграф Соломонович начинал суроветь по-крупному, сердился. К тому же рядом сидел и завтракал Артем. Ел он много и с аппетитом, и Евграф Соломонович как-то раз сказал ему, что его можно купить с потрохами за хороший обед. «Ты уйдешь в тот дом, в котором тебя будут много и вкусно кормить», – сказал он. Если бы Евграф Соломонович мог, он, наверное, не ел бы сам и издал какой-нибудь указ, запрещающий это делать другим в его присутствии. А Артем ел много, и ему это было приятно. Ему это нравилось.
– И какие же у тебя сегодня пары, сынок?
– Две литературы, социология и итальянский. – Артем знал, что папа испытывает при взгляде на аппетитно жующего человека и понимал это. И еще: он всегда отвечал только о том, о чем его спрашивали.
– Ты вчера к языку готовился? Я чего-то не припомню…
– Вчера нет.
Артем намазал толстый кусок белого хлеба толстым куском сливочного, поблескивавшего жирком масла и отправил все это в рот. Потом прицелился к колбасе и съел ее столь же молниеносно. Евграф Солмонович слегка вздрогнул, и от Артема это не укрылось.
– А позавчера?
– Да.
– А-аа… – Евграф Соломонович заварил зеленый чай и сел на стул, подвернув под себя ногу. Он смотрел в окно.
– Пап! – Артем невозмутимо намазал абрикосовым вареньем сдобную булку с кунжутом и откусил кусок. – Солнечно-то как сегодня!.. Может, пойдешь, в Чапаевском парке посидишь… там фонтан включили.
– Да, и буду сидеть я один, на скамейке, читать что-нибудь, а люди будут идти мимо и думать о том, какие у меня ботинки, брюки, как я подстрижен – или не подстрижен, что написано в моей книге и почему я ее решил читать именно в этом парке, на этой скамейке…
– Пап, а тебе не все равно, что подумают эти люди? Вот мне, например, это всегда параллельно. – Артем отодвинул от себя пустую тарелку, оперся локтями на стол и внимательно посмотрел на отца.
Евграф Соломонович вздохнул и поскреб ногтем на скатерти застывшее чайное пятно. Зачем тут эта скатерть? Евграфа Соломоновича раздражала и она, и вообще все, что попадалось на глаза. Даже зеленый чай ему уже опротивел.
– Артем, ну как ты говоришь!.. «параллельно» какое-то, я не знаю!.. – Евграф Соломонович потер ладонями лицо и запустил пальцы в волосы. На него было неприятно смотреть: мучается человек. – Артем, – не меняя позы, продолжил он, – тебе ведь, наверное, в институт пора, а? Ты опоздаешь. Да-да…
– Пап, ты в порядке? – Артем попытался заглянуть ему в лицо, но не сумел.
– Тем… я нормально. Доедай, пожалуйста, свой завтрак и иди учиться. Давай.
Артем понимающе кивнул и встал из-за стола. Евграф Соломонович по-прежнему не менял позы. Голова его беспомощно опиралась на руки, глаза, судя по всему, были закрыты.
– Пап, я…
– Тем, если ты собрался меня грабить, деньги в портмоне, в портфеле. Возьми в кабинете. Если Валя не все забрал… – Евграф Соломонович сделал усилие оторвать ладони от лица, но только фыркнул в них и потряс головой.
– Нет, пап, ты не понял. Я… ну, люблю тебя, пап.
Евграф Соломонович поднял помятое лицо, посмотрел на сына, и Артем по тому, как легли у отца надбровные складки, понял, что сказал чересчур сильно. Евграф Соломонович осмысливал сказанное.
– Знаешь, есть такой анекдот про евреев. Спас как-то мужик еврейского мальчика, из проруби зимой вытащил. На другой вечер ему звонок домой. Голос: это вы вчера еврейского мальчика спасли? Да, говорит мужик. Уже готовится принимать благодарности. А голос тут: ну, так и где же шапочка? – Евграф Соломонович сам себе засмеялся, и глаза у него стали какие-то необычайно добрые.
Артем не понял, к чему был рассказан анекдот, но почувствовал ответную веселость и засмеялся в голос. При этом его длинная челка забавно вздрагивала.
Оба, насмеявшись вволю, встали из-за стола. Артем стряхнул с брюк хлебные крошки и положил в рот сдобное печенье – из вазочки на полке, которая попалась ему по пути под руку.
– И все же, пап… ты сходил бы в парк, а?
– Посмотрим, Тем. Я подумаю.
Евграф Соломонович проводил сына, закрыл за ним дверь и долго потом слушал, как шумит в шахте опускающийся лифт. Пошел в кабинет, откуда был виден подъезд, проследил, как Артем вышел из дома, как он посмотрел по привычке куда-то в небо, сильно запрокинув голову, как скрылся за углом. Евграф Соломонович вернулся на кухню помыть посуду. Весь его сегодняшний день должен был сложиться из хождений по комнатам: из одной в другую, причем часто – по поводам совершенно искусственным, надуманным и необязательным. Он маял свою скуку. Или это скука маяла его. В кабинете – он с самого утра чувствовал это место в квартире – лежала недописанная пьеса. Недосочиненная. И вот целый день блуждать, вращаться вокруг нее. Не уметь довершить затеянное и мучиться этим. Было ли у человека когда-нибудь какое-то иное мучение, невыносимее этого? Евграф Соломонович собрался было театрально заломить руки и воскликнуть подобно гоголевскому герою «О, яду мне!», как в дверь позвонили. Звонок был тем неожидан, что это был звонок. Ибо каждый в их семье, как уже небезызвестно нам, имел ключ и дверь открывал сам.
Евграф Соломонович пригладил седые волосы, бросил критический взгляд на стоптанные тапочки и пошел открывать. Щелкнул замок, и на пороге наш отец семейства обнаружил свою двоюродную тещу, Серафиму Ферапонтовну, с внучкой. Внучку звали Саша.
Глава 4
Помнится, в детстве ваш покорный слуга любил ходить по гостям. О да, читатель, это едва ли не самое приятное занятие для любопытного ребенка в возрасте от пяти до пятнадцати. Во-первых, в гостях всегда много взрослых, и ты сам, находясь среди них, бываешь взрослым – по-настоящему, не в шутку. Во-вторых, тебя там вкусно покормят, и есть шанс съесть больше, чем обычно дома, ибо родители, с которыми ты пришел, будут заняты не тобой, а другими родителями, и не успеют сказать, ты лопнешь, деточка. В-третьих, наконец, собираясь в гости, ребенок думает, что там ему дадут подарок. Обязательно дадут, даже если он идет на чужой день рождения и подарок дарит сам. Логики тут никакой быть не может, никогда и не было. Просто ребенок есть ребенок.
Саше этой зимой исполнилось девять. И до своего девятилетия она сохранила странную на первый взгляд привычку, приходя в гости, обследовать туалетные шкафчики. Делалось это так: заходишь в ванную, закрываешь дверь, включаешь воду и тянешь на себя зеркальную дверцу, которая, соблазнительно поскрипывая, таит несметные сокровища, сравнимые разве только с сокровищами легендарного Сезама. В шкафчиках хранят, как известно, мыло, вату, зубную пасту, розовую воду, кремы для бритья, всякие кривые щипчики и шампуни (если шкафчик большой и позволяет это, а главное, там еще есть дезодоранты… и все это покрыто тайной, потому что прячется хозяевами от посторонних глаз. Словно то, чем они чистят уши, поможет тебе лучше понять то, что творится у них в голове).
Саша отлично знала: вот сейчас Граф склонится над ней в пронзительной улыбке, спросит, как, собственно, ее дела, помнется на месте и, наконец, пропустит их с бабушкой в прихожую, а она тем временем тихонечко прокрадется в ванную мыть руки и… смотреть шкафчики. Поэтому, когда Евграф Соломонович, заложив руки за спину и покачиваясь для игривости вперед-назад, певуче спросил Сашу об ее «делах и делишках», она вытянулась в струнку, точно держала ответ у доски, и, старательно моргая, произнесла «хорошо». И так четко в этом «хорошо» слышалось «отпусти меня и ни о чем ни спрашивай, если можно, разве ты еще не знаешь, что я тебя боюсь?», что Евграф Соломонович каким-то образом все понял и переключился на Серафиму Ферапонтовну.
Саша проскользнула в вожделенную ванную, задвинула шпингалет. Серафима Ферапонтовна была глуха на оба уха, сама про себя это знала и охотно смеялась над собственной глухотой. Прерогативой вышучивать бабушку безраздельно владел Валя. Несколько лет семья не могла забыть одну его выходку: как-то раз, переезжая на дачу, Декторы заказали не две машины, а одну большую, и погрузились в нее все сразу. Естественно по дороге возник спор, в котором глухая бабушка приняла живейшее участие. Перекричать ее не мог никто – никто и не пытался, – и Валя на очередном повороте, воспользовавшись временным затишьем (все следили, чтобы не попадали уложенные вещи), изрек сногсшибательный анекдот:
– Плывут два крокодила: один зеленый, другой – налево.
Сия стилистическая фигура, именуемая зевгмой, на веки вечные приклеилась к Серафиме Ферапонтовне, согласившейся, когда ей рассказали, быть тем крокодилом, который «налево». И вот этот-то крокодил «налево» и вспомнился Евграфу Соломоновичу сейчас. Причем так отчетливо, что он едва сдержал смешок.
Евграф Соломонович никого с утра не ждал. Нет, разумеется, он был заранее поставлен в известность о том, что родственники придут. Он даже готовился к встрече. Но вот ждать – не ждал. Серафима Ферапонтовна в доме была частым гостем: Настя, измотанная ежедневной врачебной практикой, оставила быт дома на произвол судьбы (а точнее – троих мужчин, которые делили его по родственному принципу), и этот самый произвол еще как-то держала в рамках приличия ее тетя – уже знакомая нам бабушка Серафима. Никто, что вполне понятно, не ждал от старушки, что она вдруг начнет переклеивать отошедшие от стен местами обои или штукатурить потолок, но от нее два раза в неделю ждали вкусного обеда, приготовляемого обычно на несколько дней и съедаемого дозированно. Ибо велика была вероятность того, что съедят его зараз, если вовремя не уследить. И этого обеда ждали все, не исключая Евграфа Соломоновича.
Серафима Ферапонтовна приносила с собой в огромную неуютную квартиру Декторов свой непередаваемый аромат – аромат сытости, тепла и довольства. Она и сама производила впечатление сытой, теплой и довольной женщины: невысокая, полная, переваливающаяся при ходьбе с ноги на ногу, широкобровая бабуся с неизменным в течение, наверное, всей жизни гребнем поперек седой стриженной под каре головы, она смотрела на всех своими дальнозоркими добрыми глазами и радовалась, что нужна им, этим молодым людям, которые без нее совершенно пропали бы с голоду и сгинули в беспорядке. А молодые люди между тем пользовались ее теплом и совершенно не задумывались, откуда оно берется в их доме. Им все казалось, что существует источник бесперебойного питания, дорогу к которому знает эта пожившая на свете женщина, и что источник этот не иссякнет никогда. Она просто помогала им жить, а они даже не догадывались об этом.
Евграф Соломонович рассыпался в интеллигентской иронии, столь же неуместной по отношению к Серафиме Ферапонтовне, сколь неуместна она была бы по отношению к сторожевой собаке, которая любит хозяина, даже не зная его имени. Валя, больше похожий на отца, чем Артем, тоже периодически заигрывал с бабушкой, но «лохматил» ее неумело, и не всегда шутки его были смешны. Настя казалась томно равнодушной и все грустила будто о давным-давно погибшей матери, сестре Серафимы Ферапонтовны, Васе, Василисе. На самом же деле, думается нам, Анастасия Леонидовна просто уставала, а усталость, если никто вас не разубеждает, легко принять за грусть. Один Артем смотрел на Серафиму Ферапонтовну большими тихими глазами и бывал задумчив. Он все накладывал мысленно черно-белый портрет бабушки, виденный им в ее квартире, на живой оригинал, стоявший перед глазами, и пробовал угадать динамику изменения этой родной ему женщины. Он вообще любил слово «динамика» и был философом, хотя сам себя таковым не считал.
Он единственный из всех звал бабушку бабушкой, а не Фимой.
Евграф Соломонович стоял и смотрел поверх очков, как Серафима Ферапонтовна выгружает из сумки употевшую голую курицу, застывшую навеки в предсмертной судороге и запакованную в целлофан; как она достает оттуда же пакет с картошкой, морковкой, помидорами и капустой; как хрустят в ее пальцах макароны. Он поймал себя на том, что на мгновение почти залюбовался сочетанием большой женской ладони и золотой луковицы, извлеченной Серафимой Ферапонтовной из глубин все той же сумки и рассматриваемой на предмет неожиданного изъяна. Да, эстетическое чувство ни разу не изменило Евграфу Дектору!
– Игратка! Здравствуй, милый! Я тут вот вкусненького вам принесла, ага. Ты возьми редиску, отнеси на кухню, я вам сейчас салатику нарежу. Валька с Темкой прийдут, поедят. Они это любят, ага. Эх! – Серафима Ферапонтовна прищурилась, смачно втянула в себя воздух и, улыбнувшись, потрясла головой. – Помню, прибегут со двора и давай кричать: баашка, баашка!!. а ты нам «ледиски» сделала?! А ты нам «гренков» пожарила?! Эх! Ага…
Евграф Соломонович в мгновение ока был нагружен огромным пакетом с редиской и отправлен на кухню. Серафима Ферапонтовна шла следом, тяжело преступая и продолжая разговаривать. За годы прогрессирующей глухоты она выработала привычку разговаривать как бы сама с собой. Нет, она не заговаривалась: просто вы, если были рядом, могли вступить в беседу или не вступить (это уж как сами захотите и сможете), но беседа от вашего в ней участия-неучастия не меняла своего предмета и текла так же плавно, как текут полноводные реки в пустынных местностях.
– А Валька-то, смотрю, совсем от рук отбился, хулиган! Настя приезжала и говорит мне, значит… говорит, тетя Фим, Валька мой совсем учебу забросил, домой к ночи приходит, молчит все. Только, думаю, лихая пронесла, слава тебе Господи, – Серафима Ферапонтовна наскоро перекрестила нос, – и тут те на, снова-здорово! Где Валька-то, Игратка, а? Уж, небось, не дома? А? Ага…
– Он в институте!!! У него фармацевтическая практика!! – Евграф Соломонович был готов к тому, что придется кричать, и закричал довольно громко. Но недостаточно.
– А? Где, говоришь?
– В институте!!!!! Он шьет гербарии!!!!!!
– Гербарии?
– Да, гербарии!!!!!
– Да врет он тебе все! – Серафима Ферапонтовна сделала недовольное лицо, – Знаю я эти их гербарии!
– Он днем шьет гербарии, а вечером провожает Нину!!!!! Нина далеко живет!!!!! – Евграф Соломонович чувствовал, что скоро голос его не выдержит и сорвется. – Он обещал сегодня быть не позже одиннадцати!!!!! – Прокричать длинную фразу одинаково громко на всех ее промежутках оказалось не так-то легко, и Евграф Соломонович вдруг осознал, что силы свои переоценил, и причем весьма солидно. – Он обещал вернуться!!!!
Тут кашель сдавил хрупкое горло Евграфа Соломоновича железной пятерней. Невольные слезы брызнули из глаз. Серафима Ферапонтовна замолчала и встревоженно посмотрела на зятя:
– Игратка, ты это… может, воды тебе дать? Или дай по спине постучу.
Большая рука Серафимы Ферапонтовны уже взмыла в воздух и зависла над рыдающим Евграфом Соломоновичем, когда он, бросив редиску в раковину, начал отчаянно жестикулировать – что, мол, не надо по мне стучать, и пить я совсем не хочу. Евграф Соломонович боялся таких моментов – моментов, когда он знал, что был фактически беспомощен, а ему хотели и могли помочь, но только совсем не так, как хотел он. Помощь была какой-то простой, неоригинальной и даже… грубой. Именно это слово не так давно нашел Евграф Соломонович для обозначения происходящего. Ну, скажем, тебе плохо, ты мучаешься, но мучаешься эдак изящно, эстетически, соблюдаешь определенный ритуал (в этом смысле головная боль – самое эстетически безупречное заболевание человечества), а тебе, во имя выздоровления, предлагают элементарно наплевать на всю красоту и эстетику и бороться с недугом сильно и некрасиво. Болит голова – выпей таблетку. И ведь тут кроется определенная трагедия медицины: лечение неадекватно заболеванию. Оно однозначней, бесчеловечней во славу высшей какой-то человечности и безразличнее к тому, кто, собственно говоря, болеет.
Одним словом, Евграфу Соломоновичу вот в такие минуты, как эта, казалось, что кто-то большой, сильный и не сворачиваемый с пути, как Серафима Ферапонтовна, у которой глухота была своего рода знаком хтонических великанских сил организма, – что кто-то такой придет и скрутит его в маленький бараний рожок. Со всей его, Евграфа Дектора, уникальностью и неповторимостью, со всем жеманством миросозерцания и изяществом проживаемой повседневности.
Евграф Соломонович начал постепенно приходить в себя. Каждый вздох уже не отдавался в груди жжением, и чувство было такое, точно вынырнул с глубины. Серафима Ферапонтовна стояла рядом и следила за двоюродным зятем с нескрываемым любопытством. Евграф Соломонович не выдержал и чихнул.
– Будь здоров, Игратка! – Она довольно сложила руки на груди. Ее поза свидетельствовала о наступлении порядка.
– Тетя Фима, я же просил вас не стоять у меня над душой, когда я кашляю! – Евграф Соломонович уже не скрывал раздражения. Он хотел было прополоскать горло и умыться, но увидел в раковине редиску, брошенную им же, отчего пришел в еще большее негодование. Серафима Ферапонтовна, Сашка и эта редиска совершенно разрушили план его дня. – Нельзя в этом доме даже руки спокойно помыть! Безобразие!
Евграф Соломонович сверкнул глазами в сторону двоюродной тещи, сжал свои хрупкие кулачки и энергичной походкой вышел из комнаты. За спиной он услышал:
– Играт, на обед будет свекольник. Я свежей свеклы купила. Такая хорошая!
Евграф Соломонович съязвил с особым удовольствием и даже сам этому немного удивился:
– Нет, тетя Фима! Я на свекольник решительно не согласен! Предпочитаю мясо мраморного быка! Буду только его. И белого вина, пожалуйста. – Он на секунду замер в ожидании реакции.
Серафима Ферапонтовна все так же ходила по кухне, раскладывая продукты по шкафам и холодильникам.
– Чего сердится, не понимаю!.. не поймешь их: все такие буржуи стали, что прям, куда деваться!.. – Она досадливо махнула рукой и тут же начала думать о другом.
Она легко скользила взглядом по всему, что окружало ее, и ни на чем не останавливалась долго. Все было ей интересно, но с годами в душе разрослось пышно дерево безразличия, сквозь ветви которого солнце любопытства пробивалось уже еле-еле. Хотя, надо сказать, она считала себя по-прежнему любопытной, упорно не желая замечать изменения в себе. И так же по-прежнему рассказывала всем – и новым, и старым знакомым, приходившим в ее дом или оказывавшимся поблизости волей случая, – рассказывала о годах работы в Минатоме, о Чернобыльской катастрофе и о военной молодости, проведенной в Казахстане, куда ее с интернатом эвакуировали в первый год войны. Верила она или нет в то, что ее рассказ был интересен, – она бы и сама себе не ответила на этот вопрос. Она просто рассказывала, потому что тот, кто реже слышит мир, старается, чтобы мир, по крайней мере, слышал его.
Любимым ругательством Серафимы Ферапонтовны было «буржуй». Продавцы в магазине итальянской сантехники на первом этаже ее дома были «буржуи» – потому что торговали никому не нужными ваннами и унитазами, вместо картошки и морковки, столь необходимых в районе, лишенном оптового рынка. В Беляево его не было. «Буржуями» были богатые одноклассники ее внучки и их родители, избалованные лишней бумажной наличностью и преимуществами, которые она давала. Некий Павлик – он был хорошо известен Евграфу Соломоновичу по тещиным застольным рассказам – стал в их семье нарицательным обозначением для богатого и безалаберного ребенка. И все они над ним смеялись и не любили его, хотя этот Павлик в действительности был обычным мальчиком, несколько более сытым и довольным, чем остальные дети, но в остальном – ребенок, каких тысячи, обожавший футбол и мороженое. А еще Павлик мечтал стать художником. Но никто не знал об этом.
Евграф Соломонович бывал «буржуем» редко и всякий раз по одному и тому же поводу – по поводу еды. Никак не могла понять Серафима Ферапонтовна его сложную натуру, которая есть в присутствии чужих не могла, да и в присутствии своих могла есть не все. Серафима Ферапонтовна считала, что все приготовленное за день должно быть съедено до захода солнца. И поэтому нередко можно было увидеть ее, сидевшую у окна в полумраке кухни и доедавшую суп прямо из кастрюли. Единственное, в чем Декторы и Заборейко (у Серафимы Ферапонтовны была фельетонная фамилия) были единомышленниками, – это вопрос темноты. Ни те, ни другие не терпели яркого света и вечерами ходили впотьмах, натыкаясь на мебель и дверные косяки.
Годы голода не прошли для Серафимы Ферапонтовны бесследно: еда была ценностью, чтимой превыше всего. А самой большой ценностью был хлеб, который Серафима Ферапонтовна могла есть батонами. Особенно – луковый. И с изюмом. Часто рвала его прямо руками, отчего Евграфа Соломоновича передергивало страшно, и запихивала кусками в почти беззубый рот. Тем не менее ела она едва ли не аппетитнее всех обычно присутствовавших за столом. Потому что уважала то, что ела.
Евграфа Соломоновича Серафима Ферапонтовна тоже уважала. Раздражительность склонна была считать признаком творческой натуры, неотъемлемой ее частью. Тайна писания для нее так и оставалась тайной.
Серафима Ферапонтовна начала священнодействовать над кастрюлей, а Евграф Соломонович, побродив по коридору, удалился к себе в кабинет. Каково же было его удивление, когда в кабинете он застал Сашку. Сашка его не заметила и продолжала начатое задолго до его прихода: она стояла на табуретке и по одной вынимала из шкафа книги. Вынимала, читала написанное на переплете и бережно ставила обратно. Ни одной книги она не отложила, ни одна ей не приглянулась. Евграф Соломнович хотел было обнаружить свое присутствие, но подумал и решил помедлить. Он наблюдал.
Сашка вытянулась вверх всем своим тельцем – тоненькие ножки и сытенький животик – и ковырнула пальчиком очередной томик в темно-зеленом бархатном переплете, когда Евграф Соломонович вдруг подал голос:
– Хочешь взять почитать чего-нибудь, Саш?
От неожиданности девочка выронила книгу, и та, отскочив от табуретки, упала навзничь обложкой. «Винни Пух и все, все, все» – прочел Евграф Соломонович потускневшие от времени буквы. «Любимому сыну Евграфу от отца в день его семилетия».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?