Текст книги "Тишина"
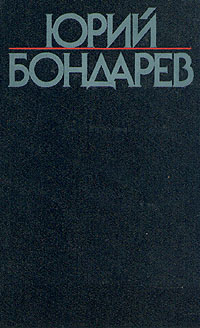
Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
4
В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».
В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома – томила бездейственная тишина зимних сумерек, – и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходившую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» – и эти почти привычные по интонации слова ее постоянно вызывали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он пальцами чувствовал Асину кисть в нагретой перчатке.
Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.
Метро весело-ярко пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в перспективе улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «Вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.
Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли они то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал короткие встречные взгляды – и, почти мучимый завистью, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»
– Костя! Дурачок, ты давно?
Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.
Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемоданчиком. Подбежала, глаза радостно засветились, взяла его под руку, воскликнула:
– Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой… чертик с рожками… даже не улыбнешься! Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.
Он улыбнулся ей.
– Ты хоть на жальчайший миллиметр любишь меня?
Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.
– Ну, если метрически… то на жальчайший километрик! Согласен? Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне будет приятно твое внимание. – И спросила чуть-чуть осуждающе: – Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?
– Я никак не мог тебя дождаться, Ася. – И сейчас же он добавил полушутливо: – Бывает, когда я не могу тебя дождаться.
– Не оправдался! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?
– Слушаюсь, – сказал Константин.
Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.
Рука Аси легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали плотно ощутимой и твердой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее тела рядом с собой, близкое ее дыхание. Он думал: «Любит ли она меня?» – и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя – тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке, эдакого знавшего виды опытного малого; ее – тонкую, в узком пальто и с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на себе и на Асе – и молчал против обыкновения.
Ася тронула его за рукав.
– Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?
– Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности.
– Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Особенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно – почему?
– Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?
– Кто – эти женщины?
– Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя – за десятиклассницу…
– Но у меня накрашены губы, – сказала Ася. – Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?
Он ответил опять полусерьезно:
– Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.
– Какой ты странный, Костя, бываешь!
Асина рука выскользнула из-под его локтя. Она, казалось, машинально сжала на железной ограде бульвара комок пухлого снега, задумчиво подержала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев.
– Костя, – негромко сказала она. – Ты веришь, что ты – мой муж? И что я – твоя жена? Веришь?
«Зачем она спросила это?» – подумал он и почувствовал, как стала неприятно горячей колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.
– Нет, Костя, ты ответь, – повторила она. – Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.
– Я?
– И я… – вполголоса проговорила Ася. – Я даже не представляю иногда: ты, Костя, – мой муж? – Она стояла перед ним, вся вытянувшись. – Прости, Костя, я никак не привыкну… А ты?..
– Да, – сказал он.
– Вот видишь, Костя, как все ужасно получается… Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются? Нет, нет, нет! – заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие. – Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой… потому что… потому что… ну ты понимаешь… А разве это должно быть? – Она смотрела ему в грудь, трогая пальцем его пуговицу. – Что-то не так, Костя. Я не умею… не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты… Почему это? Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура – и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?
– Да, – повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.
– Идем, а то на нас оглядываются, – сердито сказала Ася и взяла его под руку. – Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда смотрят.
Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю, – сразу изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он всегда опасался. Константин хотел заставить себя сказать просто и ясно то, что не стоит говорить об этом, что он не может и одного дня жить без нее и поэтому не имеет права обижаться.
Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горло:
– Ася… верь себе и делай, как ты хочешь…
– А ты? А ты? – с досадой перебила Ася. – Ты же старше меня, ты же мужчина… Объясни ты – я выслушаю все.
– Я сам не научусь быть мужем. И я виноват в этом.
– Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? – спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».
– Я? Да, – глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: – Ну а ты, Ася?
– Самое страшное, что я не знаю…
Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.
– Асенька, родная, это просто чепуха невероятная, – с натянутой улыбкой сказал Константин. – Дичь и чушь.
Она ответила нахмурясь:
– Нет, это неполноценность. Я чувствую… Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!
– Мы уже дома, – сказал Константин, испуганно как-то взглянув на ворота. – Я должен… Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас…
Он осторожно высвободил ее руку из-под локтя, повернулся и пошел назад, ожидая за своей спиной ее оклика, но не услышал. Дуло метельным холодком из темноты бульвара, а весь переулок был в чистой пороше, и отпечатались на ней свежие следы – его и Асины.
«Зачем она говорила это? Зачем?» – подумал он и без всякой цели зашагал к перекресткам, к огням в любой час оживленной Пятницкой, особенно узкой в этом месте, постоянно наполненной народом, уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.
Справа в глубине тихого и провинциального Вишняковского зачернела полуразрушенная церковка, проступала в звездном небе куполами, и уже с притупленной остротой мельком он вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Главное другое, вот что случилось!»
Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нити логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос: «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? „Не знаю“. Она сказала: „Не знаю“. Страшнее этого ничего нет! Пике… А стоит ли выводить машину из пике?»
Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И садняще щипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него течению толпы.
Да, все равно нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но ему надо было запастись. Обязательно купить.
На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик – не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный, – протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.
– Четыре «Примы».
– Костенька?..
Он взглянул. И без удивления узнал в продавщице розовощекую Шурочку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним, пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.
– Костенька, никак ты, золотце? – беря деньги красными пальцами, ахнула Шурочка. – Сколько я тебя не видела! Чего ж ты! Женился небось? И дети небось?..
– Привет, драгоценная женщина, вновь ты взошла на горизонте, солнышко ясное! – сказал Константин, рассовывая «Приму» по карманам, обрадованный этой встречей. – А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?
Они стояли у стойки, за его спиной шумели голоса.
– Да что ты, Костенька! – Шурочка прыснула, поднеся руку ко рту. – Да никакого мужа, что ты!.. Откуда? – сказала она со смешком, а брови ее неприятно свело, как от холода. – Пьяница только какой возьмет!
– Не ценишь себя, Шурочка. Ты – красивейшая женщина двадцатого столетия.
– Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки… Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!
Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но тут ему захотелось очень внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шурочке дружелюбно и отпил глоток пива.
– Все прекрасно, Шурочка, – сказал Константин. – Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи! Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского. – И он сам невольно усмехнулся, повторил: – На моей дурацкой голове.
Шурочка опять прыснула, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:
– Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!
– Хуже, Шурочка.
– Инженером небось стал?
– Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.
– Ах, какой ты! – не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерла стойку. – Водочки, может, а? – И наклонилась к нему через стойку, виновато добавила: – Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. За углом. Одна я…
– Александра Ивановна!
Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива, из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой; белела кайма пены на толстом стекле.
– Александра Ивановна, еще одну разрешите? – В голосе была бархатная приятность, умиление; бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбчивы. – Еще… если разрешите…
Шурочка не без раздражения подставила кружку под струю пива, потом подтолкнула кружку к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на пену.
– Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво. – Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.
– Кто это? – спросил Константин.
– Да не знаю, противный какой-то, – шепотом ответила Шурочка, наморщив брови. – Целыми днями тут торчит. – И договорила по-прежнему виновато; – Может, придешь, Костенька, а?
Константин грустно потрепал ее по щеке.
– Я однолюб, Шурочка. К сожалению.
– Ох, Костенька, одна ведь я, совсем одна…
– Рад был тебя видеть, Шурочка.
С треском дверей, с топотом вошла в закусочную компания молодых парней в каскетках и обляпанных глиной резиновых сапогах – видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, спинами загородили ее, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она еще искала глазами Константина, передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей:
– Привет, Шурочка! Всех тебе благ!
Константин вышел из закусочной – из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров, – жадно вдохнул щекочущий горло воздух, зашагал по Климентовскому.
Пятницкая с ее огнями, витринами, дребезжанием трамваев, беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.
Климентовский был тих, весь покоен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.
Он двинулся по улице – руки в карманах, воротник поднят, шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться, знал: домой он не пойдет сейчас.
«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную, – думал он, пряча подбородок в воротник. – Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель… И все было бы как надо. Но все ли?»
– Все спешат, все спешат… Бутафория!
Впереди за углом дровяного склада, против уличного зеркала закрытой парикмахерской покачивался с пьяным бормотанием черный силуэт человека – он делал что-то, нелепо двигая локтями; похрустывал под его ботинками снег.
– Салют! – сказал Константин. – Вы, кажется, что-то ищете?
Человек этот, неверными движениями поправляя шляпу, вглядывался в зеркало, почти касаясь его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:
– Ш-шля-ппа – это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутафория! – И качнулся к Константину в клоунском поклоне, едва устоял на ногах. – Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад…
Лицо было властное, бритое, темнели мешки под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.
– Все спешили домой, к очагам и чадам… В объятия усталых жен, – заговорил человек. – В домашней постели в любовной судороге забыться до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория… Трусость! Философия кротов!.. – Он горько засмеялся, все лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало.
Константин сказал:
– Банальный конец.
– Как вы?.. – внимательно спросил человек.
– У всех бывали банальные концы, – ответил Константин. – Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю из чувства товарищества.
– Где я живу, – забормотал человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи. – На земле… Частичка природы, познающая самое себя. Когито эрго сум! Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена… Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал…
– Кто? – спросил Константин.
– Человек. Профессор Михайлов. Он… Один из всего ученого совета… Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов… А мы… мы предали его. Человека… Мы молчали… Во имя собственной безопасности. Мразь! Отвратительные животные. Молча похоронили светило с мировым именем. А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании… вы… лжец, карьерист и догматик!» А мы… не смогли…
– Какого же черта? – пожал плечами Константин. – А впрочем, ясно. Идемте, я вас провожу.
– Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновений мнений. Есть, мягко говоря, директива.
– Где ваш дом? Застегнитесь хотя бы.
– Простите, я дойду сам… Я должен дойти, – запротестовал человек и начал искать на пальто пуговицы. – Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра… Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я…
– Дойдете? – прерывая, спросил Константин.
Его раздражали вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.
– Бут-тафория, – выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая: – Мы не интеллигенты, нет!.. Мы не интеллигенты. Мы не представители науки. Мы не соль земли. Мы не разум народа. Мы попугаи. Комплекс бутафории!
Константин смотрел на него удивленно: человек неожиданно вцепился в рукав Константина, прижал трясущуюся голову к его плечу – запахло одеколоном.
– Знаете, – Константин со злостью отстранился. – Что я вам – жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще… разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили тут, и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ! – Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.
На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью, снова подумал с тоской: «Ася, Ася. Что же?»
Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипели шаги, у освещенных подъездов вокзала звучали голоса носильщиков, под вызвездившим небом разносились мощные-гудки паровозов. И он не находил в себе сил встать, идти домой.
5
В коридоре не горел свет. Константин в нерешительности постоял перед дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел и так тихо опустился на диван, что пружины не скрипнули.
Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, и поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настороженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.
Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина стояла во всем доме, и он слышал однообразный стук капель в раковине на кухне.
Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о том разговоре около метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом, о том пьяном человеке, яростно топтавшем свою шляпу возле парикмахерской, но все это ускользало куда-то, заслонялось пустынной площадью, квадратным низеньким человеком, его сильным курносым лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом, – и Константин сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то, стукнув, упало на пол, и с мгновенно кольнувшим испугом подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана…
– «Вальтер»… – прошептал он и круто перегнулся на диване, ткнулся пальцами в пол и сразу увидел пепельницу, опрокинутую, блестевшую круглым донышком на полу.
И уже облегченно вытянулся, положил руку на грудь, в ладонь его туго ударяло сердце.
– Костя? – послышался Асин голос.
Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый сквозь закрытые веки свет ночника колыхался волнами.
– Костя… ты не спишь?..
Он не ответил и не открывал глаз.
– Костя… – Шаги, легкое движение рядом.
Красный свет ночника стал темным – и Константин ощутил возле подбородка осторожный мятный холодок поцелуя, дыхание на щеке; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.
– Ты только ничего не говори, – попросил он.
– Костя… очень злишься на меня? – прошептала Ася и тихонько прикоснулась щекой к его виску. – Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!
– Асенька, обними меня. И – больше ничего.
– Костя, ты знаешь почему?
– Что?
– То, что будет…
Разомкнул веки – увидел близко ее неспокойно поднятые полоски бровей, ее оголенную шею и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.
– Я боюсь этого… Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.
– Асенька, но ты же врач… Ты должна знать. У тебя перестраивается организм. Я это сам читал в твоем справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.
– …Перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной он.
– У тебя ничего не заметно, Ася… у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.
– Мне просто иногда страшно. За него. Очень.
– Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово – все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.
– Зачем ты это говоришь?
– Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.
Ася легла рядом, легонько прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:
– Я полежу просто так.
– Да. У тебя холодный нос, девочка.
– Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками. Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?
– Нет.
– У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?
– Нет.
Он приподнялся на локте и долго, задерживая дыхание, разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут – он поразился этому.
– Асенька, – шепотом проговорил Константин, – ты когда-нибудь чувствуешь, что ты…
– Дурак ты мой, – сказала Ася, – ужасный…
Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.
– Потуши свет, – попросила она. – Я тебя прошу.
Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, радостный ощущением ясного и теплого утра, которое должно было быть в комнате, и, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков на улице, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипыванием рассохшегося паркета от движений Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за стены – передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от совсем весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.
Была приоткрыта форточка над диваном, – едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загораживая низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окном плюхающие удары.
– Ася! – громко позвал Константин, потягиваясь. – Асенька, весна, что ли? Как там у классиков? «Весна берет свои права…» Нет, эти классики – ребята молодцы!
А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, возле тумбочки с телефоном стояла Ася, в строгом рабочем костюме, который надевала в поликлинику, теребила провод, говорила удивленным голосом:
– Да откуда вы, говорите? Не нужно звонить – просто заходите… Опять твой Михеев, – сказала она, вешая трубку. – Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что – стеснительный такой?
– Асенька, – проговорил Константин. – Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный – Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?
– Я уже к нему привыкла вчера, – сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо. – Я все же дождусь его… этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?
– Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек. Правда, Кембридж не кончал.
Константин, уже одетый, только не застегнута была байковая домашняя ковбойка, подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.
– Ася, я могу поклясться… Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.
Звонок дернулся в коридоре, затрещал и смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» – и откашливание, топот, и в вопросительном сопровождении Аси Михеев – в бараньем полушубке, шапка на голове – медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, вприщур озирая стены.
– Здоров, Константин. В постелях валялся?
– Привет, Илюша, – сказал Константин. – Поздравляю.
– С чем это?
– С весенней погодкой.
– Какая там весна! Закрутит еще. – Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда. – Извиняюсь, с вами это я по телефону?
– Да. Раздевайтесь и садитесь, – сказала Ася. – Давайте я повешу ваши полушубок и шапку.
– Да нет. Мне, значит… вот, – хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку, вытер ею лоб. – Разговор… Промежду мною и вашим мужем.
Ася, отвернувшись, сказала:
– Ну, хорошо. Я пошла, Костя, не провожай.
– До свидания, Ася. Я буду встречать.
И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев, все стоя, переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.
– Культурно живешь, – проговорил наконец Михеев. – Чисто, книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Нерусская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Нерусская, так?
– Француженка, – сказал Константин. – Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!
– Ладно уж…
Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая осматривать мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках около дивана, поерзал на стуле.
– Если б я женился, покрепче женщину взял, – сказал он завистливым голосом. – Былинка больно – жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные – аза-артные! – И он вроде бы улыбнулся, на миг показав зубы. – Говорят. Я сам это дело не уважаю.
– А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию, – насмешливо проговорил Константин. – Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.
И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил:
– Что новенького скажешь, Илюшенька?
Михеев притиснул рукой шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина:
– Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакали…
– Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «Старка».
Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.
– Не пью я. Завтракал. – И переспросил угрюмо: – Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист, деньги сдал. Курю. Глядь – начальник колонны выходит. И директор парка. Чего-то говорят. У директора рожа – что вон эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «Победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» – «Нет», – говорю.
– А дальше?
– А что – «дальше»! – вскрикнул Михеев, захлебываясь. – Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было, дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?
Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу, потом вытянул указательный палец.
– Из этого можно стрелять, Илюша?
– Оп-пять двадцать пять! – с горечью выкрикнул Михеев. – Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уже за дурака считаешь?
– Думай что хочешь, Илюша, – сказал Константин. – Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну сплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?
– А за что меня избивать? Не за что меня избивать!..
– Да неважно «за что», дьявол бы драл! – Константин вскипел. – Ладно, все это некстати! Не о том говорим!
Он замолк, уже внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно – веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.
– Политика ведь это, – проговорил Михеев. – А знаешь, как сейчас… Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его – цоп! – и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают…
– Какая пушка, Илюша? – перебил спокойно Константин. – О чем ты?
Михеев потискал шапку на колене, наклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо:
– Политика это. Тебе, может, трын-трава, а мне – как же?
– Ты здесь ни при чем, Илюша, – сказал Константин. – Если что – отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не видел. Никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу – присоединяйся! Бутерброд сделать?
– Аппетиту нет, – простонал Михеев. – В горло не лезет.
– Заранее объявляешь голодовку? – Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд. – Тебе не пришлось воевать, Илюша?
– Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.
– Так или иначе. Артподготовки нет – сиди поплевывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял – половины башки недосчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.
– Пропаду я с тобой, – проговорил Михеев. – Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек! – Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина. – Вот сидит… и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь! – Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил: – А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки, что ли?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































