Текст книги "Ермо"
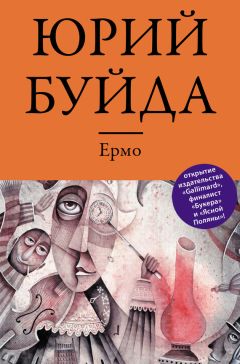
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Спальня, столовая, кабинет, он же маленькая картинная галерея и библиотека, – вот места, где он бывал ежедневно. С каждым годом он занимал все меньше места в этом доме. В свой кабинет он мало-помалу перетащил все, что представляло для него какую-то ценность. Единственное, что осталось на своем месте, – чаша. Чаша Дандоло – под таким названием она числилась в каталоге Джелли. Ради нее старик отважно проделывал неблизкий путь – спускался во второй этаж, пересекал бескрайнее поле паркета, над которым, в вышине, угрожающе нависала сужающаяся люстрища с массой хрустальных висюлек, и уединялся в комнатке с высоким потолком, где вот уже сто – или двести, или триста – лет на столике перед старинным зеркалом стояла чаша Дандоло. Свидания с нею бывали не каждый день. Иногда, уже дойдя до двери заветной комнатки, он вдруг передумывал и возвращался в кабинет. Что-то должно было случиться, чтобы час-другой наедине с чашей стал полно прожитым временем.
«Вещи нужно проживать так же тщательно, как мы пережевываем пищу, – лишь тогда они станут необходимой частью человеческой жизни, а не банальным антуражем, скрашивающим путешествие в ад» – эти слова произносит герой «Als Ob», явный alter ego Георгия Ермо-Николаева. Чашу он проживал трепетно, жадно, эгоистично. Он смаковал ее, как хороший коньяк или женщину.
Туристов не водили в ту часть дома, где находилась «светелка» хозяина – так он называл свой кабинет-галерею-библиотеку, где обычно уединялся после завтрака.
Фрэнк приносил сюда чашку очень крепкого кофе – с кофеином, разумеется, – чтобы чарующий и запретный запах смешался с запахом старых книг и дымившейся в пепельнице сигары, к которой старик не прикасался и которую для него раскуривал тот же Фрэнк. Да-да, только – обонять, жадно вбирать запахи чуткими ноздрями, не смея пригубить или затянуться, – все, что ему оставалось.
Книги, картины, запахи, воспоминания… Жизнь Als Ob – ничем не хуже иной жизни.
Картин было немного. Стоило покинуть кресло, где он обычно читал – спиной к окну, к висевшим в простенках гравюрам с видами Венеции, – и перейти на маленький кожаный диван, на котором так приятно сидеть развалясь, – и все полотна оказывались перед глазами.
Чуть в стороне – икона с чудом Георгия Храброго о змие. Святой покровитель рода, чьи деяния известны более Богу, чем людям, как выразился папа Геласий. Джерджис арабов, Кедер мусульман, Егорий русских. Прянувший белый конь, плоский и безротый, с глазом, напоминающим немытую сливу. Всадник в лазоревом, золотом и зеленом. Рыжевато-каштановые волосы, отстраненно-задумчивый взор, тонкий греческий нос, женственные губы, мягкий и чуть отвислый подбородок. Крохотная правая ножка-уродка. Маленькие ручки – левой натягивает повод, правой – вытягивает из пасти змия нитевидное копье. Волнисто-чешуйчатый хвост змия кончиком еще в пещере. Страшные когти и жалкие перепончатые крылышки доисторического аэроплана. Красивый и печальный женский глаз на лисьей морде. Безвольно разинутая пасть с узким языком-пламенем. Схватка добра и зла на фоне алого неба русской истории.
Первый в ряду портретов – парсуна князя Данилы Романовича Ермо-Николаева, выполненная на иконной доске. Грузный мужчина в меховой шапке и шитой золотом одежде. Голубоватые белки выкаченных глаз, светло-коричневая радужка, красная точка в слезнице. Друг князя Голицына и царевны Софьи, астролог, чернокнижник, поэт, в девяностолетнем возрасте – один из вдохновителей стрелецкого мятежа против Петра Великого. Его старший сын Василий написал книгу «Проскинитарий, хождение старца Максима Ерма во Иерусалим и в прочие святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов», которая стала оружием в руках старообрядцев в борьбе с никонианами. Собрав полторы тысячи единоверцев, заперся в лесном скиту и сжегся с ними при приближении царских войск, дабы не даться в руки дьявола в образе великого кота – Петра Великого.
Его сын Андрей – парадокс эпохи – стал сенатором, дипломатом, участвовал в подготовке Нейштадтского мира со Швецией, у гроба Петра стоял по левую руку – в черном панцире, с обнаженным мечом в руках.
Правнук этого Ермо – друг Пестеля, любимец Кутузова, под Бородином шесть раз лично водил свой полк в штыковую атаку, дважды ранен под Лейпцигом – руководил арестами декабристов. Но их портреты не сохранились. Только мундир лейпцигского героя – в гардеробе Лизаветы Никитичны.
Три портрета удалось вывезти дяде.
На первом во весь рост изображен молодой человек в широкополой шляпе, с тросточкой, обвитой цветущими розами. Насмешливый взгляд устремлен вдаль, поверх зрителя. Хлыщ с шелковой ленточкой на жилете: во времена Теофиля Готье среди парижских щеголей считалось хорошим тоном носить на такой тесемке в жилетном кармашке квитанцию из ломбарда, где были заложены часы. Умер в больнице для бедных, промотав все свое состояние, но наотрез отказался воспользоваться помощью родственников, для чего нужно было вернуться в Россию: «Лучше быть нищим в жизни, чем боярином – в сновидениях».
Его сосед по галерее – лейб-гвардии полковник граф Ермо-Николаев, резидент русской разведки во Франции времен Наполеона Бонапарта. Любимец парижского света. Несколько лет он умело водил за нос ищеек Фуше. Однажды, возвращаясь с приема у Жозефины, он спас из горящего дома молодую женщину и ее крошечную дочку: в блестящем придворном мундире, с лентами и орденами, в золотых эполетах – не раздумывая ринулся в пламя и вынырнул невредимым с очаровательной дамой в пеньюаре на руках. Лев. Накануне войны двенадцатого года ему пришлось спешно покинуть Париж. В предотъездной суматохе он сжег все свои бумаги – камин был до дымохода завален пеплом, но одно письмо забилось под ковер – оно-то и вывело французскую полицию на осведомителей Ермо при дворе и в военном ведомстве. По возвращении в Петербург он был обласкан, пожалован генералом и графским титулом.
Наконец – сенатор Ермо-Николаев, усмиритель Западного края, – вот он, сухой старчище с геометрически правильным лицом, подпертым высоким шитым воротником, с лентой и звездой Андрея Первозванного. Удалившись на покой, взялся переписывать родословную: отрицая татарское происхождение семьи, возводил историю рода к одному из семидесяти апостолов – по его мнению, тот был далматинским епископом (хотя далматинского епископа звали Ермом; апостол же, ученик Павла, был епископом в Филиппополе). Как однажды выразился дядя, сенатор «ерманулся» на истории семьи.
Брат сенатора стал министром юстиции, в память от него осталась деревянная шишечка, украшавшая лестницу в загородном имении и сбитая выстрелом террориста, целившего в министра.
По прихоти судьбы старик носил то же имя, что и эти мужчины, взиравшие на него со стены. Он втягивал запахи кофе и табака, уже не смея ни пригубить, ни затянуться, – их судьбы были для него сродни этим запахам. Они были портретами, всего лишь изображениями, которые не отбрасывали тени в его жизнь.
Отдельно от них, между книжными шкафами, запертая в нелепую тяжелую золоченую раму, жила Софья – в бело-розовом воздушном платье, полуобернувшаяся на бегу, задыхающаяся, с разметавшимися рыжеватыми волосами и удивленными голубыми глазищами – казалось, вот-вот спрыгнет на пол и быстро-быстро проговорит: «О, Джордж, пожалуйста, стакан оранжада – не то я умру! умру!»
Давным-давно он велел перенести этот портрет в свой кабинет – из огромного холодного зала с темными углами, где она мерзла в компании с дамами, чьи резко очерченные породистые скулы и безжизненные губы навевали мысли о рыбной лавке.
Жизнь – это картины, шишечка, запахи, тетушкин гардероб, тень сирени, мятущаяся под ветром, бело-розовая женщина с рыжими кудрями и красивыми кривыми ногами, с задыхающимся голосом: «Умру! умру!..»
Тени, звуки и отзвуки, призраки, видения…
И чаша, конечно.
Впервые он увидел ее лишь на исходе второго года жизни в этом доме. Случайно заглянул в маленькую комнатку, удивившую его тогда своей странной формой – прямоугольный треугольник, одним катетом которого была стена, отделявшая комнату от зала, а другим – внешняя стена дома. Кресло, шахматный столик, в центре которого стояла чаша, и высокое старинное зеркало, в котором чаша отражалась.
«Ее не трогали лет сто, – сказала хозяйка. – Или триста».
Сто лет – или триста – она отражалась в этом зеркале. Серебряный потир без украшений, лишь ободок с полустертой надписью на неизвестном языке. Добыча Дандоло.
«Быть может, это легенда. Дожу приписывают немало такого, чего он не совершал…»
Энрико Дандоло принадлежал к одному из двенадцати семейств, учредивших в 697 году должность дожа, когда разрозненные поселения объединились в Венецию. Он был послом в Византии, где по приказу императора Мануила был ослеплен, после чего с позором изгнан. В 1192 году слепой восьмидесятилетний старик становится дожем. Искусно нейтрализовав притязавших на Венецию Гогенштауфенов и папу Иннокентия III, он победил Геную и Пизу в борьбе за рынки Адриатики и Леванта, вынудил рыцарей, участников Четвертого крестового похода, захватить для Венеции далматинское и албанское побережья и Ионические острова, а затем – в 1203 и 1204 годах – взять и разграбить Константинополь. Дандоло вывез из Византии огромную добычу и фактически подчинил себе Латинскую империю. Он умер в 1205 году в Царьграде, где некогда был унижен и ослеплен. Наверное, он сожалел, что не может видеть дела рук своих, но, быть может, воображение его было богаче действительности: свой страшный сон он превратил в жалкую судьбу Византии.
По преданию, серебряный потир, оказавшийся в доме Сансеверино, был вывезен из константинопольского храма Святой Софии. Чаша Дандоло. Ермо называл ее чашей Софьи.
Ключ от треугольной комнатки он не доверял никому, даже Фрэнку. Иногда на него находило, и он среди ночи вскакивал и отправлялся на свидание, волнуясь и сжимая ключ в кармане халата. Он ступал осторожно, чтобы не разбудить прислугу. Слабо освещенный дом казался огромным аквариумом, в глубинах которого дремали чудовища. Дверь в зал открывалась бесшумно, но вот старый паркет поскрипывал, словно молодой лед. Громко – смазывай не смазывай – щелкал замок, с хрустом перемалывая ключ. Наконец с шипением загоралась спичка, лихорадочно выхватывая из темноты и удваивая в зеркале обрывок руки, низ лица, чашу, подсвечник. Рядом с шахматным столиком всегда стояла бутылка-другая и стакан. Налив вина, он вытягивался во весь рост со скрещенными ногами в низком кресле, закуривал. Здесь можно было просто спокойно посидеть, ни о чем не думая.
Да, о чаше было необязательно думать. Рано или поздно она сама собой вплывала сначала в поле зрения, а затем и в мысли, словно пытаясь придать всему свою форму, и всякий раз он с усмешкой вспоминал Аристотеля: через искусство возникает то, форма чего находится в душе. Чаша стояла точно в центре мраморной шахматной доски, врезанной в столик, – единственная уцелевшая фигура некоей игры, о которой он ничего не ведал – ни о ее правилах, ни о сюжете, ни, наконец, о результате. Да и об игроках ему ничего не было известно.
Кончиками пальцев он касался холодного серебряного бока, легко пробегал по полустертой надписи на ободке. На каком языке? Быть может, на том самом, на котором он говорил, изумляя и пугая близких, пока его не крестили?
Он дорожил часами, проведенными наедине с чашей. И вовсе не потому, что, как считалось, там он обдумывал нечто важное, – нет. Временами ему казалось, что в треугольной комнатке он освобождается от всяких мыслей, то есть от всего, что принято называть мыслями, и это-то и вызывало чувство, родственное счастью. Да, там он счастливо опустевал, не задумываясь, хорошо это или плохо.
Ни Бунин, ни Набоков никогда не заводили своего дома в эмиграции, оба были бездомны, оба – каждый по-своему – жили между небом и землей. Автор «Темных аллей» и не желал «прирастать к чужбине», дышал Россией и только ею; создатель «Лолиты», быть может, и хотел бы врасти, но не смог и превратил эту невозможность в стиль, слабость – в силу.
У Ермо был дом.
По прихоти судьбы его дом в Нью-Сэйлеме принадлежал людям, жившим между небом и землей. Их души были поглощены Россией. Дядины всадники мчались по русским ковыльным степям. Когда началась война, когда Гитлер напал на Россию, Николай Павлович уже не мог думать ни о чем другом. «Сталин довел дело Петра до конца, – говорил он. – Он достроил Дом, скрепив камни кровью. Но не ему жить в этом Доме, не ему: зло должно войти в мир, но горе тому, через кого оно войдет. И рано или поздно жильцы проклянут его, даже, быть может, попытаются разрушить им созданное, и только убедившись, что это невозможно, поймут также, что дело не в камнях и, как ни чудовищно это звучит, не в крови, не в слезинке ребенка самих по себе, – как и всегда, все упирается в самих жильцов, в их умение или неумение жить. Самое трудное для русских – почувствовать себя русскими, понять, что значит быть русским. Еврей – это Завет и Храм, а что такое русский? Особенно после того, как большевики уничтожили саму почву, из которой росла прежняя жизнь, прежняя вера… У нас остался только язык».
Да, в отличие от них у него был дом. Он видел его в детских снах, он являлся ему кусочками, частями, постепенно выстраиваясь – камень за камнем, колонна к колонне – и обретая завершенность. Тяжеловатый фасад, высокий фронтон, галереи, вода у стены, немного захламленный, но уютный внутренний дворик. Спасаясь от Белого Карлика, от страшного матушкиного носа с красными пятнышками – следами от пенсне, он научился занимать сны строительством огромного, бесконечного дома. Поначалу удавалось увидеть только фасад, стены, фронтоны, он никак не мог проникнуть внутрь, но однажды со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворились золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, звездами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и он вошел под арку – во внутренний дворик, в глубине которого смутно белела каменная крылатая фигура, поднялся по неосвещенной лестнице и очутился в зале с трескучим, как молодой лед, паркетом, чудовищной люстрой с тыщами хрустальных висюлек, с ветвящимися коридорами, украшенными лепниной и голубыми и розовыми цветами человеческих тел, с каминами, часами, греческой бронзой, звуками и запахами, потаенно зреющей жизнью, сочащейся воспоминаниями и любовью…
Со свечою в руке он исследовал этот бесконечный дом, такой огромный, что пространство неизбежно превращалось здесь во время, в прошлое можно было спуститься по черной лестнице, а в зале с напольными часами угнездился восьмой день недели, – лестницы, переходы, галереи, коридоры, комнаты, залы, каморки, мальконфоры, тени, под тяжестью которых проседали полы. Здесь можно было спрятаться от Белого Карлика.
Тогда он не знал, что ищет. Просто чувствовал, что в доме есть что-то такое, что влечет его по коридорам и залам, заставляя искать себя. Что это было? Кто? Человек? Вещь? Тень? Сон?
Первым обнаружился человек. Женщина. Оказалось, что она живет в этом доме. У нее было имя – Лиз ди Сансеверино. Молода, красива и несчастна. Не мог же Георгий не откликнуться на зов Елизаветы. Он и откликнулся.
Их познакомил Джо Валлентайн-младший, занимавший тогда важный пост в информационной службе при генерале Эйзенхауэре: «Очаровательная и несчастная итальянка, Джордж. Владелица совершенно очаровательного домика на берегу вонючего канала. Но это же Венеция, черт возьми, здесь все воняет красотой и историей. Наверное, они даже испражняются историей, как евреи».
Основательно продегустировав только что прибывшую из Штатов партию бурбона и прихватив пару бутылок с собой, они отправились в гости к госпоже ди Сансеверино.
Машина с трудом пробиралась по этим чертовым calli, шофер с перекошенным лицом взмок от напряжения, лавируя между корзинами, итальянками и их детьми. На площади перед дворцом Сансеверино он наконец перевел дух и обернулся к пассажирам.
Ермо утратил дар речи, увидев перед собой этот дом. Дом, где столько лет он прятался от Белого Карлика. Он узнавал трещинки и выбоинки на фасаде, фигурки на фронтоне, ворота под аркой, водоросли, махристо колыхавшиеся в грязной воде…
«Ничего особенного, – пожал плечами Джо. – Это скорее Рим или Флоренция. Настоящая Венеция – это Тревизан или Пападополи… или что-нибудь более раннее… готика без истерического спиритуализма… и что-нибудь восточное… Представляешь? Готика с мусульманским акцентом!»
Джордж кивнул. Да. Может быть.
Джо потянул его за рукав.
«Нас ждут, Джордж».
Ему хотелось зажмуриться: внутри все было так, как он задумывал и строил в своих сновидениях. Лестницы, залы, коридоры. Ну, разве что он не позаботился по-настоящему о картинах и скульптурах. И, конечно же, он не мог вообразить эту женщину, которая мягко скользила вниз по широченной лестнице, окутанная сероватым блескучим шелком. Синьора ди Сансеверино. Лиз.
Захваченный своими переживаниями, он поначалу не очень внимательно вслушивался в то, что она говорила, – хотя ему сразу понравилась музыка ее разжиженного английского. Он машинально кивал и улыбался. Прекрасна, как змея. Шелк, блеск, свет, легкость, light, и эти глаза… турчанка… скажи он ей или Джо, что построил этот дом давным-давно в нью-сэйлемских сновидениях, они с полным правом примут его за сумасшедшего. Впрочем, разве обязан он кому-нибудь рассказывать об этом? Его язык невнятен и ему самому – спасает речь, доступная пониманию. Мысль изреченная есть ложь. Нас порождает дух, но жизнь дает нам буква. Ему еще предстоит запечатлеть все это на бумаге. А пока…
«Быть может, вина? – Лиз смотрела на него, чуть склонив гладко причесанную голову набок. – Или коньяк?»
«Спасибо. Кажется, я не расслышал… то есть не слушал… простите…»
Они переглянулись.
Джо плеснул в стаканы виски.
«Как насчет капельки кентуккийского самогона, синьора?»
Муж синьоры – Джанкарло ди Сансеверино – принадлежал к старинной патрицианской семье: венецианские Будденброки, аристократы злата, веками занимавшиеся торговлей и морскими перевозками. Возможно, его предки были среди тех венецианцев, которые выдаивали денежки из крестоносцев, доставляя паломников на своих судах в Палестину. Графский титул предки получили от австрийцев. Джанкарло был богат и независим: принадлежавшие ему торговые и пассажирские суда приносили немалую прибыль. Он был патриотом и романтиком – ничего удивительного, что он оказался среди интеллигентов, захваченных фашистским подъемом. Великая Италия, наследие Римской империи… Конечно же, мы должны отдавать себе отчет в различиях между немецкими фашистами и итальянскими фашио: последние все же сохраняли дистанцию между собой и идеологией, хотя, разумеется, от этого черт не переставал быть чертом.
Однажды к Джанкарло ди Сансеверино обратились друзья с просьбой о помощи: им, немецким евреям, грозила гибель. Он помог не раздумывая. Ведь он был рыцарем и романтиком. Спасенные им люди направили к нему других несчастных.
Так началась эта странная история, в которой Джанкарло ди Сансеверино, друг Муссолини, выступал в роли защитника униженных и оскорбленных, помогая немецким и венгерским евреям уходить от преследования гестапо.
Вскоре сложилась целая сеть помощи. Агенты Сансеверино доставляли евреев в тайные сборные пункты, переправляли их в морские порты, откуда судами компании, принадлежавшей Джанкарло, они добирались до Африки и Палестины.
Операция была слишком масштабной, чтобы остаться незамеченной.
Один высокопоставленный друг Сансеверино предупредил его о возможных и, скорее всего, неизбежных последствиях «благотворительности». Джанкарло не внял предостережениям. Наверное, сыграла свою роль и женитьба на красавице Лиз, в которую он был страстно влюблен: она поддержала мужа в трудную минуту.
Вскоре, однако, разыгралась драма – германские войска оккупировали Италию. Друзья тотчас дали знать синьору Сансеверино, что ему с минуты на минуту предстоит встреча с гестапо. Скрыться было невозможно.
Убежденный итальянский фашист-романтик не ждал ничего хорошего от встречи с убежденными немецкими фашистами-рационалистами, которые, как он уже знал, готовились публично обвинить его в предательстве, в измене родине. Его, патриота, страстно мечтавшего о Великой Италии. Загнанный в угол, он покончил с собой. Юная Лиз стала вдовой.
«Но это бы еще полбеды, – проворчал Джо Валлентайн-младший, откупоривая вторую бутылку виски. – Обезумевшие от счастья левые затеяли судебное преследование Сансеверино как врагов Италии и пособников Муссолини. И ни одного свидетеля, готового выступить на стороне защиты. Кто затаился до лучших времен, кто убежал из страны, кто мертв…»
Он уже решил, что возьмется за это дело. Он понял, что судьба дает ему замечательный шанс, сулит волшебный приз. Эта история захватила его. Богатый фашист-романтик, спасающий людей от фашистов. Красавица жена. Любовь и ненависть, тайна и выбор…
«Что скажешь?» – спросил Джо.
«Синьора… – Ермо запнулся. – Могу ли я взглянуть на один женский портрет… я чувствую… то есть мне кажется, что он там, в зале…»
Она без слов поднялась. Он последовал за ней.
«Но эта картина не внесена в каталоги, – сказала она, когда они приблизились к полотну. – Как вы узнали… Это моя бабушка. Ее звали…»
«Софи, – вырвалось у него. – Софья».
Рыжие кудри, голубые глазищи, полуобернувшаяся на бегу, улыбающаяся, счастливо задыхающаяся…
«Софья, – кивнула Лиз. – Как вы догадались?»
Да он не догадался – знал. И понял, глядя на Лиз, что им еще не раз предстоит возвращаться к этому разговору, к этой картине, – будущее вдруг открылось ему со всеми его извивами, весь этот лабиринт, тонувший во тьме злотворной и непроницаемой, на мгновение вдруг осветился, и он проговорил:
«Я берусь за это дело, синьора».
«Лиз, – поправила она. – Просто – Лиз».
«Deal. – Он протянул ей руку. – И еще неизвестно, кому это нужнее».
Впоследствии в своей книге «Европейский рассвет» Джо Валлентайн-младший, рассказывая о «деле Сансеверино», скромно умолчал о том, каких трудов ему стоило побудить Джорджа приняться за это дело. И никакого противоречия тут нет. Да, Ермо принял решение помочь Лиз, но через два дня ему пришлось срочно вылететь в Америку: умер Николай Павлович Ермо-Николаев. Лизавета Никитична осталась одна (Ходню похоронили за год до конца войны). Ушел из жизни человек, так много значивший для Георгия, лишенного отцовской опеки.
Тогда-то Лизавета Никитична и попросила Георгия о том, чтобы он сберег семейные реликвии. Речь шла о нескольких картинах, тетушкином гардеробе и перстне с «еленевым» камнем (считалось, что это окаменевший глаз «еленя» – единорога, – он переходил из поколения в поколение по мужской линии семьи). Рукописи Николая Павловича были переданы в один приличный эмигрантский архив – за исключением тех, которые приобрела Библиотека конгресса. Лизавета Никитична приводила в порядок свои дела, словно предчувствовала смерть. Она умерла спустя четыре года, когда Джордж окончательно обосновался в Европе.
Он вернулся в Венецию, когда левая итальянская пресса развернула настоящую травлю Сансеверино. Была вытащена на свет и опубликована фотография, на которой были запечатлены молодые супруги с благословляющим их брак Муссолини. Лиз была близка к умопомешательству. Она твердила об уходе в монастырь как о решенном деле. Из слуг в доме остался один Франко, которого Джордж называл Фрэнком. За ужином Лиз слишком много пила. Она боялась выходить из дома. Джорджу приходилось прилагать немалые усилия, чтобы вечером вывести ее хотя бы на галерею. Через полчаса-час она приходила в себя и была способна поддерживать разговор.
Джо Валлентайн-младший считал, что Джорджу необходимо встретиться хотя бы с десятком людей, которые по поручению Джанкарло ди Сансеверино занимались переправкой евреев в Африку. Еще лучше – собрать и обнародовать свидетельские показания тех, кто благодаря Сансеверино спасся от гестапо. Этим и должен был заняться Ермо, тогда как Джо брал на себя американские газеты и журналы, которые нужно было заинтересовать этим необычным делом.
«Джордж, если мы расскажем пресную правду об этом несчастном фашио, просто восстановим ipsissima vox et ipsissima gesta синьора миллионера, это не вызовет интереса у читателей, поверь мне. С этим справится журналист-середняк. Но вывернуть его душу наизнанку, но живописать терзания фашиста, спасающего евреев, но рассказать об их злоключениях на пути из ада, но, наконец, вывести на сцену юную красавицу-жену… А сцена самоубийства? Джордж! Мне жаль, что я не писатель!»
Ермо потом признавался, что испытывал в те дни необыкновенный душевный подъем. Влияло ли на него присутствие Лиз, действовало ли обаяние Венеции, чувствовал ли он охотничий азарт – Бог весть. Он тормошил Лиз, чтобы выйти на след агентов Сансеверино и их подопечных, уточнял маршруты их движения по Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии и Италии, связывался с теми, кто мог бы помочь ему в розыске, – словом, он развил бурную деятельность, которая вскоре начала приносить плоды.
Джо Валлентайн-младший приводит цифры, способные поразить воображение: за пять месяцев неустанных поисков Джордж Ермо встретился с четырьмястами тридцатью двумя свидетелями, посетив двадцать четыре города в одиннадцати странах Европы, Африки и Азии.
«Я и не ожидал, что это будет так интересно, – говорил он впоследствии. – Да что там интересно! Захватывающе! Эти встречи перевернули мои представления о войне и людях».
Его друг Джо тоже не сидел без дела.
Когда Джордж передал ему первые три завершенных очерка о деле Сансеверино – война, страсть, страх, тайна, предательство и преданность, – Джо пустил в ход все свои связи, чтобы опубликовать их в самых престижных американских изданиях. Тщательно продуманная рекламная кампания принесла успех, «которого, конечно, было бы невозможно добиться, – тотчас уточняет Джо Валлентайн, – не будь у нас в руках такого превосходного материала, как репортажи Ермо».
Эти публикации вызвали реакцию в итальянской печати и привлекли внимание Пьетро Эрнини, крупного издателя, который тотчас предложил Джорджу выпустить книгу о Джанкарло Сансеверино в итальянском переводе. Эрнини не скрывал причин интереса к этой истории: превращение аристократа-негодяя в аристократа-героя могло повлиять на общественное мнение Италии в направлении, выгодном для тех, кого третировали за сотрудничество с Муссолини.
Четырнадцать репортажей, объединенных в книгу под названием «Бегство в Египет», вышли одновременно в Америке и Италии и стали бестселлером.
Важно отметить, что в те годы мир только-только начал узнавать правду о геноциде евреев, многие еще просто не представляли себе истинных масштабов Голокауста, – Ермо был одним из первых, кто привлек внимание к Катастрофе европейского еврейства.
Подлинным открытием стала противоречивая личность Джанкарло ди Сансеверино. Портрет же Лиз ди Сансеверино, тронувший сердца миллионов читательниц, приближается к лучшим страницам, созданным Ермо-художником.
Еще одной героиней книги стала Лаура Людеманн, с которой Джордж познакомился в ходе расследования. Молодая миланская журналистка, помогавшая ему в розыске свидетелей, принадлежала к старой еврейской семье, которую война, к счастью, не затронула: никто из ее родных и близких не пострадал. Увлекшись делом ди Сансеверино, она побывала в нацистских лагерях смерти, в том числе в Освенциме. Именно там она пережила страшное потрясение, побудившее ее покончить с собой. Перед смертью она написала Ермо: «У нас были Синай и Храм, но свет их померк в дыму Освенцима. После этого жизнь должна стать другой, но в этой другой жизни нет места для меня…» Что произошло в душе юной девушки? Почему она решилась на самоубийство? Ермо посчитал невозможным гадать о ее душевных переживаниях, но счел необходимым рассказать историю Лауры Людеманн в своей книге, и хотя эта история и не имела прямого отношения к главному сюжету, без нее, как сегодня очевидно, книга получилась бы иной.
Джордж Ермо чувствовал себя полным сил. Нам остается только удивляться его работоспособности. Параллельно со сбором материалов для «Бегства в Египет» он трудился сразу над двумя замыслами, и это были романы! Уже на следующий день после выхода в свет «Бегства…» он писал Джо Валлентайну-младшему: «Не пройдет и года, как я пришлю тебе огромную кипу измаранной бумаги, чтобы напомнить издателям, что писатель Ермо не умер, черт бы его подрал». Это были романы «Смерть факира» и «Путешествие в», принесшие ему славу и вызвавшие множество удивленно-восторженных отзывов.
Полтора года совместной борьбы за доброе имя Сансеверино не могли не сблизить Джорджа и Лиз. Вдова была молода и красива. Постепенно она стала тем человеком, которому Джордж мог доверить и сокровенные мысли. Он рассказывал Лиз о своей семье, о детстве, о Николае Павловиче и Лизавете Никитичне, наконец – о Софье, находя в Лиз внимательную и деликатную слушательницу, много пережившую и глубоко чувствующую. Она была поражена его рассказом о том, как он выстроил этот дом в своих сновидениях, и иногда они затевали игру: Джордж должен был выступать в роли гида по дворцу, руководствуясь лишь воспоминаниями детства: «Подчас мне кажется, что когда-нибудь я встречу здесь себя – тринадцатилетнего мальчика из Новой Англии. Писатель создает иллюзии, которые на поверку оказываются прочнее меди…»
Тогда-то Лиз и показала ему треугольную комнатку с зеркалом и чашей Дандоло. Чашей святой Софии. Чашей Софьи.
В тот день они на радостях выпили много шампанского, оба были возбуждены, радовались благополучному исходу дела Сансеверино, Лиз поставила на граммофон пластинку, они танцевали вальс в огромном пустом зале с угрожающе нависающей люстрой. Потом поднялись к ней и снова откупорили шампанское. Она велела ему отвернуться. Он засмеялся. «Но Лиз! Я же вижу тебя в зеркале!»
«Это – другое дело».
Зеркала могут лгать, но не тела.
Никто не удивился, когда Джордж Ермо переехал из гостиницы во дворец Сансеверино.
Хотя дело и завершилось благополучно, перенапряжение физических и душевных сил не прошло для Лиз бесследно. Она неохотно покидала дом и иногда даже поговаривала о том, чтобы навсегда покинуть Венецию, с которой ее «разлучают воспоминания». Поездка в Швейцарию или на Сицилию давалась ей легче, чем прогулка на Лидо. Вечера она предпочитала проводить дома, что, впрочем, устраивало и Джорджа, который целыми днями не выходил из-за письменного стола. Маршруты их прогулок по огромному дому выстраивались так, чтобы миновать залы и кабинет Джанкарло: Джордж немного ревновал Лиз к ее прошлому, а в залах чувствовал себя неуютно. В любую погоду они обязательно выбирались на галерею, с трех сторон опоясывавшую дом на уровне второго этажа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































