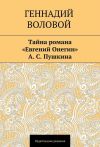Текст книги "Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений"

Автор книги: Юрий Чумаков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Впервые опубл.: Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999.
[Закрыть]
Движение пушкинского романа в стихах сквозь русскую, а теперь уже и мировую культуру совершается в широком спектре интерпретаций. Они ведут к обретению, приращению, сдвигам и утратам его смысла. Эти разноречивые последствия объясняются тем, что поэтические тексты, подобные «Евгению Онегину», не столько содержат заданный смысл, сколько неизменно генерируют его, являясь своего рода равноправным партнером в диалоге с читателем. Интерпретация, вообще говоря, – это извлечение информации из некоммуникабельных систем, и, следовательно, по определению, неизбежное восполнение текста новыми смыслами. На этом основании возникают поспешные утверждения, что вместо «Онегина» читатели со временем получают усредненный по смыслу метатекст, из-за чего, по мнению П. Вайля и А. Гениса, «прочесть „Евгения Онегина“ в наше время невозможно».[36]36
Вайль П., Генис А. Вместо «Онегина» // Звезда. 1991. № 7. С. 201.
[Закрыть] Мы полагаем, однако, что можно избежать превращения классического текста в культурное клише, периодически погружая его в пространство неопределенности, гипотез и модальностей.
Имея в виду это обстоятельство, мы намерены представить здесь обозрение различных типов интерпретации «Онегина». Оно не претендует на исчерпывающую полноту, будучи принципиально выборочным, тем более что итоговые обзоры по поводу пушкинского романа появились в сравнительно недавнее время. Нас привлекают прежде всего три-четыре последних десятилетия, но хотелось бы бросить беглый взгляд на важные предшествующие явления. Тогда станет понятным почти повсеместно наблюдаемое теперь тесное сращение интерпретации и поэтики «Онегина», так как описание композиционных структур романа в конечном итоге также является интерпретацией, которая к тому же направлена на самопорождающие устройства текста. Литературные источники будут рассмотрены здесь только в связи с интертекстуальностью «Онегина», зато обращается внимание на жанровую традицию романа в стихах, до сих пор находящуюся в тени.
Интерпретация «Евгения Онегина» ставит перед читателем—исследователем задачу особой сложности, которая заключается в учете и преодолении тройного барьера препятствий. Во-первых, «Онегин» – это исключительно компактный и в то же время многомерный и фрагментарный текст. Во-вторых, «Онегин» – это роман в стихах, который требует чтения вплотную к тексту, крупным планом, и препятствует общим рассуждениям на дистанции, так как они высвобождают идеологемы романа из их поэтической плоти. И наконец, в-третьих, основным содержанием «Онегина» является интерпретация его энигматического героя внутри самого романа, предпринятая Автором, Татьяной и читателями—персонажами, благодаря чему все наши прочтения поневоле оказываются метаинтерпретациями.
Истолкования романа начались уже во время его печатания по главам, и Д. Клейтон выделяет семь периодов его понимания вплоть до настоящего времени. В историческом срезе его описание безусловно справедливо, но здесь мы хотели бы подойти к вопросу преимущественно с его типологической стороны. В интерпретациях пушкинского романа отчетливо видны два типа, два направления, заданные самим текстом. Одно из них ищет исторических, социокультурных, поведенческих соответствий романа и жизни, другое во главу угла ставит поэтику, внутренний мир текста как таковой. Методологически они оба выступают как полярности, исключающие друг друга, но практически, как правило, комбинируются, попеременно доминируя и не достигая крайних точек. Наглядную картину противостояния двух направлений в интерпретации «Онегина» отразила антология «Russian Views of Pushkin's Eugene Onegin» (сост., пер. и коммент. S. Hoisington, Indiana Univ. Press, 1988). XIX век в ней означен именами Белинского, Писарева и Достоевского, XX – представляют Ю. Тынянов, М. Бахтин, Ю. Лотман и С. Бочаров. Разоблачительный памфлет Писарева не имел прямых последствий и, на наш взгляд, способствовал, в конечном итоге, возвышению «Онегина», выполнив функцию карнавального развенчания шедевра. Зато Белинский и Достоевский, опираясь на фабулу и рассматривая героев как живых людей, задали в оценочной парадигме «Онегина» социально-исторический и историософский сегменты, до сих пор направляющие восприятие романа.[37]37
Подробнее об этом см. в предыдущей главе на с. 41–43.
[Закрыть]
У второй группы исследователей в «Russian Views of Pushkin's Eugene Onegin» структурально-морфологические штудии (Ю. Тынянов, Ю. Лотман) пересекаются с феноменологическими (М. Бахтин, С. Бочаров). Но и те, и другие объединены общим предметом – поэтикой «Евгения Онегина». Теперь герои рассматриваются как персонажи, функции романного сюжета и композиции (Тынянов), роман – как многоуровневая структура (Лотман) или стилистический мир (Бочаров), как стечение и взаимоналожение речевых дискурсов персонажей (Бахтин). Все это настолько контрастирует с видением XIX века, что, казалось бы, можно говорить о полной несовместимости двух подходов. Так, например, смысл последнего свидания Онегина и Татьяны будет понят совершенно иначе, если его, в одном случае, строить из разрозненных сопоставлений с «действительностью» и просвечиваний текста на внеэстетических экранах, а в другом – собирать, не покидая литературного ряда, из взаимопреломления различных компонентов в средоточии имманентно-поэтической субстанции романа. Тем не менее оба подхода все-таки не исключают, а скорее дополняют друг друга, так как основания для их реализации зависят не только от смены научной парадигмы, но и присутствуют в самом тексте «Онегина». Корпус фрагментов из классических рассмотрений романа, представленный в названной нами антологии критики, свидетельствует об этом с полной очевидностью.
Интерпретации «Евгения Онегина», ориентированные на воспроизведение социально-исторических реалий пушкинской эпохи, держались со времени Белинского более ста лет, а парадигма восприятия романа при доминации поэтики начала быстро формироваться в России и других странах в самом конце 1950-х годов. Однако первый подступ к имманентному изучению «Онегина» состоялся за три с лишним десятилетия до этого, осуществленный блистательными деятелями морфологической (формальной) школы и их сторонниками (Ю. Тынянов, В. Шкловский, Л. Выготский и др.). Затем социологический подход, став официозным, снова возобладал. Мы опускаем в этом месте подробную характеристику гениальных описаний Тынянова, глубоко воспринятых современными пушкинистами всего мира, тем более, что на полную мощность они заработали спустя сорок лет, когда их время пришло. Согласно морфологической концепции, Тынянов не претендовал на семантическую интерпретацию «Онегина», но без его анализа ряда композиционных блоков было бы впоследствии крайне затруднительно восприятие смыслопорождающей природы романной структуры. Тынянов увидел в «Онегине» множество смыслообразующих формантов, которые послужили впоследствии опорой для оригинальных интерпретаций. К таким местам относятся «сопряжение прозы с поэзией, бывшее в "Евгении Онегине" композиционным замыслом», «вопрос о пропуске строф», проблема «создания романа романа» и мн. др.[38]38
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 68, 59, 55.
[Закрыть] Как мы уже отмечали, любое морфологическое описание, предполагающее смысловые выходы, безусловно, возводится в ранг интерпретации.
Подавление живоносных тенденций литературной науки, к которым относилась морфологическая школа, мстит за себя тем, что господствующие предписания обрываются внезапно и как бы в момент их окончательного торжества. В 1948 г. Г. Гуковский, ученик Тынянова, опубликовал статью об «Онегине», которая в тот момент не прозвучала. Однако когда спустя семь лет после мученической смерти автора она была перепечатана в его книге «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1957), разразилась бурная полемика между Г. Макагоненко и Б. Бурсовым. Дело в том, что Гуковский осуществил инверсию в оценках героев романа, поменяв позиции, на которые их поставил Достоевский в своей речи. Он эффектно возвел Онегина в декабристы, и Татьяна вынуждена была уступить ему превосходительную ступень. Для решения научного конфликта потребовалась академическая дискуссия, состоявшаяся в 1960 г. в Институте мировой литературы с участием маститых пушкинистов – Д. Благого, Ю. Оксмана, У. Фохта, Н. Степанова, А. Слонимского и др.[39]39
См.: К спорам о «Евгении Онегине» // Вопр. литературы. 1961. № 1. С. 108–132.
[Закрыть] В конце концов за Онегиным оставили, как оно и было раньше, квалификацию «лишнего человека», но на этом все и кончилось: интерес к проблеме был потерян, и о «лишнем человеке» вообще забыли. На авансцену пушкинистики уже выходили новые читатели «Онегина».
Среди них была И. Семенко, обратившаяся к образу автора в романе Пушкина.[40]40
Семенко И. М. О роли образа «автора» в «Евгении Онегине» // Труды Ленингр. библиотечного ин-та. Т. 2. Л., 1957. С. 127–146.
[Закрыть] В другой статье она высказалась по поводу вышеупомянутой дискуссионной проблемы с неожиданным акцентом: «В то время быть лишним – почти означало быть лучшим».[41]41
Семенко И. Эволюция Онегина (к спорам о пушкинском романе) // Русская литература. 1960. № 2. С. 126. «Почти» – эта смягчающая модальность, вероятно, была данью времени.
[Закрыть] Параллельно появилась первая онегинская статья Ю. Лотмана «Об эволюции построения характеров в „Евгении Онегине“»,[42]42
Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. III. М.; Л., 1960. С. 131–173.
[Закрыть] где уже намечалась будущая концепция ученого. Однако наиболее симптоматичной в этот момент оказалась работа Л. Н. Штильмана, прочитанная в Москве на IV Конгрессе славистов (1958), которая предвосхитила дальнейшие пути изучения романа у нас и за рубежом. Пафос доклада Штильмана заключается в принципиальном рассмотрении романа Пушкина внутри литературной стихии, «энциклопедия русской жизни» становится «литературной энциклопедией», преимущественно европейской. Называя те или иные художественные источники «Онегина» («Дон Жуан» Байрона, «Новая Элоиза» Руссо и др.), автор сосредоточивается не столько на литературном генезисе романа, сколько на функционировании «источников» внутри самого текста, то есть на том, что впоследствии будет названо интертекстуальностью. Особое внимание уделяется воздействию на «Онегина» «Новой Элоизы», вообще эпистолярного романа, с которым связывается редукция сюжета героев. Самодостаточность поэтики романа позволяет Штильману сделать ряд точных наблюдений над его жанровой структурой, композицией, нарративом, взаимопроникновением миров автора и персонажей – над всем, что стало предметом исследования в последующие десятилетия. Так, Штильман едва ли не впервые отметил, что «рассказ о метаморфозах музы есть композиционное и поэтическое решение проблемы превращения Татьяны».[43]43
Штильман Л. Н. Проблемы литературных жанров и традиций в «Евгении Онегине» Пушкина: К вопросу перехода от романтизма к реализму // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists / Moscow, September 1958 (The Hague, 1958).
[Закрыть] Характерные взаимозамены персонажей в гибридном мире «Онегина» заставили Штильмана усомниться в реализме жанра и стиля романа, и спустя сорок лет после выдвижения этой идеи мало кому захочется отыскивать реализм как в романе в стихах, так и в творчестве Пушкина вообще. В заключение Штильман характеризует «Евгения Онегина» как «произведение неповторимое по богатству и красоте поэтической формы, с действием чрезвычайно сложным»; «это сложное действие, однако, разыгрывается не столько между героями, – „интрига“ романа чрезвычайно проста, – сколько между автором и его произведением, между автором и героями, между разными планами реальности, между стихией поэзии и стихией прозы».[44]44
Там же. С. 42.
[Закрыть] В этой великолепной формуле фактически заключено все то, что частично или полностью будет разрабатываться онегинистикой в разнообразной аксиоматике вплоть до конца века: внефабульность текста, иначе говоря, многослойность сюжетного развертывания, переключения из плана автора в план героев и обратно, гетероморфность поэтического пространства и времени, взаимоосвещение стиха и прозы и т. д.
Время перемещает акценты, и статья Штильмана, будучи маргинальным прочтением «Онегина» в момент своего появления, ретроспективно выглядит как своего рода инвариант преобразований, точка отсчета при формировании новой парадигмы понимания текста. Но существует еще более удивительный прецедент. В 1941 г., во время глубокого разлома национальной культуры, была опубликована статья Г. Винокура «Слово и стих в "Евгении Онегине"».[45]45
Винокур Г. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин. М., 1941. С. 155–213.
[Закрыть] Прошло более десяти лет после теоретических работ Тынянова, а до новой эпохи оставалось четверть века. Большая статья, действительно посвященная рассмотрению стиха, онегинской строфы, ее генезиса и синтаксического строя, содержит в первой половине раздел, кратко характеризующий поэтику романа. Перед этим Винокур пишет о многоуровневых метрических границах текста, подчеркивая, что «сама эта градация формы (…) тесно связана с идейным и стилистическим замыслом пушкинского „романа в стихах“»,[46]46
Там же. С. 165.
[Закрыть] и таким образом мотивирует переход к стилю и смыслу «Онегина», то есть к неназываемой поэтике.
Заглядывая в далекую перспективу, Винокур выделил в тексте «отношения между автором и героем» и добавил, что «для уразумения смысла "Евгения Онегина" в целом эти отношения, конечно, не менее важны, чем собственно сюжетная сторона "романа в стихах"».[47]47
Там же. С. 167.
[Закрыть] Он обратил внимание, что «автор… является не просто рассказчиком, но и действующим лицом, участником событий», и «все это диктовало специфическую форму отношений между повествователем и его читателем».[48]48
Там же. С. 168.
[Закрыть] Читатель при этом фактически втягивается в романную структуру, так как «сам является участником той жизни, которая служит предметом изображения в романе и получает в нем поэтическое освещение».[49]49
Там же. С. 168–169.
[Закрыть]
Из этих наблюдений возникает тезис о «многообразной дифференциации самого значения повествовательного «я» в романе Пушкина»,[50]50
Там же. С. 169.
[Закрыть] который в дальнейшем Винокур рассматривает с различных сторон. Сказанного достаточно, чтобы в статье Винокура увидеть важнейшие проблемы поэтики «Онегина», впоследствии развитые, углубленные и уточненные С. Бочаровым, Ю. Лотманом, Д. Клейтоном, Э. де Хаардом и мн. др.[51]51
Если Тыняновым была «подчеркнута чисто словесная динамика „Онегина“» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 62), то Винокур подошел к роману со стороны повествовательных структур, иначе говоря, его привлекло парадоксальное взаимовключение планов автора и героев. Кентавр-система «Онегина» вдохновила Бочарова на его статью «Форма плана», построенную как музыкальное переплетение двух тем, и оказалось, что повествовательное устройство романа раз за разом провоцирует все новые его описания. Д. Клейтон в статье «"Евгений Онегин": В поисках фабулы» (Russian Literature, XXIV, 1988) анализирует повествование, пользуясь четырехуровневой схемой. В. Шмид отмечает, как и Бочаров, гибридность романа и приходит к выводу, что «в „Евгении Онегине“ неопределенность фабулы отражает неопределенность самой жизни». Э. де Хаард (Haard Eric de. On the Narrativ Structure of Eugenij Onegin // Russian Literature. 1989. Vol. XXVI. № 4) считает, что несовместимость принципов описания «истории» и «отступлений» придает целому смысл оксюморона. В работе «Сравнительный анализ героинь „Дон Жуана“ Байрона и „Евгения Онегина“ Пушкина» (Вопросы литературы, 1996, ноябрь—декабрь) Джон Гаррард указывает на равновесие «истории» и «отступлений» у Пушкина, отмечая преобладание «отступлений» у Байрона. С. Хёйзингтон (Hoisington Sona. The Hierarchy of Narratees in Pushkin's Eugene Onegin // Canadian-American Slavic Studies. 10. 1976. № 2) ставит повествование в «Онегине» в иерархическую зависимость на оси автор—читатель. Подвижное единство позиции автора-повествователя Т. Шоу видит в его соотносительности с Ленским и Онегиным, полагая, что «автор, пребывающий в стадии зрелой „реочарованности“, реагирует на предыдущие этапы своего развития, находя ценное не только в юношеской очарованности, но и в последующем разочаровании, не только в горячем сердце, но и в холодном уме» (цит. по русскому переводу в сб. ст.: Автор и текст. СПб., 1996. С. 127). К. Поморска, вслед за Бочаровым, анализирует повествование от автора и утверждает, что «в тех местах, где автор устанавливает свое отношение к какому-либо из героев, текст, переведенный в новый фокус, предстает перед читателем в ином аспекте: одновременно выкристаллизовывается характер самого героя, который до сих пор мог быть не совсем ясным, и устанавливается новая связь с текстом» (Pomorska K. Заметки о письме Татьяны // Alexander Puskin / Simposium II. Columbus, Ohio: Slavica Rublishers, 1980). Особенно выразительно этот «подвижный повествовательный прием в стихах» сформулирован Дьюлой Кираем: «Поэт свободно переходит от внутренней речи одного героя к внутренней речи другого, перевоплощаясь моментально во внутреннее созерцание героя и снова свободно возвращаясь к изображению его со стороны – из аспекта наблюдения чужого или близкого ему лица: героя, автора, читателя, современника» (Кирай Дьюла. К проблеме авторской точки наблюдения в повествовательной концепции текста Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого // Studia Russia, VII. Budapest, 1984. С. 141).
Этот «подвижный повествовательный прием» в романе в стихах аналогичен у Пушкина «переменным композициям» лирических текстов, когда стихотворение можно описать с помощью не одной, а нескольких композиционных схем, которые затем наслаиваются друг на друга, придавая динамический аспект архитектонической статике текста. Об этом типе лирической композиции с блуждающими разрезами см. главу «"Зимний вечер" Пушкина»; см. также Эткинд Е. Г. Симметрические композиции у Пушкина. Париж, 1988.
[Закрыть]
Современная парадигма изучения, понимания и прочтения «Евгения Онегина» сложилась за последние тридцать лет, и ее развитие все еще продолжается. В середине 1960-х гг. произошел своего рода взрыв интереса к пушкинскому роману, и это случилось не только в России, но и во всем западном мире, а позже и в восточном. В. Набоков выпускает перевод «Онегина» и обширный комментарий к нему (1964). Возвращаются книги и статьи М. Бахтина, Ю. Тынянова, Л. Выготского (1963–1968 и далее).[52]52
В библиографию не внесены книги Бахтина, Тынянова и Выготского, имеющиеся здесь в виду. Фрагмент из Бахтина об «Онегине» включен в антологию «Russian Views of Pushkin's Eugene Onegin» (Russian Views of Pushkin's Eugene Onegin. Translated, with an Introduction and Notes by Sona Stephan Hoisington. Bloomington: Indiana University Press, 1988), а вообще поэтика «Онегина» в конце века так или иначе изучается под воздействием Бахтина, находя прямых его последователей (Бочаров, Турбин и др.). Книга Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924), переизданная в 1965 г., содержит лишь первоначальные подступы к поэтике «Онегина», развитые в других работах: «О композиции „Евгения Онегина“» (в его книге «Поэтика. История литературы. Кино») и «Пушкин» (Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968). Выготский сослался на идеи Тынянова в книге «Психология искусства» (1965, 1968).
[Закрыть] Начиная, в основном, с 1966 г. выходят работы или части монографий, напрямую обращенные к «Онегину». Их авторы – В. Виноградов,[53]53
В. В. Виноградову в 1960-е гг. принадлежит, кроме статьи «Стиль и композиция первой главы „Евгения Онегина“» (Русский язык в школе, 1966, № 4), статья «О трудах Ю. Н. Тынянова по истории русской литературы первой половины XIX века» (Русская литература, 1967, № 2), перепечатанная через год в несколько сокращенном виде в качестве предисловия к книге Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968.
[Закрыть] А. Чичерин, Ю. Лотман, С. Бочаров, В. Маркович, Д. Бейли, Т. Шоу, Р. Фриборн, С. Митчел, Р. Грегг, У. Тодд, А. Бриггс, Л. Шеффлер, Д. Клейтон и мн. др. Выдающуюся роль в переходе на новую парадигму в России и за рубежом сыграли статьи Ю. Лотмана «Художественная структура „Евгения Онегина“»[54]54
Лотман Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина» // Труды по русской и славянской филологии, IX / Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 184. Тарту, 1966. С. 5—32.
[Закрыть] и С. Бочарова «Форма плана»,[55]55
Бочаров С. «Форма плана» (Некоторые вопросы поэтики Пушкина) // Вопр. литературы. 1967. № 12. С. 115–136.
[Закрыть] появившиеся одна за другой (1966, 1967). Имманентный подход к роману был, однако, развернут в различных руслах структуральной и феноменологической поэтики. В 1970-е гг. оба автора расширили поле исследования «Онегина» в двух других работах; статьи С. Бочарова о романе появляются периодически вплоть до настоящего времени.
Теоретической аксиомой Лотмана было установление «противоречия» как художественно значимого структурного элемента, декларированного самим Пушкиным. Оно объясняется наличием внутри текста художественных точек зрения (т. е. позицией сознания), которые «не фокусируются в едином центре, а конструируют некий рассеянный субъект, состоящий из различных центров, отношения между которыми создают дополнительные художественные смыслы».[56]56
Лотман Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина». С. 8.
[Закрыть] Это настолько резко усложняет структуру текста, что порождает, по Лотману, обратный эффект «упрощения» и естественности, имитирует «нехудожественность», воспринимаемую как «иллюзию самой действительности».[57]57
Там же. С. 20.
[Закрыть] Лотман развертывает эту идею на демонстрации семантико-стилистических и интонационных «сломов», а также «сломов» характеров персонажей от главы к главе. Возникающий при этом разнобой смыслов ценностно выравнивается механизмом иронии, который действует у Пушкина на всех уровнях. В итоге «Онегин» «не только строится как система соотнесения разнородных структур, но и имеет открытый характер».[58]58
Там же. С. 31.
[Закрыть] Стоит отметить, что все это еще подчинено стремлению «воссоздать объективную реальность», поддержать «реализм» пушкинского романа. В более поздних работах эта тенденция размывается.
С указания на «противоречие» начинает свою статью и Бочаров. Но это не противоречие стиля, интонации, характеристик персонажей. Речь идет о генеральном противоречии «Онегина», противоречии, на котором держится весь роман Пушкина: совмещении и несовместимости мира автора и мира героев. Традиция Тынянова—Винокура, на которую опирается и Лотман в статье 1966 г., не подчеркивала в ступенчатой структуре автора ипостаси Демиурга, творца всего романного мира. Бочаров, учитывая функцию автора-повествователя и роль автора-персонажа, приятеля Онегина, ставит акцент на авторе, творце и держателе всего текста. Он пользуется формулой А. Чичерина о «расщепленной двойной действительности» и пишет: «Действительность эта – гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с «миром» романа; исчезла рама, границы миров, изображение жизни смешалось с жизнью».[59]59
Бочаров С. «Форма плана» (Некоторые вопросы поэтики Пушкина). С. 118.
[Закрыть] В дальнейшем это положение раскручивается в изощренном спектре преобразований и вариаций. Работа как бы построена на антиномии: с одной стороны, «действительность я и роман героев приравнены, совмещены в одной общей плоскости»; с другой – «жизнь и работа автора не могут лечь в одной плоскости с жизнью героев романа этого автора».[60]60
Там же. С. 123, 125.
[Закрыть] Рассуждение как будто скользит по «ленте Мёбиуса», а затем разрывает ее. Благодаря парадоксу преодолевается «всеобъемлющий образ «я», который ступенями переходит от «приятеля» или частной биографии Пушкина к сознанию автора, ставшему объективным миром романа, равному целой жизни. Этими переходами нам представлено удивительное явление – объективность поэтического сознания, его особая человеческая природа: ибо оно громадно перерастает и превосходит отдельное «я» поэта».[61]61
Там же. С. 127.
[Закрыть] Эта вершинная формула Бочарова, верная и по сей день, великолепно развитая многими исследователями, приобрела с течением времени легкий дефект своим упором на сверхценность «объективности». Современное чувство антропокосмичности с действительным тождеством бытия и сознания не хочет оперировать «объективностью», которая, в сущности, фиксирует выпадение человечества из универсума. Да и сам Бочаров фактически создает свой очерк ради вписанности пушкинского романа в мироздание: «В (…) духовном космосе Евгений Онегин имеет свою несомненную реальность, соизмеримую с реальностью «настоящих» живых существ».[62]62
Там же. С. 133.
[Закрыть]
В англоязычной пушкинистике 1970—80-х гг. отметим разделы об «Онегине» в книгах Дж. Бейли и Р. Фриборна, а также монографию Д. Клейтона «Ice and Flame».[63]63
Clayton J. Douglas. Ice and Flame: Alexander Pushkin's «Eugene Onegin». Toronto: University of Toronto Press, 1985.
[Закрыть] Книга Д. Клейтона привлекает обстоятельным обзором критической литературы об «Онегине» и нетривиальными решениями ряда проблем. Нечасто встретишь столь недвусмысленный отказ от реалистической интерпретации романа, опирающийся как на русских формалистов, так и на более поздний опыт московско-тартуской структуральной школы. Используя их термины и приемы, Клейтон включает в анализ историко-литературные и биографические аспекты. Работ Дж. Бейли и Р. Фриборна мы представлять не будем, отсылая к их проницательному комментарию в книге Клейтона, но в знак солидарности с автором повторим здесь одну выдержку из Фриборна. Фриборн пишет о моральной позиции Татьяны как высшей ценности пушкинского текста: «Tat'iana asserts… the privacy of conscience, the singularity of all moral awareness and certitude, the discovery of the single, unique moral self which opposes and withstands the factitious morality of the mass, of society, or the general good»[64]64
«Татьяна отстаивает неподотчетность совести, самоценность любых нравственных понятий и убеждений, существование обособленного и неповторимого нравственного „я“, противостоящего и сопротивляющегося искусственной морали, основанной на интересах большинства, мнении света или принципах общего блага».
[Закрыть].[65]65
Freeborn R. The Rise of the Russian Novel from «Eugene Onegin» to «War and Peace». Cambridge: Cambridge University Press, 1973. P. 37.
[Закрыть] Казалось бы, это утверждение должно устроить всех апологетов Татьяны, особенно в России. Однако перед нами Татьяна, прочитанная в западном мире. Это означает, что она представлена как личность, не подвластная никаким обстоятельствам, сама устанавливающая правила собственного поведения, являясь носительницей ценностей. У нас же Татьяну понимают по преимуществу как выразительницу национальной всеобщности, и поэтому формула Фриборна не вызовет энтузиазма.
Хотя судьба пушкинских героев еще долго будет волновать читателей многих стран, композиционная структура «Онегина» в целом заслуживает не меньшего внимания, так как фабула в конечном итоге все-таки не является смысловой доминантой. Смена парадигмы в восприятии романа постепенно переместила исследовательский интерес с его творческой истории на состав текста. Осознание мнимой неоконченности «Онегина» привело нас к переоткрытию идеи Тынянова о том, что подлинным концом романа являются «Отрывки из путешествия Онегина».[66]66
Чумаков Ю. М. Состав художественного текста «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники / Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Т. 134. Псков, 1970. С. 20–33.
[Закрыть] Если Тынянов выводил ее из установки Пушкина на словесный план, из словесной динамики произведения, то наша аргументация опиралась на композиционную структуру романа, на описание «Отрывков из путешествия…» и «Примечаний» как полноправных компонентов поэтического текста в ранге глав. В свою очередь, структурные данные, взятые в зависимости именно от текста, дважды опубликованного самим Пушкиным, то есть без так называемой «десятой главы», были сведены в то, что без особой натяжки можно назвать жанровой формулой «Онегина» как романа в стихах.
Жанровым фундаментом «Онегина» является его принадлежность к лирическому эпосу с решающим перевесом лиризма. На этом фундаменте строится система жанровых признаков, принадлежащих композиционно-сюжетной стороне, способу повествования, кругу образов-персонажей, пространственно-временной сфере, стилистике, стиху, строфе и пр. Группировка их по принадлежности к той или иной области организации текста сводится в следующую схему: основанные на динамическом равновесии двух нераздельных и независимых миров автора и героев, выделяются
1) со стороны композиции:
– фрагментарность;
– законченность в форме неоконченности (неотмеченность начала и конца);
– «противоречия»;
– «пропуски текста» (содержательные зоны молчания);
– взаимоосвещение стиха и прозы;[67]67
Этой важнейшей проблемы касаются Л. С. Сидяков и Пол Деб– рецени, связывая ее с художественной прозой Пушкина в целом. См.: Сидяков Л. С. Художественная проза Пушкина. Рига, 1973 и мн. др. его работы; Debreczeny P. The other Pushkin: A Study of Alexander Pushkin's Prose Fiction. Stanford (California), 1983.
[Закрыть]
– структурирование внетекстовых элементов (поэтизация примечаний, усвоение чужого текста);
2) со стороны сюжета, способа повествования и группировки образов-персонажей:
– внефабульность (многослойность сюжетного развертывания);
– переключение из плана автора в план героев и обратно (челночное движение «точки» повествования);
– ступенчатое построение образа автора;
– вне– и внутритекстовый образ читателя;
– «профильность» (взаимообращенность) персонажей;
– взаимозаменяемость персонажей (их неидентичность самим себе, интеграция в сложное духовное единство);
– линейно-циклическое время и внешне-внутреннее пространство;
3) со стороны стилистики и стиха:
– стилистическая полифония («сломы»);
– строфа как созидающая целое расчлененность (неизменная подоснова, подчеркивающая и выравнивающая многообразие интонационно-ритмического, пространственно-событийного и поведенческого содержания);
– ирония как регулятор единства и многоплановости стиха, стиля и смысла; ироническое скольжение по другим жанрам (пародийное полупревращение или имитация).
Все эти аналитические дефиниции жанра в слитном тексте «Онегина» подвижны и подвержены взаимопревращениям. Поэтому можно утверждать, что фундаментальной чертой романа, охватывающей все его жанровые признаки, является инверсивность. Перераспределения инверсивного типа функционируют всюду: в «расщепленной двойной действительности», то есть в переключениях из авторского мира в геройный или, что то же самое, из поэтического сюжета в повествовательный, в композиционной перестановке «Отрывков из путешествия Онегина», в зеркальной симметрии писем и монологов, в том, что «жизни даль» (5, VII) и «даль свободного романа» (8, L) продолжают друг друга, во взаимозаменах персонажей, в колебаниях стиля и смысла – вообще на любом уровне. В конечном итоге, содержанием «Онегина» является его форма, и это столь же очевидно, как позднее в «Улиссе» Джойса. Можно думать также, что инверсивность «Онегина» протягивается и в поле его интерпретаций, где, в свою очередь, перепутываются толкования и поэтика.
В своем завершенном виде «Онегин» сохраняет напряженную неразвернутость, непредсказуемость и свободу выбора читателем различных «путей» сюжета и смысла. Поэтическая структура романа, тяготея к свернутости, закрытости и самотождественности, способна, благодаря все той же инверсивности, разворачиваться в новое семантическое пространство, которое постоянно возрастает, выходя из себя самого и насыщаясь смыслами все более и более. Единораздельность «Онегина», сохранение им целостности при принципиальном господстве откровенных противоречий и клубящихся инверсий приводит к тому, что на любом его уровне возникает парадоксальная игра сюжетно-композиционных и смысловых возможностей, вариаций и альтернатив. «Онегин» весь существует на противонатяжениях смысла, никогда не перетягивающихся на одну сторону в ключевых местах текста. Суть его жанра в том, что он навсегда сохраняет черты черновика, а это стимулирует соучастие читателей в смысловой жизни текста. Вот почему жанровая формула «Онегина» выводится, с одной стороны, из завершенного текста романа, канонизированного изданием 1837 г., а с другой – она же вбирает в себя веер возможностей, располагающихся вне и внутри текста, начиная от поглавной редакции 1825–1832 гг. и кончая «Альбомом Онегина», так называемой «Десятой главой» и всеми явными и скрытыми вероятностными ходами романа.[68]68
Чумаков Ю. Н. Роль изучения творческой истории в современном прочтении «Евгения Онегина» // Классика и современность. М., 1991. С. 170–179.
[Закрыть]
Собирание жанровой формулы «Онегина» привело к важному последствию: оказалось возможным установить жанровую традицию русского стихотворного романа, которая в литературной науке считалась несуществующей. Для этого понадобилось сличить с жанровой сеткой «Онегина», взятой к тому же в упрощенном виде, довольно большое количество текстов (разумеется, их сначала нужно было разыскать). «Блестящее одиночество» «Онегина» в стихотворной традиции объяснялось тем, что у романа за сто с лишним лет его существования не нашлось прямых подражателей. Опознать их было нелегко, так как историческая поэтика надолго была отторгнута от науки. «Онегин» мог обрести статус жанра в историческом ракурсе лишь при том условии, что его поэтика была сопоставлена с поэтикой литературных спутников и преемников и соотнесена с ближним и дальним контекстом эпигонских произведений. Все это было осуществлено.[69]69
Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск, 1983.
[Закрыть]
Наличие прямой жанровой традиции «Онегина» маскируется выпадением одного важного звена в любой складывающейся преемственности: отсутствует ближайший круг литературных спутников достаточно высокого ранга, устанавливающих каноны жанра. В то же время массово-эпигонская литература немедленно откликнулась на появление романа в стихах, тиражируя образец в изрядном количестве подражаний. Правда, без присутствия массовой литературы традиция вообще формируется неустойчиво, но в случае с «Онегиным» шаблоны сразу заняли ее магистральную линию, которую как бы не хотелось видеть в силу несоразмерности образца и подражаний. Тем не менее отсутствие канонизирующего круга было компенсировано. Многие значительные поэты пушкинского и последующего времени (Е. Баратынский, Я. Полонский, М. Лермонтов, Ап. Григорьев, И. Аксаков, К. Павлова и др.), не вступая в открытое соперничество с автором «Онегина», создали поэмы, в которых явственно обозначились интенции нового жанра. Канон выступил в размытых очертаниях, в отклоняющихся, неявных формах, возникал не жанр романа в стихах, а ориентация на него, модус жанровой принадлежности. Тексты, которые мы не будем здесь перечислять, образуют боковую или периферийную линию онегинской традиции, продлевающую по историческому вектору творящий импульс жанровых сил в их напряженной неразвернутости.[70]70
Чумаков Ю. Н. Из онегинской традиции: Лермонтов и Ап. Григорьев // Пушкинские чтения. Таллинн, 1990. С. 129–143.
[Закрыть] В середине XIX в. на магистральной линии появляется достаточно высокий образец жанра: «Свежее преданье» Полонского. Следующий подъем жанровой волны приходится на начало XX в. («Младенчество» Вяч. Иванова, «Первое свидание» А. Белого и «Возмездие» А. Блока). Далее можно указать на «Спекторского» Пастернака вместе с его же прозаической «Повестью» и, наконец, на «Поэму без героя» А. Ахматовой. Современные методы рассмотрения текстов и литературного процесса позволили обосновать традицию послеонегинского стихотворного романа, описав при этом в аспекте исторической поэтики художественный материал, впервые в значительном объеме введенный в научный оборот.
Вернемся, однако, к современному кругу прочтений «Онегина». У. М. Тодд в монографии «Литература и общество в эпоху Пушкина» обращается заново к социальному прочтению романа, связывая его, в первую очередь, «со светской идеологией, представлениями о приличиях, традициях и условностях».[71]71
Тодд У. М. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб., 1996. С. 9.
[Закрыть] При этом, решая с помощью романа социокультурные проблемы пушкинской эпохи, Тодд повсеместно опирается на его поэтику. Важное пересечение внутри самой действительности социальных и эстетических тенденций рассматривается Тоддом по моделям фундаментального сочленения в романе двух реальностей: изображенной реальности, любовной драмы героев и «второй реальности» – реальности творческого процесса. Отмечая поэтическую удачу Пушкина, сплетающего воедино обе реальности, Тодд пишет о крайностях миметических и формальных подходов и настаивает на их равновесии. Вместе с тем в предшествующей главе он с очевидной горечью указывает на «проблему, мучительную для социологии литературы: каким образом рассматривать литературу как общественный институт, связанный с исторической ситуацией и расстановкой сил, не теряя при этом из виду динамику художественного текста и непреодолимость литературной традиции».[72]72
Там же. С. 57.
[Закрыть] Самому автору удается искусно балансировать внутри этой дилеммы. Так, он великолепно интерпретирует ведущую метафору текста «роман-жизнь», но все же нельзя не признать, что социологические трактовки романа, даже с максимальным привлечением средств его поэтики, чреваты неизбежными шероховатостями.[73]73
Например, У. М. Тодд обращается к исследованиям Марка Раеффа, касающимся позиции декабристов, и сочувственно их цитирует: «Сейчас нам ясно, что все критические выпады декабристов сосредоточивались на одной-единственной основной черте русской ситуации, источнике всех зол: отсутствии прав личности и уважения к ней, к ее достоинству, чести, собственности, работе, даже жизни» (Тодд У. М. Литература и общество в эпоху Пушкина. С. 51). М. Раефф, конечно, прав с точки зрения современной социологической мысли: декабристы вполне могли использовать «основную черту русской ситуации» с целью взбудоражить состояние общества. Но остается неясным, считает ли он, что декабристы собирались исправлять эту «основную черту», которая на самом деле является коренной чертой этнопсихологии, остающейся неизменной вплоть до настоящего времени.
[Закрыть]
Недавно вышедшая книга В. Турбина «Поэтика романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин"» также примыкает, на первый взгляд, к социологическому настроению. Но если Тодд, верный принципу историчности, пытается реконструировать условия XIX в. и методологически развести социальное и эстетическое, то Турбин, напротив, видит «Онегина» вне истории и погружает поэзию и действительность в континуум, где они служат метафорами друг друга. Исповедуя жанровую концепцию бытия в духе Бахтина, Турбин отождествляет литературные жанры и жанры человеческого поведения. Они сводятся к подобию архетипов. Паратерминология Турбина исключительно индивидуальна и синкретна, и ее не просто перевести на какой-либо конвенциональный метаязык науки. Термины «эпос», «роман», «сюжет», «фабула», «композиция» и пр. сдвинуты или расширительны по содержанию. Он пишет, например, что «композиция вездесуща (…), что рифма есть явление композиции художественного, стихового высказывания (…), что и метр стиха – композиция; ямб – композиция, хорей – композиция» и т. д.[74]74
Турбин В. Н. Поэтика романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1996. С. 161.
[Закрыть] В основу взгляда на роман положена формула Белинского «энциклопедия русской жизни», но эта «энциклопедия» понята в каком-то особом, турбинском, повороте. «Онегин» в целом – соединение эпоса и романа: Татьяна – эпос, Евгений – роман, но в то же время сам герой эпически раздвинут, «он, поименованный в честь реки, с начала и до конца является в романе человеком-рекой».[75]75
Там же. С. 129.
[Закрыть] Вообще в книге Турбина мы видим превращение всего во все остальное, все метафоры реализуются, ассоциации пронизывают и притягивают совершенно неожиданные места: «…Летом, в саду, Онегин убивает любовь, а зимою, в поле у реки, убивает дружбу. Сцена в саду и сцена дуэли – два поединка»; или еще: «Причудливо сдвигаются: окутанный „морозной пылью“ Онегин и продолжающий его шалун-"мальчик" (…). Вошедшая в хрестоматии (…) картинка уже содержит в себе шуточный прообраз заключительной сцены романа: Татьяна оберегает Онегина от холода, (…) „грозит ему“, пресекая задуманную им шалость».[76]76
Там же. С. 159–160.
[Закрыть] В другом месте Турбин называет весь пушкинский роман «причудливым», но гораздо причудливее само его прочтение, остающееся при этом необычайно талантливым, импровизационным, поражающим воображение и способным пробудить в новых читателях «Онегина» неисчерпаемое множество впечатлений и мыслей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?