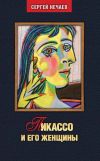Текст книги "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"

Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Ладно, – сердито отрезал генерал. – Это уж не твоя докука.
Пожалуй, так. Тут уж была докука генерала Синельникова.
Казнокрадство и взяточничество равнял Николай Петрович с любострастной болезнью. Годы службы дали доказательства ее неистребимости. Он помнил, как сам министр юстиции граф Панин сунул сотенную судейскому, чтоб тот не прятал под сукно его, министра, покупочную запись в пользу своей дочери. И помнил, как один знакомый губернатор пихал за шиворот какому-то крючкотвору три рубля: бери, шельма, только сделай мне бумагу поскорее… От времени до времени Николай Петрович погружался в мрачные мысли о кряжевой порочности человеческой натуры. Потом с удвоенным рвением продолжал осаждать и штурмовать крепость по имени Взятка. Сокрушить не надеялся. Надеялся хоть бреши пробить. И надумал клеймить публично. Газета и гласность, полагал он, – благая сила, ежели пользоваться целесообразно, а не играть страстями народными. На страницах «Иркутских ведомостей» стал он печатать обличительные циркуляры. Призывал: «Прошу господ начальников губерний и областей строго наблюдать, чтобы циркуляры мои не оставались мертвыми буквально, но исполнялись непременно».
Синельниковские памфлеты были замечены в Петербурге. Благоприятель из министерства внутренних дел прислал письмо: министр-де морщится – нельзя порочить администрацию и тем самым тревожить общественное мнение… С одной стороны, получалось вроде бы хорошо – существует, стало быть, и в России общественное мнение; с другой стороны, выходило нехорошо – он, генерал Синельников, вроде бы распаляет нездоровые страсти. Но Николай Петрович все-таки не внял благоприятелю и продолжал свою грозную публицистику.
Гласное намеревался он соединить с тайным.
Там, в Петербурге, на Фонтанке, граф Шувалов обозвал подчиненных скотами; «мои скоты» – изволил выразиться его сиятельство. Положим, Шувалов вельможно ерничал. Но верно и то, что скотства хватало с избытком. Отчего так? Административная практика давала Николаю Петровичу ответ, по его мнению, вполне вразумительный. Корень был в том, что все основывалось на доносах разношерстной сволочи. А сволочь руководилась либо копеечной выгодой, либо воспаленным тщеславием. А следствием было то, что даже и люди положительные, служившие в Третьем отделении и в корпусе жандармов, оказывались в прямой и повседневной зависимости от этой сволочи. Ну и понятно, ничего истинно государственного, ничего соответствующего высшим соображениям, лишь новые и новые, донельзя озлобленные арестанты и ссыльно-поселенцы – пороховой погреб державы.
Беда тайной полиции, беда корпуса жандармов гнездилась, полагал Синельников, в забвении основ, положенных покойным императором Николаем: во-первых, стараться обращать заблудших на путь истинный, а не скорехонько запирать на замок; во-вторых, пресекать незаконные действия начальственных лиц всех ведомств, независимо от их табельного ранга.
Это «во-вторых» особенно занимало генерала Синельникова. И потому он примерился к местному жандармскому штату, словно к хирургам, призванным исцелять гангрену казнокрадства и взяточничества.
Жандармский штат возглавлял Дувинг.
Кое-что о полковнике узнал Синельников вскоре же после водворения в белоколонной своей резиденции. Из ящика, прибитого к стене (тоже синельниковское новшество, ради пользы дела поощряющее доносительство), был извлечен каллиграфически исполненный бурлеск. Оказывается, у голубого стража общественной нравственности было «два выводка жандармят». Правое семейство обитало в казенной квартире при жандармском управлении; левое – через улицу, в благоприобретенном доме. В казенной квартире господин полковник принимали просителей почище, в неказенной – поплоше. Мир царил в семействах, законная не вздорила с незаконной. Чередуясь, они сопровождали повелителя в его летних поездках на прииски. Поездки были наблюдательными. Наблюдаемые блюли неписаное, и даже унтер, подручный Дувинга, добывал на приисках не меньше трех сотенных бумажек; добыча полковника исчислению не поддавалась, как сумма совершенно сверхсметная и совершенно секретная. Автор бурлеска ничего не имел против столь простого чувства, как чувство к самке, – чувство, доступное даже крокодилам, а не то что жандармам. Он не имел ничего против свободы и широты этого чувства, полагая, что только путем опыта все мы сможем определить наконец, какая форма сожительства наиболее пригодна для человечества. Единственное, что было огорчительным, так это то, что медведь, имеющий две берлоги, обходится населению вдвое дороже. Под занавес следовал призыв к генерал-губернатору Синельникову не бояться доносов Дувинга в Петербург, как не боялся генерал-губернатор Муравьев-Амурский, и пушить полковника Дувинга по матушке, как пушил все тот же Муравьев-Амурский.
«Пушить по матушке» Длинный генерал никогда не стеснялся, но причин к тому, чтобы «пушить» широколобого, вдумчивого, неторопливого полковника Дувинга, пока еще не усматривал. Больше того, чадолюбивый двоеженец понравился Синельникову и тем, что не позволял даже и намека на свое особливое служебное местоположение, и тем, что искренне признал забвение заветов покойного императора. К тому же полковник ничуть не артачился, когда Синельников дозволил иркутское жительство полякам-ремесленникам, хотя его старый соратник Купенков, патриотический гонитель польского элемента, был этим весьма недоволен. Опять же в пользу двоеженца свидетельствовало то, что именно Купенкова он и рекомендовал назначить начальником партии каторжан, отправляемых на витимские прииски: строгий службист Купенков не только взяток не хапал, но и в отчетах по начальству ничего не скрывал и не приукрашивал.
К сожалению, в последний момент пришлось командировать на базановские прииски другого жандармского офицера, – честный Купенков увяз в дознании, важность которого генерал-губернатор признал безоговорочно.
* * *
В иркутской жандармской команде числилось шесть обер-офицеров, сорок унтер-офицеров, шесть писарей, сто двадцать восемь нижних чинов. А с недавнего времени принят был на довольствие молодой человек, содержавшийся на гауптвахте.
И молодой человек, и ежедневно являвшийся к нему подполковник Купенков надоели друг другу, как повязанные одной цепью.
– Да вы ж вовсе и не Любавин, – тускло твердил подполковник, чувствуя приступ изжоги.
– Извините, я – Любавин, – скучливо отводил арестованный. И оба, вздохнув, глядели в окно.
На дворе солдаты, сдвинув папахи, курили, прислонясь к бревенчатой стене казармы и греясь на вешнем припеке.
– Нет, вы не Любавин, – будто очнувшись, быстро объявил подполковник и ладонью по столу прихлопывал, чего, мол, турусы разводить, и сейчас же, впритык, без паузы: – Пора бы уж объяснить ваши намерения, нельзя же, право, так запираться, себе же во вред, ей-богу.
Арестованный качал головой, сострадая непонятливости штаб-офицера. Купенков смотрел на молодого человека с необыкновенно правильными чертами лица и каштановой шевелюрой, смотрел и наперед знал, что он сейчас услышит из его уст. И молодой человек ровным, монотонным голосом говорил именно то, что загодя знал подполковник: я-де Любавин, а намерения мои согласуются с принадлежностью к Императорскому Географическому обществу. Монотонность его голоса как бы отражалась на пухлом усталом лице Купенкова. Он кручинно подпирал щеку, словно зубы ныли, но зубы-то были в порядке, а вот изжога разыгрывалась. Купенков слушал не слушая и думал о том, что скоро лето, на Иркуте хорошо, ночь, далеко слышно, на лодке горят, потрескивая, сосновые шишки. Арестованный между тем молол какой-то вздор о природных богатствах Восточной Сибири, представляющих научный интерес.
Купенков слушал не слушая и не замечал, как молодой человек умолкал, и оба они некоторое время пребывали в одиночестве, словно бы и не тяготясь друг другом. Заканчивалось, как и начиналось.
– Вы – не Любавин, – вдумчиво повторял подполковник.
– Я – Любавин, – вяло отводил арестованный.
Едва Купенков оставлял гауптвахту, изжога оставляла Купенкова. Он приходил в жандармское управление, угол Котельниковской и Большой. Полковник Дувинг, взглянув на давнего сослуживца и товарища, вздыхал иронически: «Н-да-а, брат, законность нас губит».
Суть была не в запирательстве арестованного, эка невидаль. Суть была в том, что дело, порученное им, словно бы измывалось над ними: важности чрезвычайной и вместе до обидного простое, оно не позволяло подвести черту.
Дувингу с Купенковым не нужно было ни малейших усилий, дабы определить, что Любавин – это Лопатин, а Лопатин – это тот, кто прибыл в Сибирь за Чернышевским. Все с пылу с жару доставил Петербург, Фонтанка, 16, – негласные источники бьют и сочатся из малейших трещин, а трещины нашлись и заграничные и домашние. Строго конфиденциально граф Шувалов писал: «Имеются указания, свидетельствующие, что в настоящее время главная цель эмиграции – освободить Чернышевского». Засим поступила аттестация: «Герман Лопатин умен, с большими способностями; характера твердого, настойчивого, предприимчив, умеет расположить тех лиц, которые ему нужны. Вместе с тем натура его кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе, так как во всех его действиях и даже в письменных объяснениях весьма рельефно проглядывает ненависть к правительству и настоящему порядку в России».
Казалось бы, чего ж еще? Лопатин арестован. У него документы неподложные, но на чужие имена. И значительная сумма денег. За ним – побег, и притом таинственный: «На запрос за № 358-4 сообщаю, что подробности исчезновения из Ставрополя находившегося под гласным надзором коллежского секретаря Лопатина до сего времени неизвестны». И пугающе-определенное: Лопатин приехал из-за границы… Чего же более? Велено усилить надзор за Александровским заводом, где Чернышевский. Прекрасно! Но как прикажете поступить с этим, который и умен, и предприимчив, и натура кипучая? Яснее ясного, почему он тянет время: ему надобно знать, что именно знают они, Дувинг и Купенков.
– Законность нас губит, – иронизировал Дувинг.
В его иронии была тревога. Тревогу полковника понимал и разделял Купенков. Лопатин нипочем не решился бы действовать в одиночку. Стало быть, здесь, в Иркутске, а может, и там, в Александровском заводе, – змея подколодная: шайка злоумышленников. А они не умеют подвести черту, хотя закоперщик Лопатин сидит-посиживает на жандармской гауптвахте…
* * *
Журнальчиком для нижних чинов – «Досуг и дело» назывался – утолял Герман духовную свою жажду, изнывая на жандармской гауптвахте, где держали его совсем не так вольготно, как на гарнизонной ставропольской. Но опять достало терпения – выждал, высидел и убедился, что никакими прямыми, вескими, неопровержимыми уликами, достаточными для суда, следствие не располагает. А коли так, то почему бы и не пойти напропалую, тем паче что «пропалой» не пахнет? И молодой человек сокрушенно молвил:
– Итак, допустим, я не Любавин.
– Слава те господи, – в тон ему отозвался Купенков. – Всему, батюшка, предел, давно бы так. – Большое, пухлое лицо подполковника порозовело.
– Нет, серьезно, – продолжал арестант и, подняв руки с раскрытыми ладонями, повторил, словно бы что-то отодвигая: – Вовсе и не Любавин, а… Ну, скажем, Петров. Рассуждая логически, что из сего проистекает? – Он до ушей улыбался, этот Лопатин.
– А то и проистекает, что вы проживали по чужому виду.
– Вот именно-с! Значит, меня, грешного, надо штрафовать.
Ладно, подумал Купенков, пойдем задами.
– При ваших средствах это пустяк. А вот вопрос-то: откуда они у вас, такие средства? И еще: жили-поживали в Париже, ан вдруг и метнуло в наши Палестины. Что так-то, а?
– В вашем вопросе, господин Купенков, есть половина ответа. Оттуда и средства, что жил за границей. И не только в Париже, еще и в Лондоне.
– Еще и в Лондоне… – вдумчиво отметил подполковник.
– Да. Но сперва в Париже. Там, знаете ли, меня Лавров поддержал. Петр Лаврович Лавров, слыхали?
– Слыхал, – ответил Купенков. – Очень даже слыхал. Артиллерии полковник, кажется?
– Артиллерии полковник. И отменный математик.
– Отменный, – поощрительно поддержал Купенков. – Ведь вот как точно побег-то свой рассчитал.
– Э, невелика штука, не из Сибири.
– Откуда же?
– Из Вологды. То есть я не ручаюсь, но сам Петр-то Лаврович говорил мне: из Вологодской губернии.
– Ну, ну, – неопределенно хмыкнул Купенков. – Так что же Лавров?
– Помогал я ему, секретарем был, разные, знаете ли, выписки из книг.
– А-а, – усмехнулся Купенков, – для завиральных статеек, что ли?
Лопатин рассмеялся. Купенков покачал головой, осуждая легкомыслие молодого человека. Потом сказал:
– Ну а в Лондоне вы что же?
– Конторские занятия. Боркгеим недурно платил.
– Понимаю, – кивнул Купенков. – Одного не понимаю: от такой жизни да сюда? А? За вами-то… – Он пальцами пощелкал.
– И я понимаю: вы про Ставрополь?
– Про Ставрополь.
Он опять помолчал, этот Лопатин, так грустно-грустно помолчал.
– Ах, полковник, полковник, вы и не представляете, каково на чужбине. Уверяю вас, будь хоть Ротшильдом, а заест тоска, заест подлая, ничто не мило, грызет и грызет. Вот, говорят, покойного Герцена совсем загрызла.
– Однако не воротился, – вставил Купенков.
– Не в тех годах был. И вообще: то Герцен, а то я… Мне что? Самовольное оставление места ссылки не влечет строгого наказания. Закон!
Купенков сообразил: хариус, ей-ей, хариус. Этот Лопатин оказался увертлив как рыба. Так и выскальзывал. Нет, даже и не выскальзывал, а вперед устремлялся, упреждая расспросы. А может, и не врет? Полноте, спохватывался Купенков, призывая на помощь петербургскую аттестацию: Лопатин умеет расположить к себе.
– Ну вот, – обиделся Лопатин, словно наперехват мыслям подполковника, – я как на духу, а вы… – Он пожал плечами. – Конечно, служба такая, вы, видать, и родному б отцу не поверили.
– Да нет, почему же, – скучнея голосом и опять белея пухлым лицом, мямлил Купенков. – А все ж, согласитесь, от развеселой-то жизни в Европах чего было к нам-то, в окаянную сибирскую сторону?
– Окаянную?! – возмутился Лопатин. – Эка вы, право! Да у вас тут миллионами ворочают. Тут… Я как думал? Э, думал, и с чужим паспортом в Сибири живут, взбодрю свое дело и – в гору, в гору, себе прибыток, отечеству прибыток, пора, господин Купенков, и нашему брату россиянину за ум браться.
– Ладно да складно, складно да ладно… – Купенков призадумался, откинувшись на спинку стула, играя пером, оглаживая бумаги. – Ладно да складно. И, знаете, я бы поверил вам, право, поверил… – Подполковник медлил, решаясь на главное: нечего, думал, тянуть, чего уж… – Да, – сказал он проникновенно, искренне, честно глядя в глаза Лопатину, – да, поверил бы, когда бы ни Чер-ны-шевский.
На Лопатина точно кипятком брызнули. Он вздрогнул и побледнел.
– А я-то и не понимал… – испуганно, недоуменно, ошарашенно сказал Лопатин. И криво улыбнулся: – Ничего не понимал… Вот оно что-о-о-о… Чернышевский! – Он помотал головой, хотел было еще что-то сказать, но тяжело вздохнул и принялся тереть стекла очков.
– Вы не волнуйтесь, – попросил Купенков, – вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Герман Александрович.
– А вы б не волновались? – горячо откликнулся Лопатин.
– Понимаю, понимаю, – успокоительно отвечал Купенков. – Конечно, волновался бы.
– Хорошо, – сказал Лопатин. У него был вид человека, которому уже все равно, что с ним сделают, а вот он сейчас выскажется напрямик, и шабаш: – Хорошо, господин Купенков, слушайте. Начну с того, что никогда в жизни не видел Николая Гавриловича Чернышевского. Не скрою, желал бы, да нет, не привелось. Его уж арестовали, когда я приехал в Петербург, в университет. Не привелось, но, говорю прямо, очень жалею. Далее. Разговоры о нем в нашем кругу были. И не вообще, знаете ли, а вполне определенные и сочувственные: глохнет могучая умственная сила. Вот так, не скрываю… А теперь… Теперь скажите-ка на милость, похож я на сумасшедшего? Похож, а? Вы мне неслужебно, по-человечески, без мундира: возможно ли, чтобы мало-мальски разумный человек, да еще в моем положении, пустился б на такое? Я ж прекрасно знаю: из Ставрополя бежал, значит, ищут. И вдруг я бы, да еще из безопасности полной, из Парижа, из Лондона, а? – Он словно бы обессилел и потерянно развел руками.
Купенков молчал. Потом спросил, сознавая, что спрашивает глупо:
– Это вот и записывать?
– Это вот и записывать.
Лопатин сидел, опустив голову. Купенкову опять мелькнула мысль недопустимая: а может, и не врет? И опять он призвал на выручку петербургскую аттестацию: характера твердого, настойчивого… Пошевелился на стуле и печально заскрипел пером.
На дворе жандармы месили весеннюю грязь, унтер Ижевский, самый достойный службист во всей команде, гонял нижних чинов строевым шагом: «Р-распустились, байбаки!»
– А-а, вот еще что я понял, господин Купенков, – вдруг сказал Лопатин, покорно сказал и тихо, как еще ни разу не говорил. – Да, теперь-то вот еще что понял: вы мне и знакомство с Щаповым – в строку. Уж коли следили, то и выследили. И верно – приехал, тотчас свел знакомство с господином Щаповым. Воля ваша, Афанасия Прокофьевича высоко уважаю, сердечно сочувствую.
«Каков, однако, хват», – сокрушенно подумал Купенков. Теперь уж уличать Щаповым не имело никакого смысла. Скажет правду, но не всю и не главную. И даже не скроет, что толковал со Щаповым о Чернышевском. А проку ни копейки. Но все ж проформы ради спросил:
– У вас что же, рекомендательное письмо имелось?
– Нет, я так, без рекомендаций, в знак сочувствия.
Купенков оперся на ладонь пухлой белой щекою, подумал о законности, губящей разыскное дело, а потом стал думать о летних рыбалках на Иркуте…
* * *
… До ареста прожил Лопатин в столице Восточной Сибири почти месяц. Жил потаенно. Знакомства были необходимы, но он избегал их, во всем полагаясь на Афанасия Прокофьевича.
Первый визит к Щапову получился неловок, не ко времени. Появление незнакомого человека вызвало замешательство заплаканной белокурой женщины, она поспешно вышла из комнаты. Герман, смутившись, остался один на один с ее мужем – сутулым, неряшливо одетым, с неухоженной мужицкой бородой, в шапке мелко вьющихся, круто седеющих волос. Щапов глядел исподлобья, на его нервном, пергаментном лице все еще гневно сверкали бурятские глазки.
Герман сказал, что зайдет в другой раз, но Афанасий Прокофьевич вдруг сердито ухватил его за рукав и разразился бранью, адресованной какой-то попадье-мерзавке, да и вообще всем сибирякам, скаредам и стяжателям, чтоб им ни дна ни покрышки.
Герман не без труда уяснил, в чем дело. Щапов, оказывается, нанимал квартиру у попадьи, давно задолжал, потому что из Питера никак не присылали гонорар, и вот эта треклятая баба устроила Ольге Ивановне пребезобразнейшую сцену.
– Это еще куда ни шло, Афанасий Прокофьевич, – спокойно заметил Герман. – А вот в Лондоне и на порог не пустят: вперед за неделю плати.
– В Лондоне? – переспросил Щапов, внимательно взглянув на Германа. И усмехнулся: – Ну так, значит, мои земляки не самые первые скареды на всем свете… Да вы садитесь, пожалуйста. Извините, бога ради, целый ушат на вас вылил. – Он крикнул: – Оля, Оленька! – Ответа не было. Щапов горестно покачал головой: – Укатали крутые горки.
Герман видывал всякую бедность – студенческую, ставропольских переселенцев, эмигрантскую, всякую, да только здесь, у Щаповых, увидел не бедность, а нищету, когда на хлебе и на воде, и услышал запах, как в старинных людских, запах чадной, пыльной лампы, заправленной нечистым маслом.
Дощатый стол загромождали бумаги и книги. На полу у стола белела корзина с рукописями. Узел из мешковины – тоже с рукописями – виднелся у полатей. О, кабинет профессора Афанасия Прокофьевича Щапова, автора знаменитой книги «Русский раскол старообрядчества» и множества других исторических исследований! И на этом дощатом столе профессор недавно закончил монографию, напечатанную в типографии Бенке, в Петербурге, близ Обуховского моста, и эта монография в несколько сот страниц называлась так, будто и себя самого автор подвергал анализу: «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».
«Укатали крутые горки», – покивал Афанасий Прокофьевич на дверь, за которой скрылась его заплаканная жена, но те же горки укатали и Щапова.
… Сутулый человек с мужицкой бородищей и горячими глазками выбился из бурсака, заеденного вшами, в профессоры Казанской духовной академии и Казанского университета. Негромким, незвучным баритоном, приступая невнятно, а затем увлекаясь и как бы высветлив голос, историк рассказывал о «русском тысячелетнем горе-злосчастье». Главный фактор истории, учил он, есть народ, и студенты отзывались восторженным гулом. А сереньким апрельским днем в церкви казанского кладбища, где студенты отправляли панихиду по мужикам, «убиенным во смятении», бунтовщикам, сраженным солдатскими пулями, профессор произнес речь о любви к страдающему черному люду, о необходимости конституции.
Любовь к страждущим не возбранялась, возбранялись конституционные мечтания. Щапова лишили кафедры. Он уехал в Петербург. Волга после паводка буро вздулась. Афанасий Прокофьевич, стоя на корме парохода, грустно махал шляпой – студенты, налегая на весла, провожали Щапова.
В Петербурге он мог писать, и он писал. Печатать? Это уж от него не зависело. Ему было скверно, жутко. Щапов думал о том, что вот и его, историка, обманула история.
Как многие, он полагал, что смертью Николая Первого началась новая жизнь: «Скажу наперед, не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на университетскую кафедру русской истории». Говорили, что молодой профессор – ему было тогда тридцать – ярким лучом прорезал умственный мрак. Петербург придавил Щапова гранитом государственности и централизации. Тысячелетнее русское горе-злосчастье продолжалось.
От запоев лечился он в клинике Боткина. Соседом лежал Помяловский. У них была одна палата и одна судьба. Щапов угадывал в Помяловском душевную мягкость и беспокойную нервную силу. Заливистый смех Помяловского, тот смех, о котором говорят, улыбаясь, «ну, дитя, чистое дитя», смывал угрюмость Афанасия Прокофьевича.
Помяловского, автора «Мещанского счастья» и «Молотова», навещали герои его повестей, те, кого называли интеллигентным пролетариатом. Щапова навещала бледная, круглолицая девушка с медленной, вдумчивой речью. Сирота Оленька выросла в доме своего дядюшки, василеостровского протоиерея. Она владела французским, зарабатывала переводами. Помяловский величал ее Ольгой Ивановной, уважительно повторяя, что она отнюдь не кисейная девушка. (Выражение «кисейная девушка», придуманное Помяловским, очень нравилось Щапову.)
Афанасий Прокофьевич ревновал Оленьку к невидимкам-соперникам. Ревновал по-юношески бурно и по-бурсацки грубо. Закусив губу, она пережидала вихрь. Покаянно утихая, Щапов убеждал себя, что своими выходками, которые ни в какие ворота, он преследует лишь одну цель: показаться бедняжке в самом неприглядном виде. Пусть Оленька знает, сколь он несносен. И это трезвым! А во хмелю… Во хмелю он бывал невозможен, мучился этим, но всегда задним числом… Так вот, зачем же ему губить такое милое, чистое существо? Оленьку-то Жемчужникову зачем же ему губить? Дядюшка-протоиерей называл племянницу Жемчужиной… Щапову ли, бедняку без будущего, коли не считать будущим отправку на родину, в Сибирь, предлагать ей руку и сердце? Нет у него нравственного права на такую Жемчужину. А вдруг у нее-то вовсе и не любовь, а увлечение, смешанное с милосердием, хотя ведь любовь и есть милосердие, но не одно ж милосердие… Он совсем запутывался.
Все распутала Оленька. И, распутав, связала. Едва известили Щапова о выдворении из столицы, она своим медленным голосом объявила негромко и твердо, что едет с ним куда угодно.
В университетских городах не было места профессору Щапову. Сыну пономаря и бурятки, уроженцу верхнеленской Анги, было велено жить в Иркутске.
Там и поселились они: Жемчужина и ее Шоня – Оленька звала мужа Шоней, как звала в детстве покойница-мать, не получалось у нее Афоня или Фоня, уменьшительное от Афанасия, а выходило – Шоня да Шоня…
Первое время Щапов не то чтобы унывал, нет – изнывал. У-у, это иркутское общество: обжорливые обеды, картеж, китайщина семейной обрядности. И эти бесконечные «рефераты»: накануне рождества про обновы; в пост великий – о базарных ценах на редьку; по осени – много ль впрок груздей насолено и варенья варено, а на зиму глядя – достанет ли гусей да уток к праздникам, к свадьбам… Господи, воля твоя, изнывал Афанасий Прокофьевич, окаянная родимая сторонушка.
Он припадал к чарке – единственное средство мгновенного изменения подлунного мира. Толпились замыслы литературные, географические, этнографические. Завтра же он приступит к их осуществлению. Поутру, да-да, непременно… И занималось утро. А в низенькой горнице шаром покати. И табаку на одну закурку. И дрова на исходе, и в мелочной лавке долг, как ядро на ногах, и опять почта не принесла ответа из питерской редакции, на Оленьку стыдно поднять глаза… Пропади все пропадом. Единственное есть средство минутного забвенья горьких мук. Но уже не набегали, не теснились замыслы литературные, географические и этнографические, глохли они и гасли в сизом сумраке… Права, видать, Оленька, права Жемчужина: «Умный ты, Шоня, умный, да много в тебе бурсацкого ».
Оленька ломала ль в отчаянии руки? Он этого не видел, а видел ее бледное, скорбное личико с закушенной губой. Он кричал, что она гибнет из-за него, кричал, чтоб уезжала в Питер, дядюшка добёр, примет племянницу. У нее и в мыслях такого не было, и он это знал. Потому и ногами топал. И, сокрушенный, падал на колена: «Не буду, родная!» Она говорила медленно, вдумчиво: «Верю».
Не крест она несла – жизнь волокла, как волокушу. И стряпала, и белье мыла, и на медные деньги частные уроки давала, и девиц учила в гимназии, и от Шони копейку убирала, и для Шони выборки из книг делала. Когда он работал, сидела рядом, неотрывно следила за пером его, придвигая к свече листочки с цитатами.
Она говорила: «Верю», и ее вера переломила Щапова.
Одолевая нехватку литературы и стараясь не отстать мыслью от того, чем жили люди за тыщи верст от Ангары, он сотрудничал в «Отечественных записках». Но ему нужна была очная аудитория, Щапов стал читать лекции в Сибирском отделе русского Географического общества, – в крепком рубленом особняке надежно и спокойно пахло могучими кедровыми бревнами. И вот ведь что оказалось: в окаянной родимой стороне нашлись слушатели – яблоку негде упасть, даже и здешнему яблоку, величиною с грецкий орех.
Капитальное оставалось: наша твердыня – черный народ. Но именно здесь, в Иркутске, отбиваясь от долгов, от разъяренной попадьи, огрузая в нищем быте, здесь, при свечном огарке, согретый дыханием бледной, усталой женщины, здесь-то этот скуластый, круто седеющий ссыльный с мужицкой бородой и бурятскими угольками-глазками провидел нечто почти космическое: «Надобно, чтобы и крестьяне, фабричные и заводские рабочие, каждый в сфере своей работы, были физиками, математиками, химиками, технологами, механиками… Только тогда наука и жизнь, знание и труд, практика и теория пойдут рука об руку… И научно-рабочий интеллектуальный класс не будет кастовым, цеховым, отрешенным от народа меньшинством, а будет всенародной интеллигенцией…» В особняке, где пахло кедровыми бревнами, в серьезной и сосредоточенной тишине зала говорил Щапов об окаянной, каторжной родимой стороне: в грядущую пору братских общин-ассоциаций честь будет ей и место.
* * *
Когда Лопатин пришел к Щаповым, Афанасий Прокофьевич как раз готовился к очередному чтению в Географическом обществе. А мерзавка попадья лишила его душевного равновесия. Герман равновесие вернул: ироническая ссылка на обыкновение лондонских домохозяев означала, что бывают обстоятельства и вовсе безвыходные.
Лопатин загодя решил открыться Щапову. Не потому, что во всем Иркутске у Германа ни души не было, и не потому, что он не сомневался в надежности Афанасия Прокофьевича, а потому, главное, что надеялся на его осведомленность: надо было скоропалительно выяснить – где поселили Чернышевского?
Герман, впрочем, медлил сказать: прибыл, мол, за Николаем Гавриловичем. Но и болтать о пятом-десятом было неловко. А Щапов наводящих вопросов не задавал. Выходило как по колдобинам… Щапов спросил, не пришлось ли Герману Александровичу задержаться в Казани, в городе, где он, Щапов, знавал лучшие времена.
Лопатину случилось бывать в Казани еще за восемь лет до путешествия из Петербурга в Иркутск. Ехали тогда пароходом, Герману было семнадцать, он кончил гимназию, отец повез его в Питер, в университет, хотелось показать сыну города своей молодости, Казань и Нижний… Щапов слушал, ткнувшись бородой в ладони, отчего борода частью задралась, а частью подмялась, и Афанасий Прокофьевич сильно смахивал на лешего с балаганных подмостков широкой масленицы. Он слушал рассеянно, пока не услышал: «Ешевский»… Оказывается, батюшка этого Германа Лопатина, учительствуя в Нижнем, преподавал словесность и Ешевскому, и Бестужеву-Рюмину, будущим профессорам истории.
– А-а, вот как, вот как, – молвил Щапов. – Что и говорить, Ешевский строгий ученый, я ему многим обязан… – И как посветил Герману угольками своих черных маленьких глаз. Потом сказал: – А положа руку-то на сердце, ни Ешевскому, ни Рюмину, ни мне нипочем не сравниться… Бывали у меня и споры и разногласья с ним, а руку-то на сердце – нипочем не сравниться… – И, не отнимая ладоней, выставив бороду, Щапов произнес:
I день iде, i нiч iде.
I, голову схопивши в руки,
Дивуешься, чому не йде
Апостол правди i науки?
Лопатин мгновенно понял, кого имел в виду Щапов, но, поняв, потерялся от внезапности натиска и потому спросил, чьи, мол, стихи?
– Шевченки, – вздохнул Афанасий Прокофьевич. – Тут Бельцов есть, полковник, во всей армии второго не сыщешь: честнейший и добрейший. Он с Шевченкой когда-то дружил.
– Да, – сказал Герман, – апостол правды.
* * *
Минули месяцы, жарко и светло горело лето, а Герман все еще мыкался арестантом жандармской гауптвахты. Место, что называется, определили. Да сам-то себе не находил он места. Особенно с той поры, как Щапову дозволили передавать ему газеты.
Московская почта – тугие кожаные мешки, похожие на цибики чая, – приходила в Иркутск ежедневно, а почта невская – дважды в неделю. Развернув газетный лист, Лопатин наливался яростью: в такие дни прозябать за решеткой!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?