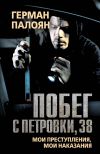Читать книгу "Соломенная Сторожка (Две связки писем)"

Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
«В письме моем, – разъяснял арестованный, – с совершеннейшею ясностью выставлены мотивы, побудившие меня к отъезду за границу. Я пишу, что уезжаю не с целью занять место между русскими эмигрантами где-нибудь в Женеве, не с целью конспирировать за границею против русского правительства, а просто потому, что подневольная жизнь в Ставрополе опротивела мне до последней степени. Я совершенно не привык и не желал долее сидеть в Ставрополе, как собака на цепи, лишенный права свободно располагать собою и не стесняясь высказывать свой образ мыслей. Конечно, я с гораздо большим удовольствием предпочел бы ехать легальным путем, если б не был уверен, что мне откажут».
Господам жандармам нужна правда? Они получат правдоподобие. А правда, его правда не для господ в голубых мундирах… В ту буранную ночь, когда студент-москвич сказал Герману про убийство Иванова, в ту долгую ночь, когда Герман курил и курил в потемках, а жандармы запрягали коней, в душе его резко и разяще отозвалась строчка: «Ты для себя лишь хочешь воли». Старый цыган осуждал Алеко, да Пушкин-то вроде бы и не осуждал, и эта строчка не звучала для гимназиста Германа так, как прозвучала буранной ночью, – беспощадно и уничижительно. Он вспомнил Ниццу, террасу, вспомнил Герцена, похожего на Сократа, багровую отметину на переносице, и все это вспомнилось лишь оттого, что Герман как бы внезапно, неожиданно для себя осознал сказанное Герценом в осторожном и трудном раздумье: громадные катаклизмы выжигают нравственность, как рощу… Что-то в этом духе, что-то в этом смысле было сказано, да он, Лопатин, словно бы и не придал этому особенного, корневого значения, нет, не придал, миновал не оглядываясь. И вот даже и не то чтобы вспомнилось – факелом начерталось… А Иван Иванов, уронив мертвую голову, ждал…
Караульные начальники видели в штатском арестанте жертву произвола голубых офицеров, коих за офицеров не считали. Караульных начальников назначали в очередь из гарнизонных, и они вовсе не лезли в тюремщики. Господину Лопатину охота встречаться со своими родственниками без свидетелей? Желание естественное. И поверьте, господин Лопатин, мы не унизимся до подслушивания. Господину Лопатину желательно навещать госпожу фон Нейман? Поверьте, никто из нас не прильнет к замочной скважине. Русский офицер служит государю и отечеству, а не прислуживает ябедникам. Вот тут однажды один из этаких, получив повышение, угощал прощальным обедом губернских шпаков, выпито было изрядно; подали лошадей, стали прощаться, ну-с, разумеется, объятия, поцелуи, а губернского прокурора и прорвало: «Чего прешь… твою мать? Буду я со всякой шпионщиной лобызаться?!» Так вот, честь, знаете ли, не позволяет состоять в любви со всякой шпионщиной.
И когда арестант, бывший чиновник для особых поручений, отправлялся на свидание с г-жой Нейман, никто из караульных начальников не кричал: «Караул!» Герман преспокойно уходил на Театральную, благо рукой подать, мимо весело освещенного, как всегда на святках, Дворянского собрания. Возвращался, случалось, и за полночь.
А вдруг и не вернулся. Вышел вечерком подышать свежим воздухом. Морозило некрепко, вызвездило ясно, мела поземка, он и гулял близ гауптвахты. Гулял да и улетучился. Кинулись на Театральную, Нина Александровна широко раскрыла глаза: нет, нет, что вы… Она не лгала: нынче и вправду Герман не показывался. Но она знала, где он. Не на Театральной, а в Подгорной слободе – в мазанке отставного кавказского солдата Кузьмы Косого.
Кузьма Терентьевич Косой и беглец Лопатин верили твердо: поляки-квартиранты, Казимеж и Юзеф, нипочем не выдадут.
Все было условлено загодя. Оставалось набраться терпения и ждать, когда угаснет рвение розысков. Ждать и слушать мерное гудение печки. Ждать и слушать длинные повести славного Кузьки Косого, заросшего седой щетиной.
Кузьма Терентьевич был кавказским солдатом. Служил он под командой генерала Горского. Утвержал горделиво: их превосходительство храбрости были отчаянной, нижним чинам – отец родной, хозяин рачительный, может, и не Ермолов, да около того. На излете своей солдатчины Кузьма Терентьевич был приставлен дядькой к генеральскому сыночку Костеньке.
К этому махонькому прилепился он душой, казалось бы давно иссохшей, как степная трава в июле. И вот, видишь ты, ожила, будто от ржавчины освободилась, так и просияла. Да вот пришла беда – отворяй ворота: помер генерал, и все вразнос пошло-поехало. Именьев не имелось, сбереженьев не сберегли, нараспашку дом держали. Беда. Вроде бы сам государь повелел тогда определить Костеньку в Пажеский корпус: за воинские заслуги папеньки. То-то бы обернулось славно, когда бы Константин-то Миколаич в пажи вышел, а? Ну, гоголь бы, кум королю, а? Так нет, не судьба. Опекуны рассудили: куда, мол, в Пажеский, меди бы достало гимназею кончить. Повезли Костеньку в Ярославль, к родственнику. А он, Кузьма, встал на постой в Подгорной слободе, выходит, будет ему вечный упокой здеся, в Ставрополе. Вот как все обернулось.
Теперь, видишь ли, Константин Миколаич учится в первопрестольной, там, видишь ли, школа живописи заведена, а ему, Кузьме Косому, все это сомнительно, потому как будь жив генерал-покойничек, так, пожалуй, и не попустил он сына на такое дело.
В старом ранце с медным орлом (Кузьма Терентьевич аккуратно драил двуглавую птицу мелом, истолченным в порошок), в старом ранце хранилось то, что он называл цедулечками. Продлевая удовольствие, извлекал не больше одной и просил Лопатина зачесть вслух, хоть и давно все назубок вытвердил. Нет, надо послушать, он даже и ладонь к уху приставлял. Лопатин читал медленно. Кузьма Терентьевич сидел прямо, не шевелясь, на грубом лице его, заросшем колкой седой щетиной, возникало выражение завороженно-детское и вместе как у старой няньки, жаждущей не только приласкать, а и приласкаться.
Цедулечки были поздравительные – с рождеством, пасхой, именинами, с пожеланиями здравия и благополучия, с извинениями за то, что нет никакой возможности пособить своему дядьке хоть малыми деньгами. Но не эти извинения трогали Германа, а то, что все было писано раздельными печатными буквами и так же раздельно и крупно подписано: «Константин Горский», – и Герман думал, какой этот Константин Горский хороший малый, не отписывается, а пишет так, чтоб старик разобрал…
Все эти январские дни поляки-квартиранты несли караульную службу. Несли куда бдительнее, нежели гарнизонные офицеры на главной гауптвахте. Проводив Кузьму сторожить библиотеку, Казимеж и Юзеф, чередуясь, не смыкали глаз до утра, прислушиваясь и выходя во двор, заметенный снегом. Пан Герман мог спать спокойно.
И он спал спокойно. Ему бы полагалось мучиться бессонницей, а он спал. Черт дери, обнаруживались запасы терпения, казалось бы неисчерпаемые. Он не имел права на риск. Рисковать означало бы: «Ты для себя лишь хочешь воли…» Был долг. Была надобность действовать наверняка. И он ждал. Ждал, когда иссякнет рвение розысков и ему сообщат, что оно иссякло. Сообщат не колеблясь, без всяких «но».
Соловая лошадь и черная бурка, кинжал, револьвер, документы, деньги – все было наготове у Нины Александровны фон Нейман. Мысль о Нине сливалась с чувством вины. Ей хотелось уехать вслед за Германом. И не потерять след Германа. Он твердил самому себе: если бы не обстоятельства… Твердил смущенно, зная, что это не так. Не обстоятельства, не сознание долга, не в том крылась суть. Однако подсудность свою Герман отбросил бы негодуя. Предательство? Измена? Дамы и господа, если что-либо решительно неподвластно каждому из нас, так это приливы и отливы любви. О, высокая и нежная признательность, никогда, никогда, никогда не забудет он Нину фон Нейман. Да-да, высокая и нежная признательность, но этого, увы, недостаточно для любви… И все же было смущение, было чувство вины перед Ниной, в такие минуты охватывал порыв: скорее бы.
Но Герман ждал.
У него не было права на риск.
… Широким галопом пустил он коня, и пошла соловая, пошла родимая, мягко и ровно опуская копыта на мягкий, заснеженный шлях… Спокойно, малый, спокойно, гляди не задохнись от счастья.
Широким галопом пустил он коня, гикнуть хотелось и засвистать в три пальца. Были ночи, степь, звезды. Спокойно, малый, спокойно, только бы добраться до Ростова… До Ростова добраться, до Ростова добраться… А там уж дорога железная… Там уж дорога железная…
* * *
Несколько месяцев спустя он увидел лощеную Женеву. Была теплынь, окна распахнуты, слышалось бойкое фортепиано, пахло имбирным пивом, свежими розанчиками.
В доме Огарева горничная доложила барышне, что ее спрашивает какой-то русский, и дочь покойного Герцена, Наталья Александровна, по-домашнему Тата, выйдя из комнат, вопросительно подняла на Лопатина серые внимательные глаза.
Он поклонился улыбаясь. «А вы, вероятно, меня не узнаёте…» – и весело амнистировал Тату: «Что и толковать, два с лишним годика прошумело».
Еще не отчетливо признав Германа, она расслышала запах осеннего моря и осенних цветов – там, в Ницце, этот Герман был совсем оборванцем… И, глядя на него своими серыми внимательными глазами, Тата быстро проникалась симпатией, чувством почти родственным, и, боже мой, как это было отрадно после поездки в Ле-Локль.
III
Огарев был последним, кому Герцен, перед смертью, написал несколько слов. Огарев был первым, кому Тата написала о кончине Герцена.
Николай Платонович любил детей покойного друга. Тату особенно. В Тате, говорил ему Герцен, обитает наш дух. Четверть века назад родилась эта девочка в арбатском особнячке, мороз был и солнце. В девочке повторилась ее мать, Натали. Умирая, Натали завещала мужу: «Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная». Несообщительная? Вообще-то, должно быть, так, но только не с ним, Огаревым. Он тихо и умиленно радовался Татиному приезду к нему, в Женеву.
Николай Платонович жил под ласковым присмотром Мэри. Падшая женщина? Они сошлись давно, в Лондоне. Мэри была бесконечно признательна Огареву и за себя, и за неродного ему сына, но бедняжка Мэри… Совсем, совсем не в том дело, что Мэри, как и он, держала стаканчик в исправности, ничего худого в том не было; напротив, – «выпьем, добрая подружка…». А Тата… Сквозь табачный дымок, сквозь дымку времени Огарев смотрел на Тату, ловил в ее чертах черты Герцена, видел в серых глазах, так похожих на глаза ее матери, отблески былого, когда все они были молоды, и Огареву чудилось: сейчас войдет Герцен, коренастый, румяный, в хлопьях и звездочках быстро тающего снега, и послышится эта медлительная московская речь, мягкий, иронический смешок…
Тата еще не решила, останется ли она в Женеве или вернется в Париж. Не в этом было главное, хотя она и сознавала, как необходима Огареву. Главное было в другом: «К чему я на свете?» Отец внушал: помни, что в наше время нет серьезной собственности, кроме той, что основана на работе. В натуре старшей дочери он обнаруживал складку литературную. Она владела и кистью. Дар был, дар недюжинный. Но была ли работа? Отец судил сурово: мы все вполовину разбиты, развращены и парализованы, ибо у нас есть наследство, есть рента – и отсюда некая расслабленность. Она это понимала. Но повседневной работы не было: отсутствовала потребность, подчас мучительная, возделывать свое поле, сколь бы мало оно ни было и какие бы бедные всходы ни давало.
Герцен надеялся на свою Тату: ты – наша продолжательница. Это смущало, но, честное слов, она хотела бы приобщиться к тому, что отец называл русской деятельностью. Она чувствовала себя самой русской из всех его детей, выросших на чужбине…
В Женеве она встретила Нечаева.
Тата знала, что этот Нечаев претил отцу. Отец сердито ворчал на «старичков» – на Огарева с Бакуниным – за горячую поддержку человека со змеиным взглядом и резней на уме; она помнила отцовское: этот малый натворит страшных бед. Знала и то, что Нечаев бежал из России после убийства Иванова, мерзавца и предателя.
Он пришел и, не застав Огарева, дожидаясь его, нетерпеливо прохаживался, дробно нажимая на каблук и будто не замечая Тату. Облокотившись на каминную доску, она молча наблюдала за ним. Он был в черном глухом сюртуке и в синих очках, надетых, вероятно, ради секретности. Потом, тяготясь молчанием, Тата осведомилась, что нового в России. Нечаев поворотился:
– Разве интересуетесь?
– Конечно, ведь там опять аресты…
Он усмехнулся:
– Вы-то, чай, давно из России?
– Давно. Мне год был, когда мы выехали.
– Ну, так чего уж там, – небрежно отмахнулся Нечаев и, услышав голос Огарева, без церемоний вышел из комнаты.
Оригинальный и чисто русский, подумала Тата. Подумала так потому, что встретила его не в России, не среди русских, и ее впечатление было какое-то стороннее, иностранное.
Коль скоро Огарев с Бакуниным и Нечаевым озаботились возобновлением умолкнувшего «Колокола», коль скоро они были поглощены общими делами, Тата оказалась в круге бдительного нечаевского дозора.
– Послушайте-ка, Наталья Александровна, – обратился он однажды к ней тем повелительным тоном, каким с нею никто никогда не говорил. – Вы, слыхал, недурно рисуете?
– И что же?
Нечаев снял темные очки.
– Вот, стало быть, так. На одном рисунке: толпа мужиков – кто с топором, кто с вилами, кто с косой, а кто и просто с дубьем. А впереди молодой парень, ворот расстегнут, волосы дыбом: показывает мужикам на солдат, кричит: «Братцы, не бойсь!» А тут – поп. И этот поп бьет его крестом по голове… Понятно? – И, не дожидаясь ответа, продолжал так же быстро и повелительно: – А другая прокламация с таким рисуночком: на холме дом господский, колонны, сад, все как водится, а к дому крадутся мужики, сейчас – подожгут.
– Помилуйте! – воскликнула Тата и повторила отцовское: – У вас, Сергей Геннадиевич, одна резня на уме. Нечего подбивать мужиков на убийства, поджоги, в народе и без того огромный запас ненависти.
Глядя на Тату в упор, он ответил, что ненависть свята, приходят сроки возмездия, что все средства революции хороши, что только неженки и тунеядцы чураются, умывают руки.
Тата попятилась: «Это ж иезуитизм».
– Конечно! А они-то, иезуиты, умные были, ловкие. Нам бы все их правила взять да и действовать. То есть цель-то другая, совсем другая, а правила-то, что ж, правила сподручны.
«Умывает руки… Сподручны». Она не могла определить, поражена она или испугана? «Умывает руки… Сподручны…» Слова эти будто выскочили вперед изо всего, что произнес Нечаев, и она смотрела на его руки с розовато-белесыми скобчатыми шрамами.
Перехватив этот взгляд, Нечаев буркнул:
– Пустяки. Не ваше дело.
И ушел не прощаясь.
Вечером Тата пересказала Огареву дневной разговор с Нечаевым. Огарев благодушно улыбался. (Тате, освещенной его улыбкой, его благодушием, подумалось или вспомнилось: из-за всех туч Огарев выходит ясным месяцем.) Называя Нечаева так же, как называл Бакунин – наш бой, наш мальчик, наш тигренок, – Огарев рассуждал в том смысле, что великая отрешенность от всего ради дела многое искупает в человеке, что тигренок, случается, хватит через край, это от безоглядной жертвенности, а в практике, успокойся, Таточка, успокойся, ничего иезуитского, хоть и ссылается на иезуитов, у него ни грана пошлости, а вот ты, милая Таточка, еще не научилась разбираться в людях.
– Разбираться в людях? – Тата, улыбаясь одними глазами, намекающе смотрела на Огарева.
– Ладно, – усмехнулся Николай Платонович; намек был понят – это ж ему, Огареву, говаривал Татин батюшка: ты, брат, в людях мало понимаешь, провести тебя ничего не стоит. – Ладно уж, – повторил Николай Платонович, и они оба рассмеялись, так хорошо рассмеялись…
А Нечаев с того дня запропал.
Его искали агенты, присланные Петербургом, разыскивали и швейцарские полицейские. Приняв одного эмигранта за Нечаева, арестовали беднягу. Признав ошибку, извинившись, выпустили. Но отныне и младенец сообразил бы: Нечаева не считают политическим преступником, а считают уголовным убийцей, за ним охотятся, и, коли поймают, северный медведь задерет Сергея Геннадиевича.
Тата испугалась. То было сострадание, естественное сострадание, да. Однако ощутилось и нечто смутившее Тату. Какое-то особенное расположение к Нечаеву, возникшее словно бы наперекор его невозможному тону. Она встревожилась. И это смущение, эта тревога заставили Тату не отказываться от посещений укромной улочки в квартале Сен-Пьер, где скрывался сербский подданный Стефан Гражданов. О, конечно, во исполнение просьб Огарева или откликом на зов Бакунина. И потом – уверяла она себя – ей просто приятен флер таинственности, когда идешь по засыпающему городу и должна следить, не следят ли за тобою, и приходишь к дому, увитому плющом, видишь непроницаемое, плотно занавешенное окно, стучишь условным стуком, в приоткрытую дверь скользит луч света, ты шепчешь пароль, и тебя пронизывает сквознячок конспирации.
У Нечаева она всегда заставала Этну Ниагаровну – так покойный отец величал, бывало, могучего, голосистого, многоречивого Бакунина. Тата видела, что он ближе, короче, теснее с Нечаевым, нежели Огарев, и это вызывало у нее легкую обиду за Николая Платоновича, единственного в мире и лучшего в мире. А в интонациях Нечаева нет-нет да и проскальзывало усмешливое отношение к старику, и тогда она опять испытывала к Нечаеву холодное отчуждение.
Оба – Бакунин с Нечаевым – твердили: вы должны быть с нами, как дочь своего отца. Но она-то знала: отец отказывался поддерживать Нечаева. Хорошо, она готова надписывать конверты, пакеты, бандероли, франкированные и нефранкированные, лавиной низвергаемые на Россию, просто диву даешься, откуда у Нечаева столько адресов. Хорошо, на это она согласна. Но вот же какая гадость, низость какая – и это! это! предложил ей однажды не беспардонный Нечаев, а Бакунин: большую пользу, сказал, может принести нашему делу красивая женщина. Она не поняла: какую? И Бакунин не постеснялся: а вот, говорит, оглянитесь, сколько мужчин-то богатых, кружите им головы и заставляйте давать деньги на революцию. Он не шутил, нисколько не шутил. Выходит, им мало иезуитов от революции, подавай-ка еще и куртизанок от революции?
Они возобновили «Колокол». Огарев уверял: продлись дни Герцена, он непременно отменил бы свой приговор и «двум старцам», и «мужественному юноше». Отменил бы? Быть может, быть может, но она, Тата, не намерена выставлять свое имя на листах этого, нынешнего «Колокола».
– Никогда! Ваш «Колокол» не имеет ничего общего с прежним. Никогда!
В ее пылком, негодующем «никогда!» Нечаев услышал что-то иное, не только о «Колоколе».
Он подступил к Тате с искаженным лицом и сжатыми кулаками.
– Никогда?
– Никогда.
Он яростно плюнул на пол.
– Кисейная барышня! Ни на что вы не годны!
Бакунин клубил папиросный дым.
– Ну, ну, тигренок, убери когти…
* * *
В эмигрантской среде толковали, что из Санкт-Петербурга прибыл в Женеву жандармский штаб-офицер. Прибыл, разумеется, в штатском, в новомодном, «умеренно-высоком» цилиндре и взял номер в первоклассной гостинице с видом на Монблан.
Нечаев исчез из Женевы.
На Татин вопрос, где он, Огарев пожимал плечами:
– А сам черт не знает где.
* * *
Он кочевал по долинам и дорогам Бернских Альп. Воздух был резок, зубы ломило, как от родниковой воды, и луна была резкой, и ночные тени; взмыленные потоки ныряли под мшистые акведуки; в тугих снопах солнечных лучей горели, не сгорая, стрельчатые витражи романских колоколен, а дальние глетчеры отсвечивали на закате оранжевым, фиолетовым, синим… Прекрасная страна? Нечаев будто и не видел ни акведуков, ни колоколен, ни глетчеров, ни альпийского сияния вершин. Вот и в Петербурге он будто б не видел ни Адмиралтейской иглы, ни млечных, слабой прозелени белых ночей, а в Петровском не трогала его ни Лиственничная аллея, ни дорога мимо пасеки к гроту, которую так любил Иван Иванов. И если здешние теснины теснили грудь, то не тоской, знакомой многим россиянам, – ностальгической, по открытому пространству, где дышишь вольно и глядишь светло, нет, другой – по времени, уходящему напрасно. И еще была тоска по женщине, которая приходила в одну из улочек квартала Сен-Пьер, она топала ногой, и после ее «никогда!» все летело вверх тормашками.
Друзья Бакунина и друзья друзей Бакунина давали Нечаеву стол и кров. Враги деспотизма, они прятали гонимого собрата, не зная о нем ничего, кроме того, что и он – враг деспотизма.
Его кочевье закончилось в Ле-Локле, близ французской границы. Дом стоял на краю местечка. Дальше уже было поле, за которым темнела маленькая железнодорожная станция. Дважды в сутки пробегал локомотив, вестник и эхо большого мира, потом тишина смыкалась и будто бы ничего во всем мире не было, только поле, дом и эта низкая комната с простой мебелью, занавески на окнах, и скатерка на столе, и постельное белье в крупную сине-белую клетку.
В Локле было безопасно, сытно, тепло, уютно. Проклятье! Жить добровольным ссыльным? И это ему, жгущему свечу с двух концов?! Он ждал известий от Бакунина. Но и Огарев, черт дери, тоже мог бы прислать либо письмо, либо гонца. А по правде-то, ветераны ветшают. Он, Нечаев, поддерживает в них душу живу, заверяя, что аресты не сокрушили «Народную расправу». Ложь во спасение, и старички должны быть благодарны. Конечно, их имена, их авторитет нужны: он, Нечаев, возродит «Народную расправу». Те, что пошли за ним в грот, пойдут в каторгу – карта отыгранная. Если и жаль, так это Петруху Успенского. И те, кто числился в пятерках, тоже ждут суда. А он, будь все проклято, торчит у окна и глядит, как мерцает, качаясь на ветру, станционный фонарь.
Невшательские часы стучали в низкой комнате с низким широким окном. Во втором этаже укладывались на покой хозяин с хозяйкой, оба горбатенькие, как гномы. Был милосердный запах сушеных лекарственных трав, совсем непохожий на тот плотный, коммерческий, что неизбывно держался в мастерской на Конной улице, но, странно, этот здешний навевал нездешнее: «Милые мои и дорогие бабушка и дедушка, я не переставал вас любить и помнить…» И Нечаев, вздохнув, тянулся к флейте.
Флейтой он одолжился у хозяина-горбуна. (У Нечаева в юности тоже была флейта, но не костяная, а деревянная. Играть он не умел, так, дудел-выдувал, неловко перебирая пальцами, и – чудилось: «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду, сидит ворон на дубу…» Дед кричал с подвизгом: «Перестань, Сережка! Перестанешь, что ли?!») Сжимая губы, он добывал резкие, сильные звуки верхнего регистра и будто прислушивался, не крикнет ли дед: «Перестань, анафема!» Нет, тихо, стучат невшательские часы. И вот не письмо – словно бы стон. И это Сергей Нечаев, обозначивший в «Катехизисе революционера» запрет на все нежности, на все, что не дело, это он, Сергей Нечаев, пишет: «Я в глуши, без писем, в неизвестности, я здесь измучился от тоски… Как бы хотелось мне вас видеть! Припоминаю все наши разговоры и, чем более вдумываюсь в них, тем более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запугал вас… Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью и несдерживаемой прямотой. Как бы хотелось мне вас видеть… Ради всего того, что вы по-своему считаете святым, не отнеситесь к этому горячему желанию еще раз видеть вас с какой-нибудь скверной задней мыслью. Не много у меня светлых минут в жизни, прошлое мое бедно радостями. Не отравляйте же и теперь подозрениями самое чистое, высокое, человеческое чувство. Не думаю, чтобы нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас настоящей женщиной. Причина страстной неотступности для вас ясна: я вас люблю».
* * *
В Невшателе, сумрачном городке, надо было до отхода поезда узнать точный адрес Нечаева.
Тата отыскала в тесном проулке крохотную типографию. У касс с литерами возился бородатый наборщик в синей блузе. Тата спросила, нельзя ли повидать хозяина?
Вышел длинный костлявый человек в черепаховых очках. Лицо узкое, бесстрастное. Тате подумалось: учитель арифметики.
– Что вам угодно?
Тата оглянулась на дверь и шепотом осведомилась, как и где найти господина Нечаева.
– Простите, мадемуазель, – сухо произнес типограф, – я такого не знаю. Вы, очевидно, ошиблись.
– А мне… Мне сказали, вы дадите адрес…
Типограф развел руками. Все было как в романе: ни один мускул не дрогнул на его лице. Но глаза из-за очков смотрели остро. Тата почувствовала себя шпионкой. Боже мой, ведь она помнила пароль, ей-богу, еще час назад помнила.
– Послушайте, – сказала она, – там какие-то цветы. Гиацинт? Да, да, гиацинт – первый, а дальше…
Он усмехнулся: бедняжка мучительно морщит лоб. Подсказал: «Рододендрон ».
И Тата зачастила как школьница:
– Гиацинт, рододендрон, эдельвейс. Вот, вот, видите, я вспомнила. Видите?
– Следует лучше тренировать свою память, мадемуазель, – менторски заметил типограф. И улыбнулся: – Такая юная, а уже заговорщица.
– Огарев просил отвезти рукопись, – скромно потупилась Тата. – Вот и весь заговор.
– А известно ль вам, что вы еще далеко от цели?
– Не-ет, – опешила Тата. – Как далеко? Я должна нынче вернуться домой, в Женеву.
– Это невозможно.
У Таты был вид человека, попавшего в ловушку. Типограф участливо взял ее руку.
– Не беспокойтесь. Я телеграфирую в Локль, вас встретят и проводят.
– Поймите, я должна ночевать в Женеве.
– Не беспокойтесь, – повторил типограф. – А в Женеву к ночи не вернешься: последний поезд уже ушел. Ничего, не беспокойтесь, я телеграфирую, вас встретят.
Господи, как объяснить этому арифметику, что она не может ехать в какой-то там Локль и провести ночь под одной кровлей с Нечаевым. Нет, этого она никак не могла объяснить.
Уже смеркалось, когда Тата оставила Невшатель.
Поезд часто останавливался, пассажиры выходили, вагон пустел. Тату все сильнее пробирала тревога, она жалела, что согласилась на просьбу Огарева, и сердилась на Огарева, который почему-то решил, что Нечаев скрывается в Невшателе. Тигренок, думала Тата, нет, убийца. Убил предателя, но ведь убил, убил. А старички мурлычут: наш мальчик, наш бой. О-о, какое легкомыслие: ехать на ночь к этому человеку.
В Локле, на крохотной приграничной станции, никто не встречал Тату. Острый транзитный ветер дул из Франции. Качался фонарь, удлиняя и укорачивая тени. Ей вдруг показалось, что она умрет от ужаса посреди этой ночи… Скользнули две тени, спросили о чем-то, она пролепетала: «Да, да»; услышала: «Идите с нами».
За полем, в темном шале́ блекло озарялось окно первого этажа. Отворилась дверь. В прихожей не было ни души, будто дверь отворилась сама. На верху винтовой лестницы возник гном со свечой, жестом пригласил Тату подняться. С каждой ступенькой ее колени слабели. Гном был безмолвным, как и те, исчезнувшие, проводники. Какие-то переходы, запах сухих трав и козьей шерсти. Гном сделал знак: стойте и ждите. И будто провалился. Какая нелепость, какая чудовищная нелепость… Ей показалось, что появился тот же гном, но то была карлица, махонькая старушка. Теперь Тата спускалась куда-то вниз, но вот карлица постучала в дверь, пальчиком указала – туда, мол.
Он бросился к Тате и стал целовать, она, ошеломленная, уперлась ладонями в его грудь, он отступил, и она увидела лицо Нечаева – счастливое, ликующее, потрясенное, измученное, совсем не такое, какое видела прежде, и мгновенная горячая жалость к нему, а вместе и радость за себя, за свое избавление от страха охватили Тату. Но вслух она сказала:
– Позвольте, с чего это вы?
– Но вы же приехали… вы же сами приехали ко мне, – потерялся Нечаев. – Ах да, ну, конечно, я опять вас напугал. Садитесь, садитесь! Небось голодны? Давайте шляпку, вот так. Садитесь. Ну, спасибо, вот спасибо, что приехали, ах, как это хорошо, что приехали… – Он суетился, руки его дрожали. – Тут такая тоска, такая тоска. Вы голодны, мы это мигом. Здесь хорошо, правда? Славно! Вы не пугайтесь, а то я вас, видать, напугал, а?
Тате бы остудить эту суетливую пылкость, Тате бы сразу сказать, что она приехала по просьбе Огарева, но Тата промолчала, захваченная врасплох жалостью к этому мальчугану. Она так и подумала: «мальчуган». Но этим же словом, не произнесенным вслух, внезапно и навсегда уничтожилась несколько экзотическая тяга к Нечаеву, которая подчас озадачивала и тревожила Тату.
А Нечаев как с горы летел, нес какую-то дичь о доверии, отношениях, чувствах, целовал ее руки, волосы, плечи, потом опрометью выбежал из комнаты: «Сейчас, минуту, вы голодны…»
Свеча горела на столе. «Ты играла в великодушие, ты кокетничала, а он…» – не слышала Тата эти слова, не подумала этими словами, а внезапно прониклась суровой укоризною покойного отца. Оплывала свеча в оловянном подсвечнике, в пламени с синеватой каймою то вытягивался, то укорачивался, страдальчески гримасничая, прекрасный лик сицилийца.
* * *
Это было во Флоренции, осенью прошлого года.
Герцен сказал: «Я еще такого чуда не видывал». Гибкий, как фехтовальщик, граф Пенизи приходил к ним на Piazza santa Felice. Музы сопровождали его, как Диониса. И клавишами, и струнами, и своими голосовыми связками он владел виртуозно. Пенизи писал сжатую прозу, в октавах Пенизи жил Торквато Тассо. На языке немецком, французском или английском он безошибочно избирал оборот, вплотную и вместе свободно облегающий мысль. Только ли Герцен не видывал такого чуда?
Но в судьбе Пенизи лежала роковая близость с судьбой Таириса, внука Аполлона. Если фракийского певца ослепили музы за его дерзновенный вызов на состязание в превосходстве, то Пенизи был слеп от рождения.
Герцен был не прав: «Ты играла в великодушие». Не так. Или не совсем так. Она не умела отвергнуть его любовь, ибо он был слеп. И опять не совсем так. Она была увлечена Пенизи, или, лучше сказать, ее увлекла его любовь к ней. Откуда было знать Тате, какой непомерной ценою расплачиваются порой и тот, кто сострадает, и тот, кому сострадают?
Пенизи предложил ей руку. Тата струсила, оробела, смутилась и… и не отказала. Недостало духу. Она понадеялась на постепенное охлаждение и попросила отсрочки. Пенизи покорился. Покорился искренне. И столь же искренне взбунтовался против своей покорности. Он загнал Тату в тупик: никаких отсрочек, решайте немедленно, сию минуту, сей же миг. Ей показалось, что его незрячие глаза пылают, она повторяла шепотом: «Простите… простите… простите…»
День спустя Тата получила записку: Пенизи писал, что застрелится, непременно застрелится. Тата поверила. Она не догадывалась, что самоубийцы не пишут извещения о самоубийстве. Она поверила, как верил и Пенизи. И тогда безумие на цыпочках подбежало к Тате и закружилось, и Тата услышала тонкий-тонкий рассыпчатый звон бубенцов.