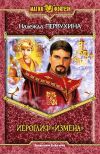Текст книги "Эпические времена"

Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ток
Горячим августовским полднем дедушка со своим успокаивающим «тпр-ру», чуть упираясь в землю каблуками серых от пыли чобот, накренив туловище назад и притормаживая вожжами, сводит с дороги к нашему подворью двух запряженных лошадей, а над их крупами и хвостами переливается, жарко пышет, важно переваливается с боку на бок… точно второе солнце. И отовсюду сходится и сбегается, чтобы на диво это полюбоваться, и взрослое, и малорослое наше соседство.
Мой самообман длится всего миг: за солнце принял я впопыхах пшеничные снопы, наваленные целой горой на арбу.
Солнце-то, вон оно, на своем месте, как стояло, так себе и стоит. А тут – снопы, арба, лошади… Не виноват же я, что снопы так сияют, так прыщут во все стороны колосьями и соломенными лучами? Просто я вижу эту сияющую гору у нашей хаты впервые в жизни (не догадываюсь только, что заодно уж и в последний раз).
Но, как почти сразу выясняется, люди совсем не к тому сбежались, к чему я из-за угла хаты выскочил. Что для меня еще какой-то миг назад было дивным дивом, то для остальных, оказывается, – страх, потеха, позорище.
Мимо чьих-то спин и ног пробираюсь на порожнее, вдруг оцепеневшее место. Лошади и арба застыли, не шелохнутся. И все люди замерли – с открытыми ртами. А дед? Схватив вилы наперевес, напрягшись, ссутулясь, в светлой взмокшей рубахе, он идет прямиком на бабушку. Она же, высокая, с бледным, как полотно, лицом медленно-медленно пятится от него, и мелко дрожащие острия вил вот-вот вопьются ей в грудь.
Спустя еще миг, под гулкий выдох толпы, она как-то обреченно оборачивается к вилам спиной. Вяло отмахивается рукой, шагает вбок, уступая деду дорогу, с которой до сих пор ни за что не хотела сойти.
Я и потом, уже повзрослев, так никогда и не решился спросить – ни у него, ни у нее – о причине той яростной вспышки дедова гнева, а заодно и бабушкиного всех ошеломившего упрямства. Видимо, пережитый мною страх слишком глубоко вогнал тот случай на дно детской памяти. Не спрашивал, возможно, еще и потому, что дедушка, всегда в моем представлении такой мирный, добродушный и покладистый в отношениях с бабушкой, никак не хотел совместиться в моем сознании с этим, нешуточно вооруженным вилами. Не спрашивал и у мамы. Ведь ее наверняка в толпе тогда не было, иначе бы я расслышал ее возмущенный крик или вопль.
Что там за повод такой возник чрезвычайный? Какие бы предположения не перебирать, а, скорее всего, мог тот единственный повод оказаться самым простецким, почти смехотворным.
Представляю, дед по солнцепеку идет пешком с поля рядом с тяжелой высокой арбой и неторопливо понукаемыми лошадьми. Вот, наконец, спускается с дороги к подворью. Вот напоследок остается самая малость – провести драгоценную поклажу между хатой и мастерской к месту, где уже заранее подготовлен ток – хорошо утрамбованная, ровная площадка земли, промазанная сверху для прочности глиняным замесом. Именно здесь ему удобнее всего, сноп за снопом, бережно скинуть поклажу с арбы – вблизи от тока, на котором и начнется – сегодня, под вечер, когда жар схлынет, или завтра, когда роса улетучится, – обмолот.
Это решение деда. На что бабушка возражает: арба с ее высокими ребрами – это тебе не телега, а сущая раскоряка, ее ни за что не провести между двумя стенами, не зацепив при этом хату, не обкорябав ее свежепобеленный бок и посиненные углы. Бабушкин довод: снопы свалить на спуске с дороги и оттуда дотащить на вилах или в руках, в оберемок, до тока.
Так было – не так? Но отчетливо помню: наша драбына тут же легко была отцеплена от помоста; дед безукоризненно ввел арбу в освобожденный проход, ни разу не чиркнув об стены ее ребрами. Только снопы густо и мягко прошуршали вдоль стен. Разгружать, как и задумал он, принялись рядом с током.
В тот же день и молотьба началась. Но это уже совершенно особое зрелище, даже действо. И для рассказа о нем мне надо здесь собраться с кое-какими мыслями.
Начну с того, что книгу эту начал я писать малыми долями еще много лет назад. Затяжной характер работы объяснялся не столько тем, что отвлекали от первоначального намерения другие дела, сколько навещавшим раз от разу сдерживающим предчувствием: как для повести своей, так и для смысла ее названия, найденного когда-то в одночасье, я по-настоящему всё еще не готов. Но что бы и как бы ни отвлекало от первоначального намерения, всякий раз, возвращаясь к начатому, я почему-то упорно оставался верен этому названию, избранному когда-то сразу же, без колебаний: «Эпические времена».
Да какие-такие эпические? Что это за времена особые, чтобы их так громко именовать?
Ответ мой, думаю, способен озадачить или раздосадовать своей якобы безответственностью. Потому что по моей хронологической примерке, ни для кого, конечно, необязательной, эпические времена – это, когда люди на земле молотили снопы цепами. Иными словами, деревянный цеп, с помощью которого крестьянин выколачивает зерна из колосьев жита, пшеницы или ячменя, – он и есть, в моем разумении, может быть, самое наглядное простое и достоверное указание на суть эпических времен человечества.
Один русский историк двадцатого века, не так давно умерший, сделал однажды настолько очевидное и удобопонятное обобщение, что каждый старшеклассник мог бы сегодня пересказать его вывод своими словами. Смысл обобщения в том, что люди многие тысячелетия жили на земле, почти не меняя своего быта, своих трудовых навыков, ремесел, средств передвижения, своих простых и мудрых способов изготовления и хранения пищи, типов своих жилищ, своих, пусть во многом и не совпадающих, верований в силу (или силы), которая несоизмеримо мощнее и мудрее человека.
И лишь совсем недавно (а кое-где уже на наших глазах) человечество будто сорвалось с места, с хряском вывалилось из всегдашней колеи (как сказали бы мои малороссийские деды: зъихало з глузду), то есть принялось с лихорадочным азартом менять, переиначивать облик и суть своего существования.
Намеренно не называю имя историка, потому что никакого персонального открытия в таком его обобщении, по сути, и нет. Ведь не успею я самым коротким способом пересказать смысл его наблюдения, как всякий читатель старшего из ныне живущих поколений мигом согласится с таким выводом и даже решит про себя: да что ж тут за открытие?.. такое каждому ясно…
Но в том-то и дело, что не каждому. Потому что не каждый достаточно силен в сроках этих чрезвычайных, происшедших на его веку или немного раньше перемен. А сроки, в которых умещаются перемены поистине планетарного значения, не могут не поразить своей прямо-таки жуткой уплотненностью.
Просто, от силы два последних поколения, живущих на земле в составе более или менее цивилизованных сообществ, до того успели привыкнуть к происшедшим переменам, настолько вжились в новый кокон существования, что им кажется: а разве не всегда было именно так? То есть всегда пшеничные поля обкашивались и обмолачивались самоходными комбайнами, а не допотопными косами и совершенно уж дремучими цепами.
Вот для острастки таких заблуждений самоупоенного цивилизованного сознания и нужны бывают остужающие и отрезвляющие сопоставления. Подручные, кстати, любому наблюдательному уму.
Ну, к примеру: сколько лет прошло с той весны, как на газонах больших российских городов или на приусадебных лужайках дач и деревень появились чадящие соляркой фыркалки, измельчающие траву в труху? Ну, лет десять, от силы пятнадцать. А старухе-косе сколько годков? Тысяча? Две? Три? Нет же, куда-куда больше.
Укомплектование больших парусников паровыми машинами в массовом порядке началось всего-то с середины девятнадцатого века. Но под парусами большие боевые корабли ходили уже во времена древнегреческих царей Агамемнона и Одиссея.
Самоходному комбайну от роду чуть больше полсотни лет. А вот деревянный цеп, состоящий всего-навсего из двух крепких увесистых палок, одна в средний рост мужской или женский, другая – в длину вытянутой руки, да еще прибавим прочную ременную полосу, крепящую одну жердину к другой, – этот цеп исправно выбивал зерно из колоса – сколько подряд тысячелетий? Да с той самой поры, как библейский Бог повелел Адаму и его потомству в поте лица своего добывать на земле пропитание. Ну, археологи уточнят, и на том им спасибо, что цеп всё-таки немного помоложе первых адамитов, что он еще не нужен был древним охотникам и пастухам великих стад. Что он – ровесник оседлого землепашца.
Такими вот оседлыми землепашцами и оказались в бессчетной цепи поколений мои деды… И лишь потому сам я, к счастью, застал и хоть краем глаза разглядел, на последнем их излете, зерна эпических времен.
Молотьба, на нашем маленьком току началась, действительно, в тот же день, когда дед Захар, таким чрезвычайным приемом одолевший бабушкино упрямство, провел гружёную доверху арбу на родное подворье.
Солнце уже поворачивало на запад, полуденный жар мягчел, когда начали готовиться к обмолоту пшеничных снопов. Понадобилось много рук – и женских, и мужских: развязывать тяжелые снопы, перевитые соломенными же перевяслами, выкладывать врассып освобожденные вороха на кругу тóка колосьями к середине. Тем временем дед из полутемного закута мастерской выносил на свет цепы собственного изготовления. Они там простояли или провисели без дела целый год, но он, догадываюсь, заранее проверил, всё ли в них на месте: нет ли заметных трещин и надломов в длинных держаках и коротких киях или билах, на которые и приходится вся сила удара по верхам снопов; нет ли глубоких трещин или разрывов в ременных гужиках между двумя коленами старинного, такого простецкого на вид орудия обмолота.
Если отсутствуют напарники, то приходится и одному человеку раз за разом махать цепом, выколачивая зерна из ощетинившихся колосьев.
Мне посчастливилось увидеть молотьбу настоящую. Не успел дедушка подступиться к току, как на круг вышло еще несколько мужиков, не помню, трое или четверо, но, кажется, из того самого соседства нашего, которое часа два назад ошеломленной толпой окружало свару дорогих мне людей. Соседи вышли на круг с такими веселыми и довольными лицами, как будто ничего худого накануне видом не видали – слыхом не слыхали.
И – началось. Первым, по праву хозяина, свой мах должен сделать дед Захар. Удар его била пришелся по самой гуще колосьев. Всё внутри нее охнуло, затрепетало, всколыхнулось. Опережая обратный лёт битка, будто сверкающие капли воды, прыснула вверх первая пригоршня зерен. И тут же, из почтения чуть отстав от старшего, ударил вторым цепом тот, что стоял слева от дедушки. И третий, и следующий, по кругу… А за ними снова дед. Этим вот чередом, будто подчиняясь ходу самого солнца, и полетело с места то, что я назвал действом. Оттого, что был задан такой согласный чин, цепы не схлестывались в воздухе друг с другом, каждый мгновенно уступал место очередному. Работой ли подобное парение назвать? Они молчали, как сговорясь, но дышали легко, не слышно было ни тяжелой натуги, ни один не попросил передохнуть, не вскрякнул. Да они, похоже, играли, с трудом скрывая от нас распиравшее их изнутри веселье! Они так старались ловкой и точной игрой своей заслужить молчаливое одобрение старшего.
А что в середине тока творится?! Ну, прямо какая-то пыхтящая воздушная каша! Будто живого места не осталось уже от колосьев. Прыщут во все стороны зерна. Вяло подскакивают опустевшие колосья, легкая чешуистая полова серебрится на солнце вперемешку с пылью. Острые обломки соломы будто с посрамленным писком выскакивают из-под битков.
Я щурюсь – от солнца, от летящей и в мою сторону половы, и вдруг представляется, что их, людей, уже не четверо или пятеро на кругу, что цепы теперь в руках и у бабушки с мамой, еще каких-то женщин, и что люди уже не стоят каждый на своем месте, а сами плывут по кругу, будто в каком-то величавом плясе, и, улыбаясь, мягко окунают свои била в само солнце, – не то, что над головами, а в то золотое, колышущееся, сверкающее тысячами искр, что плавится и взбухает перед ними на середине тока…
– Эгей!.. Досыть, – машет рукой дедушка. Все молотильщики замирают. Он делает широкий шаг вперед, нагребает горсть мелкого мéшева, пробует усмотреть в нем уцелевшие, не просыпавшиеся колосья. Кидает всё наземь, отряхивает ладонь о штанину. – Добрэ! Дивчата, а ну сгортайтэ зерно.
Дивчата – это бабушка, моя мама, ее старшая сестра тетя Лиза, – и она, вижу, пришла помогать, коренастая, босоногая, но с большими золотыми серьгами в мочках ушей. А где же Тамарка? Да вот же и Тамарка, тети Лизина дочь, моя вечно веселая сестричка! Притопала своими босыми ножками и тоже со всеми «дивчатами» кидается относить на сторону пустые пучки соломы, сгребать совками, метелками, просто горстьми в большие решета зерно, перемешанное с остьями. И я кидаюсь за Тамаркой и тоже успеваю положить в чье-то большое сито горсть, другую серых от пыли зерен.
Но мы с нею еще малы, чтобы пшеницу провеивать. Этим занялись бабушка с дочерьми, тоже в стороне от опустевшего тока, – там, где бабушка определила нужное им дыхание чистого вечернего воздуха. Накреняют решёта над широченным, как ковер, рядном, и тяжелые зерна ливнями льются на это полосатое рядно, а полову и пыль порывом ветерка отвеивает в сторону от растущей на глазах горки пшеничной. А если не всё за раз отвеялось, значит, снова с рядна пересыплют в решёта и опять их, подняв повыше, накренят… Вию, вию, повиваю…
Тамарка подбегает ко мне, хохоча, стряхивает с моей головы, с рубашки липкие чешуи половы, а я сдуваю острые остья с ее загорелых щек.
Она на два года старше меня, и ей нравится возиться со мной как с маленьким. Ну, и пусть. Я не сопротивляюсь, потому что… потому что это же моя Тамарка, и другой такой больше на свете нет.
А женщины уже расстилают новые развязанные снопы на очищенном от трухи кругу тока. И мужчины, напившись свежей воды прямо из ведра, поплевав на ладони, поднимают цепы, чтобы начать следующий чин молотьбы.
Наказание
Какая радость!
Бабушка Даша впервые разрешает мне самому отвести нашу Красулю в череду. Потому и разбудила раньше обычного, помогает одеться.
Конечно, я знаю, куда надо вести. Стадо собирается совсем недалеко от нас, напротив кузни. Бабушка просит, чтобы поверх рубашки надел куртку и нахлобучивает мне вязаную шапку на голову. Наклонившись, следит, как я копошусь со шнурками ботинок.
– На двори свижо, – говорит она, – и в нэби хмарно. Но всё равно мне весело. Я уже большой, если мне можно доверить проводы Красули в стадо. Бабушка сама выводит ее во двор, и корова тут же, не дожидаясь подсказки, заворачивает за угол и в проулке между двумя глухими стенами привычно чешется боком о нашу драбыну.
– На, дэржы, пастушок, – усмехается бабушка и протягивает мне хворостину. Это та самая хворостина, которая почти всегда стоит-скучает в коровнике, потому что Красуля и без принуждения по вечерам заходит с улицы на подворье, а утром, как я вижу теперь, тоже без понуканий спешит на улицу. Но я на всякий случай, догнав ее, взмахиваю прутом в воздухе. Хворостина свистит едва слышно. Не то, что хлыст настоящего пастуха. Но пусть животина знает, что это я сам ее сегодня поведу, и не вздумает свернуть не в ту сторону.
Красуля на ходу кивает головой вверх-вниз, будто хочет сказать мне: ну, махай-махай своим дрючком, если уж ты сегодня такой важный. Мы минуем три или четыре усадьбы, и мне чуть-чуть жалко, что никто из соседей нас не видит и не похвалит мое старание.
Но вот за чьим-то садом открывается поворот вниз, к кузне, напротив которой обычно, – сам видел, когда с бабушкой вдвоем туда ходили, – и собирают стадо на истоптанной до пыли луговине. Я сразу замечаю, что кроме двух пастухов между коровами снуют еще несколько хлопчиков, постарше меня. Но у каждого, как и у пастухов, сумки через плечо, а у иных и настоящие хлысты в руках. Значит, и они, в отличие от меня, не просто привели своих коров или овец в череду, но и поведут всё стадо дальше, куда-то за гору, – на целый немеряный день.
О, какая же удивительная жизнь должна открыться им на тех неведомых мне пастбищах, где в пахучих травах, наверняка, блуждают теплые ветряные шорохи, а между небом и землей не остается уже ни самой крошечной преграды! Вот, вижу, пастухи закончили пересчет всех коров, но прежде чем отправиться в путь, о чем-то шушукаются и поглядывают на меня.
– А ну, йды до нас, – озорно окликает меня один из хлопчиков. – Ты хто ж такий?
– Чого прысталы до нёго? Цэ бабин Дашин внучок, – говорит басом старший пастух, но на всякий случай спрашивает у меня: – Цэ ж ты Красулю у череду прыгнав?
– Ну да, я.
– А хочеэш з намы, на пастьбу?
– На цилый дэнь?
– На цилый день!!! – все вместе весело кричат обступившие меня пастушата. – Розвэдэм вогню, напэчэм картопли, яблук… Назбыраешь шиповныка, тэрэну для бабушки.
В ушах у меня звенит от восторга. И костер, и печеная картошка! И так хочется впервые вернуться домой с гостинцами.
Стадо уже оставляет место сбора. За ним трогается в путь и пастушья ватага. Я не слышу своих ног, так легко они поспевают за моими новыми приятелями. Лишь краем глаза замечаю проплывшую мимо крышу тети Лизиной хаты. И вот она уже внизу, а мы забираемся наверх, в гору.
Надо же! Я ступаю по той самой дороге, которую до сих пор видел лишь с подворья нашей хаты да со своего помоста возле горища, где дожидался появления на этой горе мамы и отца, идущих пешком от Чубовки.
Но вот стадо сворачивает с дороги вправо, а за ним и все мы.
Тут, сблизи, я без особого труда узнаю узкие коровьи, овечьи и козьи тропы, набитые и утоптанные до твердости в зеленом склоне горы, одна выше другой. Как не узнать, если я со двора дедушкиной хаты видел их каждый день, особенно по вечерам, когда стадо возвращалось в село из иной неизвестной мне земли. Как раз по вечерам эти тропы, проложенные одна выше другой, несколькими рядами, видны были особенно отчетливо – в свете вечереющего солнца. Тогда зеленая гора на глазах обрастала морщинами и напоминала лоб старой женщины или уставшего от солнцепека пастуха. В такую пору тропы выглядели до того ненадежными, что, казалось, в любую минуту какое-то из животных может оступиться, сорваться со своей дорожки и полететь вниз по склону. Но такой беды ни разу не случалось. Сколько бы вечеров я ни видел возвращение стада, не возникало ни одной оплошности, которая бы заставила тропы изменить своей всегдашней службе.
Теперь же, когда я сам шел по этой горе, по одной из ее троп, мне шаг за шагом открывалось: склон горы вовсе не так круг, чтобы корова или овца могли сорваться со своей тропы и полететь кувырком вниз. Кроме того, каждая из них была хорошо утоптана для спокойной неспешной ходьбы – не только для скотины, но и для человека. Тут не попадалось никакой ямины, в которую можно было упасть, ни одной кочки, об которую, зазевавшись, ты мог бы споткнуться. А расстояния между тропами были достаточны, чтобы коровы не задевали друг друга боками и не козырялись рогами.
Взрослых пастухов я потерял из виду, а подпаски передвигались одной общей радостной гурьбой. Вдруг я на миг остановился и глянул на село, оставленное нами. Отсюда без труда угадывалась дорога, по которой мы спускались от кузни. Я разглядел и саму кузню и, пробежав глазами через соседние усадьбы, без труда узнал наш двор, хату и дедову мастерскую с коровником, из которого мы совсем недавно выводили в череду Красулю. Оттого, что я сам сразу же разглядел издали родное подворье, неожиданно громко застучало во мне сердце. И так нестерпимо захотелось увидеть бабушку, – не стоит ли она возле хаты за каким-нибудь занятием!? Или дедушку, неспешно выходящего из мастерской?
Но никого не было видно. Я вдруг с каким-то обреченным чувством вспомнил, что ведь бабушка, кажется, просила проводить Красулю лишь до кузни. Но сказала ли она, что я тут же должен вернуться домой? Этого я никак не мог или почему-то не захотел вспомнить?
– Эй, ты чого там?.. Зажурывся?
– Ни… Я так! – Бодро откликнулся я и побежал за ними. Пусть не подумают, что у меня глаза на мокром месте от испуга, что так далеко ухожу без спроса.
А когда в следующий раз оглянулся на село, его уже не было видно. Зато перед нами, куда ни погляди, всюду светлело, зазывая своими холмами, вольное раздолье, пестрела обдуваемая воздушными токами травная паства. Коровы, позабыв о тесноте, без спросу разбредались по луговинам, и только овечки держались кучками. Я почему-то вспомнил про быка. Ведь должен же быть у череды и свой бык? Но его нигде не было видно.
Пастушата подались в сторону какой-то малой дубравки. Я расслышал, что они решили запастись хворостом для костра. Мне тоже захотелось поискать сухих веток для участия в общей забаве. Набрав сушняка, кто сколько мог унести, они выбрали для костра открытое место над спуском в низинку. Отсюда хорошо видно было всё стадо. Взрослые пастухи замерли поодаль один от другого. Я заметил, что стоят они с какой-то особой загадочной неподвижностью: чуть наклонив туловище вперед, опершись грудью на свои воткнутые наискось палки. Издали можно было подумать, что они оба стоя спят. Многие коровы свободно, без понуканий пастухов, укладывались на травных лежанках, но продолжали при этом жевать.
Ребята, став на колени, готовились развести огонь. Под кучу хвороста было отовсюду подложено несколько пучков сухой травы. Я тоже набрал мягкий пук травной соломы и передал вперед свою долю.
У одного из хлопцев в сумке оказались кресало и кремень. Он уверенно, одним коротким чирком, совсем как мой дедушка, высек искру из кремня. Бледный язычок огня почти тут же облизал комок ветхой травы. Два его приятеля прилегли совсем близко к костру и принялись громко, изо всех сил дуть, щурясь от дыма. В разных местах огонь пробился сквозь серую мглу. Хворостяная кладка вскоре совсем освободилась от дыма и весело, будто стая сорок, затрещала.
Пастушата повскакивали на ноги и тут же, по всегдашней, похоже, привычке, проверили его силу умыванием рук в прозрачных струях жара. Захотелось и мне подойти поближе и протереть ладони над невидимым огнем. Но почти тут же я их со смехом одернул.
– Ну и як воно?.. Пэчэ? – засмеялся кто-то.
– Пэчэ!.. Кусае… Боюсь запалытысь, – сознался я.
Ребята принялись вываливать из сумок на траву картофелины, яблоки, огурцы, ломти хлеба.
– Нэ спэшить класты картоплю, – подсказал старший. – Нэхай всэ прогорыть до вуглэй.
Наш костер заметно приседал. Но в трех шагах от него торчала еще целая гора хвороста, и народ кинулся подкармливать очаг новым топливом. Вскоре раздались еще более звонкие хруст и щелк.
– А чого мы тут стоим, як засватани? Давайте з горки кататысь! – предложил кто-то.
«А як?» – хотел я спросить, потому что еще ни разу не видел, как с горки катаются.
Но почти тут же этот самый хлопчик у всех на глазах лег на землю, с вытянутыми в длину руками-ногами, – над самым спуском в низинку, – и замер. Кто-то из стоящих рядом откатил его тело чуть назад, а потом подтолкнул вперед.
Оно быстро покатилось.
Не головой вниз покатилось, а боком, через плечи и прижатые к бокам руки.
Остальные со свистом, смехом и улюлюканьем наблюдали за тем, как их приятель, не сопротивляясь, послушным бревнышком катится-кувыркается всё дальше от нас, подминая общипанную коровами траву. Но вот внизу, где склон кончается, он замер, полежал совсем немножко и, вскочив на ноги, с радостным воплем понесся к нам наверх.
Я такого катания не видел еще никогда. Оно меня совсем не испугало, а, наоборот, восхитило своей простотой и лихостью. Как-то легко, даже не расспрашивая ни у кого из них, я догадался: если локти и коленки примешься растопыривать, то они помешают свободно скатываться.
Но неужели и мне дадут попробовать?
Когда хлопчик добежал до нас, на земле, с такими же прижатыми к туловищу руками и вытянутыми в струнку ногами, уже лежал следующий его приятель, – в ожидании, чтобы и его раскачали и подтолкнули вниз. До меня вдруг дошло: счастливые, у них тут во всякий день есть время для такой чудесной забавы!
Под крики одобрения второй катился, кажется, еще быстрей и дольше. И тоже внизу немножко полежал, прежде чем вскочить, подпрыгнуть на месте и помчаться в нашу сторону с кличем победителя.
За ним была очередь старшего – того, кто разжигал огонь. Но он сделал шаг вбок и весело подмигнул мне:
– Ну, як? Хочешь и ты попробуй?
– Давай, Юрко, нэ бийся! – поддержали его друзья. – Ты ж, кажуть, сын офицэра Червоной армии!
Эти слова про отца мигом вдохнули в меня решимость. Я шагнул на самый край склона. И начал укладываться. Кто-то поглубже нахлобучил мне шапку на уши, кто-то поднял воротник куртки… Чьи-то руки качнули меня в одну сторону и сильно вытолкнули в другую.
Я несся, кажется, с прищуренными глазами. Но когда движение остановилось, вполне открыл их.
Все передо мной со звоном мчалось куда-то, будто под сильным ветром, но в разные стороны: громадные клочья серого неба, зеленой земли, стебли трав, верх и низ – всё вперемешку. Я лежал, лихорадочно соображая: почему они, которые катились до меня, сразу не вскакивали на ноги. Они, значит, как и я, не могли сразу понять, где земля и как на нее прямо встать и тут же не повалиться снова.
Я закрыл глаза и лежал, кажется, долго. А когда открыл их, всё надо мной и вокруг уже успокоилось. Небо было на месте, тихое, мягкое. Земля лежала, как и положено, снизу. И я расслышал голоса сверху. Мне тоже захотелось не пешком пойти, а побежать на эти голоса. Но когда побежал, почувствовал, что земля еще не вполне затвердела, и что меня то в одно, то в другую сторону поводит.
К тому же на бегу мне пришлось отскочить в бок, потому что вниз теперь шелестящим комком несся наш старший.
– О-го-гой! – кричали и свистели ему вслед.
А меня, когда, запыхавшись, добрался до них, принялись звонко охлопывать по плечам, будто похвалить хотели:
– Ну, що? Як ты?.. Нэ вбывся?
– Ничого нэ вбывся!
– А ще раз хочешь?
Что-то во мне подало тихий робкий голос: «может, хватит тебе?» Но только что пережитый головокружительный восторг был куда сильней, и я смело лег на землю – в ожидании нового толчка.
Ну, почему вы ждете, не раскачиваете меня – в одну, потом в другую сторону? Почему замолчали, хлопчики мои радостные?
Жалящая, свирепая боль вдруг рассекает мое тело пополам.
Я не знаю, откуда она, за что?.. Со свистом вонзается в меня еще раз, еще… За что?
Боль в спине, в ногах настолько невыносима, что горло перехватила. Я даже завизжать не могу, лишь пытаюсь комком вжаться в землю.
Кто это, в черном обрушивается прямиком из хмурой пропасти неба?.. Чьи это седые космы вывалились из-под черного платка? Неужели эта свирепая старуха – она, моя бабушка Дарья?
– Ах, ты… – захлебывается она рыданием. – Злыдэнь ты бисов!..
Вижу: хлопчики расступились, опасливо поглядывают то на нее, то на меня. А от поля, от обмершего стада шкандыбает, позабыв про свою палку, пастух:
– Тетю Дашо, що потрапылось?
– Що потрапылось? – обрушивается на него бабушкин гнев. – У голови твоей дурний що потрапылось?.. Куды ты бэзглузду дытыну заманыв?.. Я ж його, дурня, по цилому сэлу шукаю… Хиба ж я кому дала таку волю – голодну дытыну… на цилый дэнь… в чэреду пустыть?
– Та я думав… – бормочет пастух.
– Нэ знаю я, Пэтро, чим ты там думав… – и, отмахнувшись от обиженного пастуха, бабушка опять оборачивается ко мне. И снова хлещет, но уже не так больно, по заднице хворостиной, – не той ли самой, что дала мне утром у коровника, да я ее, на радостях от предстоящего шествия, кинул где-то возле кузни. – А ты чого тут розлигся?.. А ну, марш до хаты!
Мне нестерпимо стыдно – перед этими хлопчиками, рядом с которыми такой удивительный затеивался день. Стыдно перед пастухом, которого огорчила бабушка грубыми попреками. Особенно стыдно за свой позор, пережитый перед ними и всем стадом, которое поглядывает в нашу сторону, не переставая, кажется, жевать.
А до чего же мне стыдно перед бабушкой! Ведь я ее, как наконец-то понимаю, сегодня так сильно огорчил своим дурацким ослушанием. Да только ли огорчил? Нет, страшно перепугал. Заставил оторваться от всех дел, выбежать на село, искать меня повсюду: кто внука видел? Куда он запропал?.. Наверное, и к тете Лизе забежала, но та или в колхоз ушла или дома занята была…Кто-то все же подсказал, что углядел меня в череде? Или сама по следам стада пошла, потому что где же тогда еще искать самовольника.
И вот мы возвращаемся в Фёдоровку: я трушу впереди, подгоняемый ее хворостиной, она – в шаге или двух от меня. И – плачет, плачет… При пастухах не захотела плакать. А сейчас, когда их уже не видно, а Фёдоровка только-только появляется отдельными усадьбами внизу, в долине, бабушка так заходится в плаче, что я подобного рыдания и в войну не видел и не слышал от нее… Мне до того горько слышать ее громкие взрыдывания, что я и сам то и дело принимаюсь реветь. И не оттого, что совсем недавно был так больно нахлестан. Нет, я почти уже и забыл про то позорное наказание. Я плачу вовсе не потому, что хворостина раз от разу чуть прихлестывает меня по ногам. Мне горько оттого, что, оказывается, бабушка уже столько лет скрывает ото всех свою боль и лишь сейчас делится ею со мной. Прости, бабушка, прости. Наверное, я и до этого дня столько раз огорчал тебя своими ослушаниями, капризами, своими болезнями, но ты скрывала. И во всю войну ты скрывала, как тебе больно за всех родных, кого нет рядом, под своей крышей. И вот теперь, когда мы оказались в поле вдвоем, тебе больше не хватает сил таить внутри накопившееся горе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?