Текст книги "Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя"
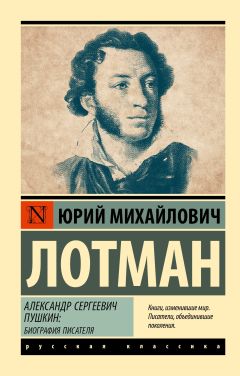
Автор книги: Юрий Лотман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Когда за двери своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.
Пушкин устал от Кишинева, который после разгрома кружка Орлова – В. Ф. Раевского сделался для него особенно тяжел. Но все же Кишинев был не тюрьма, а Одесса – не освобождение. Однако необходимость увидеть себя сквозь образ романтического героя (в данном случае – знаменитого женевского узника Бонивара) была столь настоятельной, что он почти все свои переживания описал в одном из писем средствами цитат, вполне понятных адресату:
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь… мне стало жаль
Моих покинутых цепей…
В создаваемый Пушкиным тип поэтической личности существенной частью входил мотив вечной, утаенной, не получившей ответа любви. Позже Пушкин иронически упомянул его в числе обязательных атрибутов романтического мира, назвав «высокопарными мечтаниями»:
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья…
(VI, 200)
Этот обязательный, и в 1840-е гг. уже опошленный, романтический мотив упомянул и Лермонтов:
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг,
Все в небеса неслись душою,
Взывали с тайною мольбою
К N. N., неведомой красе, —
И страшно надоели все[55]55
Обязательность этого, быстро опошлившегося, романтического штампа была так велика, что даже дядя Пушкина, В. Л. Пушкин, считал себя вынужденным иметь такую тайную и неразделенную страсть:
Люблю… никто того не знает, И тайну милую храню в душе моей.Я знаю то один… хоть сердце изнывает, Хотя и день и ночь тоскую я по ней; Но мило мне мое страданье, И я клялся любить ее без упованья… Сколь неосторожно на основании таких стихов создавать романтически окрашенные биографические построения, свидетельствуют показания современника об авторе этих стихов: «Предметами его песнопений бывали обыкновенно юницы, только-только что выходившие из коротеньких платьиц <…> Небольшого роста, толстенький, беззубый, плешивый и вечно прилизывавший скудные остатки волос фиксатуаром, он был чрезвычайно слезлив и весьма рано обребячился. Влюблялся он в десятилетних девочек и пресмешно ревновал их. Так рассказывали мне предметы его поклонения, ныне солидных лет дамы и девицы» (Семевский М. К биографии Пушкина // Русский вестник. 1869. Т. 84. Ноябрь. С. 87, 86).
[Закрыть].
(«Журналист, читатель и писатель». 1840)
В 1821–1823 гг. Пушкин был далек от иронического отношения к этой теме. Более того, он исключительно активно способствовал созданию вокруг своей лирики и личности ореола таинственности и намеков на утаенную страсть. В этом случае он не чужд был иронической игры с читателем, а порой и элементов прямой мистификации.
Тема утаенной любви объединяет цикл лирических стихотворений «крымского» происхождения или колорита и звучит в поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако значительно сильнее она проявляется не в самих стихотворениях, а в автокомментариях по их поводу, ориентируя литературные круги тех лет на определенный тип восприятия.
В декабре 1823 г. в Петербурге вышел альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». Бестужев послал его Пушкину. Среди ряда пушкинских стихотворений в альманахе была опубликована элегия «Редеет облаков летучая гряда…». Элегия была напечатана полностью, хотя из сердитого письма, которое Пушкин направил Бестужеву тотчас по получении альманаха, видно, что он просил редакторов опустить три последних стиха:
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла
(II, 157).
Пушкин был очень разгневан. В другом письме Бестужеву он писал: «Бог тебя простит! но ты острамил меня в нынешней Звезде, – напечатав 3 последние стиха моей Элегии; чорт дернул меня написать еще кстати о Бахч<исарайском> фонт<ане> какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными – журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из п<етер>б<ургских> моих приятелей[56]56
Выделенное Пушкиным курсивом – неточная цитата из заметки Ф. Булгарина «Литературные новости», опубликованной в № 4 «Литературных листков» за 1824 г.
[Закрыть]. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным, – что проклятая Элегия доставлена тебе чорт знает кем – и что никто не виноват. Признаюсь, одною мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась» (XIII, 100–101). Из этой цитаты, как кажется, вытекает, что Пушкин посвятил элегию «Редеет облаков летучая гряда…» женщине, в которую был влюблен, что о ней же он говорил в письме, случайно попавшем в руки Булгарина и частично тем опубликованном, что интимные строки он хотел сохранить в тайне. А поскольку имя этой женщины он старательно избегал упоминать, исследователи сделали вывод о том, что элегия – невольное признание поэта, свидетельство утаенной любви.
Внимательное рассмотрение фактов возбуждает, однако, ряд сомнений.
Прежде всего, хотя элегия была доставлена Рылееву и Бестужеву «чорт знает кем», очевидно, распространять ее среди друзей, что в ту пору было равнозначно распространению среди ведущего читательского ядра, мог только сам автор. В его воле было вообще ее утаить. Далее, зная, что Бестужев собирается печатать элегию, Пушкин не запретил ему этого, а лишь наложил вето на последние три стиха. Этим он прежде всего привлекал к ним внимание, давая понять, что они содержат важную для автора тайну (что из самого текста как такового совсем неочевидно). Если считать, что цель Пушкина состояла в сохранении тайны, а не в создании вокруг элегии атмосферы таинственности, то почему автор предлагал не печатать последние три стиха, а не два (стиху «Когда на хижины сходила ночи тень» легко можно было в печатном варианте придать синтаксическую законченность)? Если бы Бестужев исполнил требования Пушкина, то стихотворение получило бы в печати вид незаконченного отрывка, интригующе обрывающегося таким образом, что последний стих лишен рифмующейся с ним пары. В сочетании с устным известием о том, что конец не мог быть опубликован из-за его интимности (а это обстоятельство стало бы достоянием определенного круга читателей), такая публикация окружила бы элегию тайной и тесно бы связала ее с биографической легендой.
Но еще больше вопросов возникает дальше: слова о том, что одной мыслью этой женщины Пушкин дорожил больше, чем мнением всей читающей публики, звучат с подкупающей искренностью. Имя ее, естественно, интересовало биографов, поскольку эта, называющая своим именем вечернюю звезду, «дева юная» – наиболее вероятная кандидатура на роль «утаенной любви» Пушкина. Здесь – поскольку в гурзуфской элегии речь могла идти об одной из барышень Раевских или их спутнице – особенно упорно выдвигалась фигура Марии Николаевны Раевской (в замужестве Волконской, известной «декабристки», поехавшей за мужем в Сибирь). Однако после того, как Б. В. Томашевский документально доказал, что «дева юная» – это старшая дочь генерала, Екатерина Раевская (вскоре вышедшая замуж за М. Орлова), оценка слов Пушкина в письме Бестужеву должна перемениться: Пушкин ценил красоту и характер Екатерины Николаевны, но ни о какой серьезной влюбленности в нее с его стороны и речи не шло: брак ее с М. Орловым вызвал у него лишь несколько фривольных шуток (а в 1825 г. в письме Вяземскому он назвал ее «славной бабой» – XIII, 226). Если к этому добавить, что в отрывке письма, опубликованного Булгариным, речь шла совсем не о ней, то остается сделать вывод, что Пушкин мистифицировал Бестужева, а через него – наиболее важный для него круг читателей для того, чтобы окружить свою элегическую поэзию романтической легендой, представляя стихи как лирический дневник своего сердца.
Еще более это очевидно относительно «Бахчисарайского фонтана». Пушкин сознательно и целенаправленно вызывал в литературных кругах Петербурга, еще до появления там поэмы, слухи об ее непосредственной связи с чувством автора. 25 августа 1823 г. из Одессы Пушкин писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет – напр., он пишет в П<етер> Б<ург> письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и portefeuile[57]57
Папка для бумаг; портфель (фр.).
[Закрыть] – любовь и пр… – фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы[58]58
П. Шаликов – сентиментальный писатель. Фигура его воспринималась в литературных кругах как комическая.
[Закрыть] – помогите!» (XIII, 67).
В этом письме многое странно: во-первых, Пушкин мог не сообщать известному болтливостью Туманскому ничего о связи «Бахчисарайского фонтана» со своими личными переживаниями. Во-вторых, из текста видно, что Туманский показал Пушкину написанное им письмо, и во власти последнего было уговорить или даже заставить (Пушкин и по менее важным поводам посылал вызовы на дуэль, а здесь затрагивался весьма щекотливый вопрос) его воздержаться от отправки письма. Пушкин не только этого не сделал, а, напротив, послал брату Льву, еще ничего не слыхавшему о новой поэме, выписку из письма Туманского с просьбой воспрепятствовать распространению данного слуха. Учитывая всем известную невоздержанность Льва Сергеевича на язык, здесь можно видеть лишь желание именно сделать такой взгляд на поэму достоянием литературных кругов.
В том же письме он делает приписку: «Так и быть, я Вяземскому пришлю Фонтан, – выпустив любовный бред, – а жаль!» (XIII, 68). Однако изучение черновиков поэмы разочаровывает: никакого «любовного бреда», якобы выпущенного при публикации (о чем Пушкин писал друзьям неоднократно), там не содержится. Поэма была опубликована без существенных пропусков.
Все это свидетельствует о сознательном и целенаправленном стремлении Пушкина создать себе в литературе «вторую биографию», которая служила бы в глазах читателей связующим контекстом для его произведений[59]59
Показательна деталь: в 1822 г. вышло издание «Кавказского пленника» с портретом Пушкина-ребенка, гравированным Е. Гейтманом. Пушкин был изображен с расстегнутым воротом мягкой рубашки. Такая деталь приводила читателям на память портрет Байрона со столь же поэтически небрежно расстегнутым воротом мягкой рубашки.
[Закрыть].
Но отношение поэта к литературе имело и другую сторону, резко контрастирующую с идеалами и требованиями романтизма. Пушкин остро нуждался в деньгах: при незначительной должности жалование было ничтожно, отец практически в материальной помощи отказал (даже такая комическая поддержка, как присылка в Кишинев старых отцовских фраков, вызывала длительную переписку). Между тем обнаружилось, что при популярности поэзии Пушкина и быстром росте читательского спроса на нее издания могут приносить хорошие гонорары.
Однако на этом пути было много препятствий: отсутствие в России каких-либо законов, ограждавших права автора и регулировавших юридическую сторону изданий, ссылка Пушкина, вынуждавшая его прибегать к помощи посредников – неумелых, незаинтересованных, а иногда и недостаточно добросовестных. Однако основным препятствием было другое: в русской литературе господствовало представление о том, что поэзия – подарок богов, а не труд, и получать за нее денежное вознаграждение унизительно для поэта. Тем более несовместимыми казались денежные заботы с позицией романтического изгнанника, которому, согласно поэтическим штампам, приличествовала гордая бедность.
Обстоятельства жизни заставляли Пушкина почувствовать себя профессиональным литератором, в противоречии с романтическим представлением о поэте как «ленивце праздном». Ясный ум Пушкина видел, что этим разрушается та романтическая легенда, к созданию которой он сам прилагал усилия. В письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г. он писал: «…дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений» (XIII, 29). «Минутной младости минутные друзья» и «искатель новых впечатлений» – цитаты из элегии «Погасло дневное светило…». Соединяя их с денежными просьбами, Пушкин сознательно сталкивал два мира – поэзии и жизненной прозы. Поэт оказывался причастен обоим. Борьба за права литератора предстояла жестокая и длительная, прежде чем Пушкин в конце концов ее выиграл, заложив основы профессиональной литературы и авторского права в России.
Первая поэма Пушкина вышла, когда он уже был на юге. Она разошлась с огромным материальным успехом. «Московский телеграф» позже писал: «“Руслан и Людмила” <…> явилась в 1820 году. Тогда же она была вся раскуплена, и давно не было экземпляров ее в продаже. Охотники платили по 25 руб. и принуждены были списывать ее»[60]60
Московский телеграф. 1828. № 5. С. 77–78.
[Закрыть]. Однако из весьма значительной выручки Пушкин не получил почти ничего. Львиная доля досталась издателю Н. И. Гнедичу. Некоторые исследователи склонны упрекать Гнедича в недобросовестности[61]61
Гессен С. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930. С. 34–35.
[Закрыть]. Однако по представлениям той эпохи Гнедич не сделал ничего предосудительного. Понятия литературной собственности тогда не существовало, и издатель любой поэтической антологии спокойно клал в карман деньги за стихотворения не только мертвых, но и живых поэтов. Издательский труд считался «низким» и подлежащим денежной компенсации, поэзия же могла бы быть гонораром лишь унижена. Характерно, что в журналах XVIII в. переводчикам платили гонорары, поэт же обиделся бы, если ему предложили бы деньги («не продается вдохновенье»). Тот же Гнедич, издавая произведения своего друга Батюшкова, из 15 000 рублей, которые принесло издание, выплатил автору лишь 2000, а остальные взял себе. Никому не пришло в голову упрекнуть его. Пушкин, однако, чувствовал себя литератором нового типа и не хотел мириться с любительством и непрофессиональностью в издательских делах. В письме Гречу от 21 сентября 1821 г., предлагая свою вторую поэму «Кавказский пленник» (в обход Гнедича, который очень обиделся), он писал, иронически подчеркивая деловой характер отношений «поэт – издатель»: «Хотел было я прислать вам отрывок из моего Кавказского Пленника, да лень переписывать; хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы длиною в 800 стихов; стих шириною – 4 стопы; разрезано на 2 песни. Дешево отдам, чтоб товар не залежался» (XIII, 32–33). Гнедич сумел отстранить других возможных издателей (можно предположить, что им руководило не корыстолюбие, а честолюбивое желание выступать в роли покровителя и издателя Пушкина), и вторая поэма снова доставила автору 500 рублей гонорара, а издателю, видимо, около 5000 рублей[62]62
Гессен С. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930. С. 40.
[Закрыть]. Однако в конечном итоге Пушкин восторжествовал.
С помощью своего друга П. А. Вяземского, который выступил как издатель третьей поэмы – «Бахчисарайский фонтан», Пушкин добился исключительно высокого по тем временам авторского гонорара. Русские журналы, охваченные полемикой о романтизме, вызванной этой поэмой Пушкина и предисловием к ней Вяземского, одновременно особо отметили гонорарную сторону как начало «европейского» отношения к поэзии в России.
Два лица поэта в его отношении к литературному делу еще не совмещались – им предстояло слиться в одно на следующем, реалистическом этапе пушкинского творчества.
Пребывание в Кишиневе отмечено особенной широтой связей Пушкина с декабристским движением. Дислоцированная на юге 2-я армия генерала П. X. Витгенштейна была прибежищем наиболее решительных элементов Союза благоденствия. Европа, замершая было после падения Наполеона, переживала новый революционный подъем. В России быстро крепло освободительное движение. Пушкин с головой погрузился в эту атмосферу. Однако, в отличие от Петербурга, он уже не был учеником, стучащимся в двери избранных, – он ощущал себя Поэтом и стремился определить свое место – место Поэта среди Граждан.
Обстановка, в которую попал Пушкин в Кишиневе, отличалась от петербургской прежде всего тем, что это была обстановка действия. Отзвуки революций, потрясавших в это время Южную Европу: Испанию, Грецию, Неаполь, Пьемонт, – доносились сюда гораздо непосредственнее. А когда в январе 1821 г. вспыхнуло восстание в турецкой Молдавии под руководством Т. Владимиреско, вслед за которым 22 февраля генерал русской службы, сын молдавского господаря грек А. Ипсиланти переправился через Прут – границу России и турецкой Молдавии – и, прибыв в Яссы, призвал греков Оттоманской империи к общему восстанию, Пушкин оказался в самом центре событий.
Декабристы, как и вообще широкие круги русских либералов, надеялись, что Россия, выполняя полуофициальные обещания Александра I, вступится за единоверных греков и тем самым окажется втянутой в освободительную войну народов против тирании, что неизбежно отзовется и на ее внутренней политике. Пушкин ждал войны и готовился принять в ней участие. Он начал изучать турецкий язык, умолял друзей приостановить хлопоты о его возвращении в Петербург. В эти дни он исключительно тесно общается с кишиневскими кругами греческих инсургентов. В начале марта 1821 г. он писал (видимо, декабристу В. Л. Давыдову): «Уведомляю тебя о происшедствиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу. <…> Я видел письмо одного инсургента – с жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти – восторг духовенства и народа – и прекрасные минуты Надежды и Свободы… <…> Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету – к независимости древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти» (XIII, 22–23).
Греческое восстание не только обогатило Пушкина переживаниями политического энтузиазма, «прекрасными минутами Надежды и Свободы», – оно доставило ему возможность вблизи наблюдать важнейшие политические события эпохи, видеть их подоплеку и оборотную сторону. Это был один из тех уроков, которым Пушкин обязан поразительным даром ясного государственного мышления, изумлявшим в 1830-е гг. иностранных дипломатов в Петербурге. Пушкину пришлось наблюдать трагический раскол в лагере восставших – кровавый конфликт между интересами крестьянской по составу армии Владимиреско и аристократического руководства Ипсиланти, осложненный национальными противоречиями между молдаванами и румынами, с одной стороны, и греками – с другой. Он был наблюдателем сложных отношений между руководством восстания, командованием 2-й русской армии и деятелями тайных обществ в России. Именно эти события, видимо, были причиной приезда в Кишинев Пестеля. Пушкин имел в это время с Пестелем «разговор метафизической, политической, нравственный и проч.». «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю…» (XII, 303) – записал поэт в кишиневском дневнике. Вместе с Пестелем он принял, видимо, участие в переговорах с руководителями греческого восстания. Много лет спустя, в 1833 г., Пушкин записал в дневнике исключительно интересные детали дипломатической деятельности Пестеля, свидетельствующие об осведомленности поэта. Развитие событий вызвало глубокое разочарование Пушкина в Ипсиланти. Если наблюдение за ходом греческого восстания подвело Пушкина к размышлениям над трагической для декабристов проблемой соотношения народного движения и революционности просвещенного аристократического меньшинства, то личные свойства Ипсиланти способствовали разочарованию в романтическом культе «великого человека». Позже в черновиках поэмы «Езерский», оправдывая свое обращение к простому, «невеликому» человеку, Пушкин записал: «Зачем ничтожных героев? Что делать – я видел [Ипс<иланти>, Паске<вича>, Ермолова]» (V, 410; вся запись зачеркнута).
Однако наибольшее значение для Пушкина в этот период имело тесное общение с М. Ф. Орловым и группировавшимися вокруг него кишиневскими декабристами, особенно В. Ф. Раевским.
М. Ф. Орлов прибыл в Кишинев летом 1820 г. и принял командование 16-й дивизией. Он отклонил более выгодные служебные возможности, вызвав неудовольствие Александра I, для того чтобы получить в руки крупную самостоятельную воинскую единицу. Это было ему необходимо для реализации далеко идущих военно-революционных планов. «16 тысяч под ружьем <…> С этим можно пошутить», – писал Орлов А. Н. Раевскому вскоре после получения дивизии[63]63
Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические соч. Письма. М., 1963. С. 225.
[Закрыть].
Из контекста письма ясно, что Орлов говорил об участии в войне против Турции, однако недавние разыскания С. С. Ланды[64]64
Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России 1816–1821 гг. // Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л., 1962. Вып. 1. С. 148–168; а также: Ланда С. С. Дух революционных преобразований. М., 1975. С. 169–179.
[Закрыть] показали, что вмешательство в греческое восстание входило для Орлова в 1820 г. в план русской революции. Орлов был участником декабристского Ордена русских рыцарей – организации, ориентировавшейся на тактику решительных действий. Первоначально он надеялся получить дивизию не на далекой границе, а вблизи от Москвы. «Какая бы разница, ежели б я получил дивизию в Нижнем Новгороде или в Ярославле. Я бы был как рыба в воде». Имея исходную базу в любом из этих городов, Орлов мог считать вполне реальным план похода на Москву, почти лишенную в ту пору внутренних войск. Не случайно у его единомышленника гр. М. А. Дмитриева-Мамонова, строившего тем временем в своем колоссальном имении под Москвой подлинную крепость, снабженную артиллерией, которая могла бы быть великолепным опорным пунктом при проведении этой операции, тщательно сберегались знамя, врученное, по преданию, Мининым Пожарскому, и окровавленная рубашка царевича Дмитрия. Обе реликвии были исполнены смысла: одна должна была бы освятить поход Орлова – Мамонова историческим ореолом, вторая – стать наглядным доказательством пресечения рода Рюриковичей и ничтожества прав Романовых на всероссийский престол.
Однако при дворе уже не доверяли Орлову: ему многократно отказывали в просьбах о назначении командиром дивизии и в конце концов дали соединение, стоящее на далекой пограничной окраине. Орлов сначала был обескуражен, однако вскоре у него оформился смелый план связать греческое восстание с русским. С. С. Ланда приводит не попадавшие в поле зрения историков исключительно интересные данные греческого историка Филимона, близкого к Ипсиланти, согласно которым в переговорах последнего с Орловым было предусмотрено, что, если самовольное вмешательство Орлова в греческие дела вызовет гнев Александра I и он в Петербурге будет «объявлен вне закона», т. е. в случае, если вмешательство Орлова спровоцирует начало гражданской войны в России, Орлов «с русскими (т. е. со своей дивизией. – Ю. Л.) вступит в княжества как самостоятельный начальник», получив тем самым в Валахии и турецкой Молдавии базу для начала революционной войны с петербургским правительством. При этом он, конечно, рассчитывал на поддержку других дивизий пронизанной заговором армии Витгенштейна и в определенной мере на поддержку таких военных деятелей, как Киселев, Ермолов, Раевский-старший. Прибыв в Кишинев, Орлов начал немедленно готовить свою дивизию к боевым действиям. Он сплачивал вокруг себя офицеров – членов тайного общества, преследовал и удалял аракчеевцев, энергично завоевывал личную привязанность и любовь солдат[65]65
См.: Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. М.; Л., 1949. С. 27–88.
[Закрыть].
Орлов отнюдь не был фантазером и мечтателем, когда в 1821 г. на московском съезде Союза благоденствия в ответ на известие о том, что правительство захватило нити заговора, предложил план немедленных революционных действий.
Такова была ситуация в Кишиневе, когда туда попал Пушкин. Ближайшее окружение Орлова – это майор В. Ф. Раевский, адъютант Орлова К. А. Охотников, командир бригады в 16-й дивизии генерал-майор П. С. Пущин – все члены Союза благоденствия. Они же составляли в Кишиневе круг лиц, оказывавших в политическом отношении на Пушкина наибольшее влияние. Пушкин был запросто принят в доме Орлова. Он постоянный гость на обедах у него и столь же постоянный оппонент хозяина в непрерывных политических спорах, которые кипят в этом доме. Принят он здесь как равный, несмотря на разницу чинов и возраста. Жена Орлова, Екатерина Николаевна, писала брату А. Н. Раевскому 23 ноября 1821 г.: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать нарушителями общественного спокойствия»[66]66
Гершензон М. О. История молодой России. М.; Пг., 1923. С. 34. Ср. письма Е. Н. Орловой тому же адресату: «У нас беспрестанно идут шумные споры, философские, политические, литературные и др. Мне слышно их из дальней комнаты» (Там же).
[Закрыть]. Пушкин в это время перечитывал проект вечного мира аббата СенПьера в изложении Руссо (вообще он проявлял тогда большой интерес к сочинениям женевского мыслителя). Чтение это имело остроактуальный характер, поскольку затрагивало вопросы врожденной свободы человека, народного суверенитета (верховной власти народа), прав народов.
Споры Пушкина с Орловым (ср. в послании Гнедичу: «С Орловым спорю, мало пью» – II, 170) не были антагонистическими[67]67
См.: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972.
[Закрыть].
Политический контекст интереса Пушкина к проблемам «вечного мира» связан был с тем, что господство реакционного союза держав – победительниц в войнах с Наполеоном – осуществлялось под лозунгом умиротворения Европы. Объявляя Наполеона демоном войны, Венский конгресс торжественно провозглашал вечный мир. Лозунг этот, не лишенный в 1815 г. некоторой либеральной окраски, в дальнейшем превратился в программу защиты реакционного порядка против напора революционных сил; по словам Пушкина, идеи умиротворения
…миру тихую неволю в дар несли (II, 310).
Соответственно, носители революционного сознания в эти годы были, как правило, настроены воинственно. Симпатии западноевропейских либералов все чаще стали обращаться к Наполеону, а идеи революции и революционной войны оказывались тесно переплетенными. В этом случае война рассматривалась как средство защиты государственных интересов своей страны после того, как в ней утвердится свобода. Представление о том, что отношения между государствами лежат вне сферы морали (поскольку основываются на «естественном праве»), порождало наступательную концепцию внешней политики России после революции (Пестель), которая, например, у друга Орлова Дмитриева-Мамонова приобретала откровенно агрессивный характер. В концепции Мамонова правительство революционной России – в традиции Наполеона – воспринимало и резко усиливало великодержавные моменты своей политики (Мамонов проектировал обширные территориальные захваты в Северной, Центральной и Южной Европе, «сочинение проекта выгодной войны против Персиян и вторжение в Индию»[68]68
Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906. С. 147.
[Закрыть]). Орлов, давний соратник Мамонова по Ордену русских рыцарей, видимо, отчасти разделял идеи своего друга.
Пушкину, спорившему с Орловым и работавшему в эти дни над рукописью, посвященной вопросу вечного мира, свойствен был другой подход. Он отвергал мир, являющийся плодом союза монархов, и, опираясь на авторитет Руссо, предлагал вечный мир как результат союза революционных правительств. В своем наброске, цитируя слова Руссо о том, что путь к миру откроют лишь «средства жестокие и ужасные для человечества», он заключал: «Очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, – революции. Вот они и настали» (XII, 189 и 480)[69]69
Набросок Пушкина сохраняет живые интонации спора с Орловым. Заключительные слова: «Знаю, что все эти доводы очень слабы, так как свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не выигравшего ни одной победишки, не имеет никакого веса» (XII, 189–190 и 480), – конечно, ироническая переделка слов Орлова, адресованных другому «мальчишке, не выигравшему никакой победишки», – самому Пушкину. См.: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972.
[Закрыть].
Показательно, что в те самые дни, когда в доме Орлова Пушкин проповедовал вечный мир, он же написал стихотворение «Война», заканчивающееся словами: «Что ж битва первая еще не закипела?» (II, 167). Революционная война (в данном случае освободительная война греков) была для него не отрицанием мира, а путем к единственно возможному уничтожению войн. Для Орлова (как и для многих других декабристов) Свобода должна была открыть, подобно французской революции XVIII в., тур войн, цель которых – государственное величие России; для Пушкина Свобода несла Мир.
Однако центральными вопросами, обсуждавшимися в кружке Орлова и в домике Раевского, были внутренние вопросы России. Политические настроения Пушкина в эти месяцы хорошо рисуют бесхитростные записи в дневнике его сослуживца П. И. Долгорукова. Здесь читаем: «Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно». Пушкин «вдруг отпустил нам следующий силлогизм: “Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский – тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх”. Глубокое молчание после этих слов». «Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»[70]70
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 360–361; записи от 30 апреля, 27 мая и 20 июля 1822 г.
[Закрыть].
Настроения эти отразились в творчестве поэта. Постоянное общение с Орловым, Раевским и другими кишиневскими декабристами делает Пушкина подлинным выразителем политических идей наиболее радикальных элементов в декабристском движении 1821–1822 гг. Он решительно заявляет себя сторонником идеи тираноубийства, все с большей настойчивостью обсуждавшейся в конспиративных кругах.
Пушкину не сиделось в Кишиневе, и генерал Инзов, относившийся к нему с трогательной заботливостью, охотно отпускал его в отлучки. Местом частых посещений Пушкина было имение В. Л. Давыдова Каменка вблизи Киева, бывал он и в Тульчине, проезжал через Васильков[71]71
Тульчин и Васильков – центры декабристских организаций юга.
[Закрыть]. Поездки эти укрепляли его личные связи с южными декабристами.
Политическая лирика, созданная поэтом в это время, определила его особое положение в кругу декабристов. Такие стихотворения, как «Кинжал», «Наполеон», «Гречанка верная! не плачь, – он пал героем…», выражали тесную связь Пушкина с политическими заговорщиками. Но в еще большей мере об этом говорили послание В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов…») или генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел…»). Если первые представляют собой агитационно-политические стихотворения, обращенные к широкой аудитории, то вторые – конспиративные послания от одного заговорщика другому. Они написаны языком намеков, политической тайнописью (в одном случае основанной на условных словечках дружеского кружка политических единомышленников, в другом – на конспиративном языке масонов, так как стихотворение обращено к «собрату» Пушкина по кишиневской ложе «Овидий», тесно связанной с декабристами).
Облик Пушкина кишиневского периода был бы не полон, если бы мы упустили еще один его лик. Бытовое положение Пушкина было сложным: репутация ссыльного, постоянные денежные затруднения в сочетании с необходимостью общения с людьми самого разного общественного положения, незначительный чин, двусмысленность самого положения поэта в обществе – все делало его не защищенным от возможности оскорблений. Вообще, полное отсутствие душевной ущемленности, психологии ущербности, полнота жизни и сил, неотделимые для нас от образа Пушкина, заставляют нас забывать, в сколь трудном и уязвимом положении он находился. Как автор он не мог защищать свои права из-за отдаленности от центров литературной жизни и неясности юридического положения профессионального литератора в то время. Как участник политической жизни он вынужден постоянно считаться с тем, что его глубокое убеждение в принципиальной многогранности поэтической личности понимается как недостаточная готовность отдать себя политической борьбе или даже как «испорченность», «ветреность», «нестойкость». Как человек он – это сделалось очевидным уже в Кишиневе – обречен носить клеймо «поэта», постоянно подвергаясь бесцеремонному любопытству и сталкиваясь с настойчивым ожиданием, что он будет вести себя в соответствии со штампами поведения «поэтической личности».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































