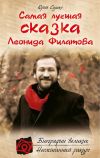Текст книги "Москва и жизнь"

Автор книги: Юрий Лужков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Простое решение
Оно оказалось простым, как хоккейная шайба. Овощи расхищают с баз. Реализуют через магазины. Есть и третий участник – тот, кто перевозил. При этом, согласно воровскому закону, все делится на троих: треть берет тот, кто хранил, треть – кто перевозил и треть – кто продавал. Сам себе задаю вопрос: а что, если государство предложит работникам баз не тридцать, а пятьдесят процентов? Неужели и тогда захотят воровать?
Собираю директоров баз.
– Давайте так, – говорю. – Сохраните картошечку сверх нормы и можете открыто продавать через магазины. Легально. А выручку делить пополам: половина государству, половина – вам.
Реакция последовала довольно скептическая.
– Вообще-то все правильно, Юрий Михайлович. Идея хорошая. Но ничего не получится. Потому что, сколько бы мы ни сохранили этой самой картошечки, мы никогда не достигнем официального норматива.
– Какого еще норматива?
– Официального. Один процент.
Только тут я понял всю подлость системы.
При всех безобразных потерях в процессе хранения, практически доходивших до трети хранимого… Нет, вы только подумайте: существовал и никогда не пересматривался, ну просто зла не хватает, норматив порчи – один процент! Никто не обращал на этот норматив никакого внимания. Он был мифическим, смешным, карикатурным. Но существовал, и партийные органы вспоминали о нем, когда хотели наказать неугодных.
Цивилизованные правовые нормы всегда строились по христианским заповедям «не»: не убий, не воруй, не лжесвидетельствуй. Все. Остальное можешь делать, и закон тебя защитит. Советская власть формулировала свои нормативы, исходя из идеальных достижений идеальных людей. В результате, как бы хорошо ты ни работал, не мог не нарушать закон, недотягивал до принятой нормы. A значит, ты – нарушитель и живешь и работаешь лишь до тех пор, пока государство закрывает на это глаза.
– Ну какое же может быть превышение норматива, – продолжали директора, – если фактические потери, например, по картофелю нигде никогда не были меньше девяти процентов? А норматива вы не измените. Бесполезно начинать.
Однако я начал.
Прежде всего поехал в Институт овощеводства. Откуда, спрашиваю, взялся этот 1 % порчи? Никто не знает. Какие-то старые дела довоенных времен академика Лысенко. По данным научных исследований очень хорошее хранение дает пять процентов потерь. Если мерить наличие в овощах аскорбиновой кислоты и программировать сроки реализации, можно достичь четырех. Так делают за границей.
– А у нас? Какой процент реален?
Биологи взялись подсчитать. Я заключил договор на исследование. Собрали статистику по климатическим поясам. Сравнили с результатами экспериментов. Итог оказался таким, как и предполагалось: девять процентов потерь для картофеля – нормальный, допустимый уровень. Подсчитали и для других овощей…
И тут наступил поворотный момент во всей этой истории.
Своим решением, оформив его как распоряжение Мосгорисполкома, я ввел новые по городу Москве нормативы. Это был, как говорят в цирке, смертельный номер. Без лонжи и страховочной сетки. Либо ломаешь систему, либо пеняй на себя.
Опять собираю директоров баз и магазинов.
– Вот, – говорю, – вам новый норматив. Теперь реальный. Тот цех, где потери окажутся ниже, может продать сохраненную сверх нормы продукцию и половину вырученных денег взять себе. Не треть, а половину, понятно?
– Но они давно все поняли, даже больше, чем я ожидал. Ведь новый механизм рассчитывался на поощрение рабочих, а не только начальства. А раз так, приходилось самому проверять, доведена ли до каждого суть новой системы. Приезжаю, скажем, ночью (когда нет начальства) на Свердловскую базу, спрашиваю рабочих: «Вот вы приняли картошечку. Слыхали про новые нормативы? Знаете, сколько получите, если потерь будет меньше?» Выясняется, никто ничего не знает. Наутро звоню директору.
Когда по весне обнаружился результат, в него не поверил никто. В течение одного срока хранения мы сэкономили половину того, что раньше теряли! И это при тех же хранилищах, поставщиках, а главное, людях! Летом цеха получили право продать то, что сэкономили. И половину денег я обещал им отдать. Вся система напряглась в ожидании. Выполнит ли Лужков свое обещание? Выплатит ли? Не обманет в последний момент?
Не буду рассказывать, сколько пришлось выслушать угроз и предостережений. И юристы, и бухгалтеры, и бог знает кто прямо-таки заклинали: не делайте этого! Вам не простят, потянут к ответственности! Как можно, чтобы мастер цеха получил премию, равную стоимости автомобиля «Жигули»? Да ни за что! Он ведь небось еще и зарплату получал.
Но отступать было некуда. Все видели, что данное обещание оказало большое воздействие на психологию коллективов. Система стала адаптироваться к новым условиям. Уже не требовалось специальных команд, чтобы побуждать людей следить за качеством поступающей продукции, лучше хранить, беречь оборудование. Менялась психологическая атмосфера в цехах. И вот специальным приказом по всем цехам, где потери оказались меньше норматива, были выплачены премии – ровно в половину стоимости того, что они сохранили.
Радость была неподдельной. Меня поздравляли. Впервые отчетные показатели работы плодоовощного комплекса двинулись вверх, намечая перспективы выхода из кризиса. И тут, как в заправской пьесе, на сцене появляется неожиданный Персонаж.
Называется он Комитет народного контроля. Меня приглашают, «чтобы помочь».
– Чем помочь-то, не понимаю?
– Хотим вам помочь получше разобраться в результатах вашей работы.
Без законного основания
– Чего тут разбираться? – спрашиваю. – У нас результаты лучше, чем за любой из предыдущих зимних сезонов.
– Это мы понимаем. (Пауза.) Это так и должно быть. (Долгая пауза.) Более того, у вас должно быть еще лучше.
– Ну, это правильно, – говорю. – У нас вообще все должно быть прекрасно. Но только никогда за предыдущие годы мы не получали таких цифр. А сейчас они есть. Вот, перед вами. И здесь сработали те новшества, которые мы применили, введя материальную заинтересованность в сохранении овощей. Или у вас есть сомнения?
– Нет, вообще-то вы можете вводить свои новшества. Но все должно быть… (Пауза.) На законном основании.
– А что мы сделали такого незаконного?
– Ну как же, сами! Произвольно! Изменили нормативную базу! Принятую правительством! Имели вы на это право?
Это был удар, о котором меня предупреждали. Я вытащил какую-то инструкцию, заготовленную юристами. В ней вроде бы исполкомам разрешалось устанавливать нормативы при каких-то условиях. В другой ситуации она бы меня спасла. В нормативных документах содержалось много противоречий. И мы привыкли, что контролер удовлетворялся той буквой закона, которая избавляла его от дальнейших хлопот.
Но здесь явно выруливали не по нормативному курсу.
– Вы нам показываете не тот документ. Есть постановление Минсельхоза, где право устанавливать подобные нормативы предоставляется только ему. А он вам эти девять процентов не утверждал! Так на каком основании вы приняли решение, которое привело к такому грандиозному материальному ущербу для государства?
– А где же ущерб-то? Мы же, наоборот, принесли гигантскую прибыль.
– Вы незаконно выплатили премии. В размере каких-то миллионов рублей.
Цифра точная. Они хорошо подготовились. Не знаю, кто дал им эти справки, но там учли все. Что оставалось? Что вообще делать в таких случаях? Ты сидишь с человеком по внешнему виду нормальным, объясняешь ему простые разумные вещи. А он на тебя смотрит, как мышеловка на мышь.
– Хочу вам сказать простую вещь, – повторяю в который раз. – Мы продали в этом году москвичам овощей на пять процентов больше, чем в прошлом году. При той же закладке. Сколько это в рублях? Теперь разделите на два. Половина пошла государству. И только вторая тем, кто хранил. Где же ущерб-то?
– Вы все эти доводы приводили. Они не отвечают на вопрос о законности ваших действий. Пожалуйста, к следующему разу принесите официальное объяснение, откуда вы взяли этот свой норматив. А пока извините. У нас дела.
Я был отчасти шокирован. Все-таки перед ними сидел первый заместитель председателя Московского исполкома. В тогдашней иерархии это как-никак важная фигура. На всех «иконостасных» торжественных заседаниях сажали в президиум. Правда, в последний ряд. Но если смотреть по перпендикуляру, то сразу за кандидатами в члены Политбюро. Я полагал, это защищает. И ошибся. Защищали в такой ситуации только верховные покровители. Что оставалось? Поехал в Госагропром к Мураховскому. Тоже персонаж замечательный. Этакий дед. Мечта внуков. Дедуля. Не понимавший ни в чем ничего. Его главное достоинство заключалось, как говорили, в том, что он родом из гор6ачевских мест. Правда, там вроде работал просто учителем – не то пения, не то физкультуры. Обаятельный человек. Если бы не министр.
– Да разве я против, Юрий Михайлович! Да что я, слепой, что ли? Не вижу разве сдвигов? Раньше меня драли в хвост и в гриву за эту вашу Москву, а теперь вроде спокойнее стало.
– Так вы поможете? Подтвердите, что согласны с тем, как определен норматив!
– О чем речь! Да вы не волнуйтесь. Я с ними поговорю. Ведь действительно, подумайте! Не какие-то доли процента, а прямо-таки, ну, в два раза лучше!
– Так, может быть… Бумагу какую-нибудь… Заключение…
– Да что вы волнуетесь, Юрий Михайлович! Вы не волнуйтесь!
И ничего не сделал. Может, и позвонил куда-то, где ему объяснили, что если уж дело дошло до Комитета народного контроля, то лучше не соваться. А может, и сам сообразил. Только на разбирательстве, которое вскоре случилось, никаких следов мнения Госагропрома не появилось. Что же касается всех остальных, к кому я обращался, то для их описания нужен не мой литературный дар. Тут бы Гоголь, Щедрин, а то и оба в соавторстве. Поэтому опускаю этот фрагмент нашего повествования.
Между тем целая армада сотрудников Комитета народного контроля уже проверяла работу баз, ища недостатки и нарушения. По их вопросам было видно, что речь идет не об однократном проступке, а о преступной тенденции.
Вся гигантская проделанная за год работа тут же обессмыслилась.
Назревало крупное наказание.
В комитете народного контроля
Я давно поражался: зачем в стране, где никакие законы не соблюдаются, такое количество контролирующих организаций? Бесчисленные комиссии, инспекции, контрольно-ревизионные органы не имели, казалось, иной заботы, кроме взимания взяток. Ведь реальная деятельность хозяйственника обставлена так, что никакого активного шага сделать нельзя. Я не мог ничего предпринять без нарушения какой-нибудь абсолютно дебильной инструкции, словно специально придуманной для того, чтобы связать по рукам и ногам. И если я что-то все-таки делал, то лишь благодаря бутафорской технике документального оформления, при проверке которого уже нельзя различить, где преступник, а где честный хозяйственник, озабоченный лишь интересами дела. В подобных условиях работа контролеров и ревизоров заключалась единственно в том, чтобы закрывать на все это глаза.
Однако такие недоумения я испытывал лишь до тех пор, пока за меня не взялись всерьез. Только тут стало ясно, что в пространстве всеобщего беззакония контрольно-ревизионный аппарат выполняет какую-то важную функцию. Он нужен государству не для того, чтобы пресекать правонарушения. Его задача заключалась в другом. Отлавливать тех, кто не принял «правил игры». Что это за «правила», можно ли их вообще сформулировать? Почему руководитель, поднимавший хозяйство введением принципа материальной заинтересованности, предстал опаснее того, кто строил себе дачу за государственный счет? Человек, не живший в советской системе, еще мог бы задавать такие вопросы. Но те из читателей, кто занимался при советской власти хозяйственной деятельностью, согласятся, наверное, что государство умело отличать «своих» от «чужих». Оно поручало это людям, обладавшим особым социальным нюхом, знавшим некую тайну, недоступную прочим.
Отправляясь на заседание Комитета народного контроля, мы оказывались в зависимости, как тогда говорили, «от субъективного фактора». Я говорю «мы», так как вместе со мной пригласили начальника овощного главка О. А. Виричева. Он-то был уж вообще ни при чем. Человек грамотный, знающий дело, он, конечно же, помогал мне своими советами. Но всю эту кашу заварил не он. И тем не менее планировалось именно его снять с работы, а мне влепить выговор.
Сама атмосфера контрольного органа поражала контрастом с привычной суетой и напряженностью хозяйственной жизни. За последний год я не знал ни сна, ни отдыха, каждый день все буквально рушилось под руками. Здесь стояла тишина, как в мавзолее. Все ходили неспешно. Публика важная. Разговор тихий, умиротворенный. Казалось, нет ситуации, которая вывела бы этих людей из себя.
Председательствовал Колбин, человек в этом деле новый, незадолго до того потерявший вследствие народных волнений в Казахстане место первого секретаря ЦК республики.
Вся процедура напоминала судебную. Вначале зачитали комитетскую «справку», из которой становилось ясно, что вместо заботы об овощах мы стремились лишь урвать побольше денег у государства. Затем слово дали Виричеву, потом мне. Помню, я попытался выйти за пределы ситуации, которая была предметом разбирательства. Просто стал говорить о том, что творится в плодоовощном комплексе. Обрисовал страшную картину 1987 года. Показал, что Москва могла вообще остаться без овощей. Потом разъяснил смысл наших действий, их первые результаты. И перспективы развала, если все, что начато, будет отменено.
– Конечно, пороков море, – сказал в заключение. – И нужно время, чтобы их устранить. Но мы знаем, как это делать. Можем сделать это. Так не лишайте нас возможности в этом страшном хозяйстве проявлять инициативу и решать проблемы, которые мы как специалисты видим лучше других.
– Так вы не считаете, что совершили грубое, серьезное нарушение? – спросил председательствующий.
– Нет. Не считаю.
– Вы произвольно изменили норматив и на этом основании выплатили крупные премии плохо работающему коллективу. Это не преступление?
Тут я пошел ва-банк.
– Мне вообще непонятно, что здесь обсуждается. Что нарушена инструкция, это один разговор. Что нанесен ущерб государству – другой. Давайте не смешивать эти вопросы. Если я нанес ущерб государству, значит, совершил преступление. Тогда это дело прокуратуры. Отдайте его туда. Пусть разбираются. И передают в суд, если я виноват.
Затем выступали другие. Но стало заметно, что Колбин заколебался. Как человек, незадолго до того столкнувшийся с реальностью перестройки, он чувствовал, что судить нас, как раньше, уже нельзя. Опытный был функционер. И потому, дождавшись, когда присутствующие вытерли о нас подошвы, подвел итог так:
– Предлагаю разделить решения. По поводу товарища Виричева нам вроде все ясно. Он начальник главка, опытный специалист и как подчиненный выполнял указания руководства. У нас нет оснований снимать его с работы. Предлагаю ограничиться выговором и штрафом в размере трех окладов. А что касается товарища Лужкова… Что ж, давайте сделаем, как он требует. Отправим материалы в прокуратуру. Вы согласны, товарищ Лужков?
– По поводу Виричева не согласен. Своей работой он не заслужил порицания. А насчет того, чтобы отправить дело в прокуратуру, согласен безусловно. Пусть разберутся.
– Ну и хорошо, – заключил председатель. – Каково будет мнение уважаемых членов Комитета?
Естественно, когда председатель так ставил вопрос, никто не возражал. И уважаемые члены Комитета закивали своими бестолковками.
Колбин нас спас. Он понимал, что если первый зампред исполкома вышел сухим из процедуры Комитета народного контроля, то прокурору в этом деле вообще делать нечего.
В дверях нас ждало телевидение. Пресса тогда только начинала охотиться за «жареными сюжетами».
– Как вы себя ощущаете? – спросила кокетливая девушка, протягивая Виричеву микрофон.
– Обосранным с головы до ног, – ответил начальник главка, глядя прямо в телекамеру. Поняв, что лексика руководителя овощного комплекса не соответствует даже новым телевизионным стандартам, она быстро отстала.
Колбин хорошо знал свое дело. В то время прокуратура вовсе не мыслила себя «третьей властью», а никаких «телефонных рекомендаций» он явно не давал.
Я был счастлив. Не только потому, что избежал наказания. Главное – Комитет не принял решения, отменявшего мое распоряжение! Значит, оно еще действовало. А раз так, мы могли продолжать борьбу.
В тот же вечер позвонил Мураховскому. Узнав о решении Колбина, он явно посмелел.
– Прошу вас, – закончил я разговор, – утвердить новые нормативы. Какие сочтете нужным. Посылаю бумагу на этот счет.
Госагропром оказался в трудном положении. То, что до разбирательства выглядело волюнтаристской акцией какого-то Лужкова, теперь (парадокс!) получило высшую санкцию, пройдя через Комитет народного контроля. И хотя Мураховского ущемляло, что не он выступил автором нового норматива, оставлять старый не имело смысла. Страдали показатели работы отрасли. И Госагропром утвердил наш норматив.
«Вы что, мне наврали?»
Мне осталось совсем немного, чтобы досказать эту историю. Идея ликвидировать проклятие, висевшее над столицей, – принудительное привлечение москвичей на базы, не оставляла меня никогда. В ней помимо прагматики была какая-то эмоциональная привлекательность. Подогревало… нет, даже не честолюбие, а скорее азарт делового человека, неодолимая тяга решить труднейший вопрос, к которому не знаешь, как подступиться.
В свое время, работая на фирме, я вместе с другими возмущался, видя, как среди промерзших, грязных, униженных врачей, инженеров, библиотекарей появляются словно хозяева жизни, сотрудники баз в норковых шапках, чтобы поставить оценку и сообщить назавтра в райком. Как и все, смеялся на просмотре фильма «Гараж»: там, если помните, некий профессор вкладывал в пакеты с картошкой свои визитные карточки, «чтобы знали, кому предъявлять претензии». Но теперь такие насмешки бесили меня.
Как решать проблему? Можно ли ее вообще решить? Если мыслить глобальными категориями, ответ будет, конечно же, отрицательным. Привлечение на базы дополнительной рабочей силы (до двадцати тысяч москвичей в обычные дни) – настолько прямое следствие системы хранения, что избавиться от него, казалось, можно лишь с перестройкой структуры в целом.
Но тем и отличается стратегия подлинного хозяйственного реформаторства, что тут никогда нельзя заранее сказать, с чего начать и чем кончить. Так называемое «состояние перехода» – это «третья» система, не похожая ни на ту, из которой вышел, ни на ту, куда хочешь прийти. В ней приходится иногда жить очень долго. Искусство руководителя заключается не в слепом следовании общей идее, как бы верна она ни была, а в умении терпеливо и внимательно заменять блок за блоком, следя за тем, чтобы постройка не обрушилась и в ней можно было относительно нормально жить изо дня в день.
Возвращаясь к нашей капусте, надо сказать, что, привлекая к переборке картошки докторов и кандидатов наук, государство вело себя не столь уж расчетливо. Ведь за день работы на базах они получали в своих институтах такие зарплаты, которые превращали эту капусту почти в ананас. Прибавьте сюда бюллетени (от сквозняков, сырости и т. д.), добавьте «отгулы» сотрудникам, на которые шли предприятия, лишь бы отчитаться перед райкомами. И вы согласитесь, что если все вместе сложить, то, как говорится, появляется повод для дискуссии.
Не буду описывать эти дискуссии, бесконечные встречи и споры с работниками баз. Скажу лишь одно, самое главное: к тому времени сколотилась уже слаженная «команда». А значит, было с кем идти на штурм системы, преодолевая сопротивление остальных.
Я дал задание научно-исследовательскому институту (оплатив эту работу) все как следует подсчитать. Вопрос был поставлен прямо: сколько денег тратит государство на привлечение «добровольцев»? Получили цифру – пятьдесят шесть миллионов. И решили: если государство выделит нам в полное распоряжение половину этой суммы, обойдемся без привлечения москвичей на базы.
Идея обретала реальные контуры.
Началась усиленная работа по стабилизации кадров. Следовало добиться таких условий труда на базах, при которых рабочий ценил бы свое место не меньше, чем ценило начальство. Повысили ставки оплаты. Организовали обслуживание заказами. Выбили жилье, садовые участки. Наладили столовые в круглосуточном режиме. Сделали еще многое, о чем скучно писать.
И вот, когда все это проделали, отправили письмо Председателю Совета Министров. К письму приложили расчеты. Из расчетов следовало, что, если государство нам выделит двадцать восемь миллионов рублей, мы ему сэкономим столько же. Рыжков наложил резолюцию, по делу решающую, по форме оскорбительную: «В Госплан. Ситаряну. Проверить расчеты, внести предложение. В конце года проверить, не было ли обмана». Он явно не верил, что в какой-то системе нашего хозяйства можно сделать прорыв.
Ситарян подошел к делу честно. Дал указание своим службам проверить наши расчеты. И после признался, что получил цифру, намного большую той, на которую мы претендовали. Но не мог изменить природе своего ведомства. Дал ровно двадцать восемь миллионов. Теперь это был годовой фонд зарплаты, который можно расходовать не только на штатных работников, но и на всех, кто хотел бы подзаработать. Стали составлять списки таких людей. Организовали серию телепередач, информируя москвичей, куда обращаться. Распространили приглашения по учебным заведениям. Связались с руководителями кооперативов. Больше всего возни было, кстати, с собственными бухгалтерами.
Когда я потребовал платить за разгрузку вагонов не через двенадцать дней (по инструкции), а немедленно, те встали насмерть: «А вдруг один человек заработает восемьдесят рублей? А что, если у него алименты?» – «Платите, и все! И если кто вздумает не подчиниться приказу, пусть считает себя уволенным! Сам буду проверять!»
Система сопротивлялась.
Но с 1 июля 1988 года мы отказались от привлечения москвичей…
И тут же провалились.
Провал был обидным, потому что случайным. В тот год в Москву стала идти такая негодная продукция, что просто, как говорят, туши свет. Грузины прислали картошку, мелкую, как горох, с колорадским жуком. Мы захлебнулись с переборкой. Из Азербайджана пришли жуткие помидоры. Из Молдавии еще хуже. Все это не было случайным. Административный контроль уже не работал, а рыночные механизмы еще не были введены. В столицу сплавляли отбросы. Мы ввели новую систему чуть раньше, чем следовало. Но и откладывать 6ыло нельзя.
Моссовет трясло. Сайкин сам объезжал базы, всюду оставляя (скорее для моральной поддержки) своих заместителей. Райкомы, видя наши муки, предлагали дать втихаря людей. Директора баз умоляли и скандалили. Но на все мольбы и истерики я отвечал: «Нет, переживем!» И сейчас убежден, что если бы дал тогда слабину, система еще долго не выправилась бы от такого поражения.
Сайкин не настаивал на возвращении к старому. Совсем другую позицию выбрали деятели из ЦК КПСС. Там служили два корифея плодоовощного дела: Иващук и Капустян, которые, собственно, и загубили весь комплекс. Видя, что происходит, они подготовили так называемую «записку», смысл которой сводился к тому, что московский эксперимент больше отражает амбиции руководителей, чем реальные возможности плодоовощного комплекса.
В ЦК собралось совещание. Я предстал главной мишенью. Идея партийной критики одна – амбиции, авантюрность, угроза оставить москвичей без еды.
…Но вот по прошествии месяца система стала успокаиваться. Перешла в иное качество. Приспособилась к работе без привлечения москвичей.
Руководители районов облегченно вздохнули. Руководство города с недоверием смотрело на то, что произошло. ЦК умолк в ожидании. А дело потихонечку шло.
И когда на очередном городском пленуме партии первый секретарь горкома Зайков произнес с трибуны: «Нам удалась отказаться от привлечения людей на базы», – зал загудел. Докладчик запнулся и с удивлением смотрел, что напечатано у него в листках. В перерыве подозвал меня:
– Вы что, мне наврали?
– Во-первых, доклад писал не я. А во-вторых, там все верно.
– То есть как?
– Спросите любого секретаря райкома. Приезжайте на любую базу. Там нет ни одного москвича, направленного от организации или предприятия.
Тогда не удалось в магазинах Москвы создать красочную картину обилия разноцветных овощей и фруктов, как в Париже, городах Европы, картину, ставшую давно привычной и для наших овощных прилавков.
Но нет сомнения, что если бы тогда, в 1988 году, мы не отказались от привлечения «добровольцев» на базы, то уже в девяностом, а тем более в девяносто первом никто бы туда не пришел. И писали бы в одних газетах, что голод в Москве – следствие социализма, а в других – что это следствие перестройки… Москвичу-то какая разница?
Мы успели тогда перестроиться. Это не стало результатом какого-то сверхъестественного предвидения. Когда я доказывал в ЦК партии, что вскоре никто из москвичей не пойдет на базы, то, конечно, не мог себе представить, что не будет и самого ЦК.
Но смутное предощущение, как бы предчувствие, что, если дашь себе поблажку, все скоро просто погибнет, – было.
А только к нему и должен прислушиваться руководитель.
Только тогда он руководитель, хочу сказать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?