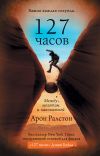Текст книги "В немилости у природы. Роман-хроника времен развитого социализма с кругосветным путешествием"

Автор книги: Юрий Окунев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Шутки шутками, а запрет на поездки населения за границу был важнейшим принципом Совка, его государствообразующим фундаментом, заложенным еще основоположниками марксизма-ленинизма-сталинизма. Мой отец, по-видимому, много размышлял об этом фундаменте. Он сам пересекал, а вернее – раздвигал границы родины дважды, причем оба раза это было на Карельском перешейке во время советско-финской войны. Детали отцовских мыслей вслух стерлись из памяти – прошло слишком много времени, но в моем дневнике сохранился вот такой фрагмент, записанный, судя по всему, по горячим следам его рассуждений:
«Первые два основоположника – Маркс и Энгельс – „научно“ доказали, что коммунизм может быть построен только во всех странах одновременно. Они рассуждали вполне логично – поскольку коммунизм устанавливается с помощью насилия, называемого диктатурой пролетариата, то его победа в какой-либо одной, отдельно взятой стране, приведет к бегству ее непролетарского населения в другие страны, где коммунизм еще не построен, крайне затруднив, а может быть, и сделав невозможным построение коммунизма повсеместно. Третий основоположник – Ленин – не менее „научно“ доказал обратное – возможность и даже неизбежность построения и социализма, и коммунизма в одной, отдельно взятой стране, которой, по несчастью, оказалась такая большая страна, как Россия. Он тоже рассуждал вполне здраво: если разрешение на убытие за границу в „отдельно взятой стране“ будет давать лично он или назначенные им строгие надзиратели вроде товарища Дзержинского – того, „делать жизнь с кого“ предлагалось советским поэтом, – то никто никуда не убежит, и, следовательно, в этой стране можно будет построить полный социализм, постепенно переходящий в коммунизм. Правда, третий основоположник рекомендовал поспешать с мировой революцией – видимо, опасаясь, что все-таки население „отдельно взятой страны“ разбежится, не дождавшись даже социализма. Четвертый основоположник – Сталин – довел ленинскую идею построения социализма в одной, отдельно взятой стране до полного совершенства и достиг невиданного в долгой истории человечества результата – много тысячекилометровая граница гигантского государства была закрыта наглухо, так что и мышь не пробежит, с помощью системы непроходимых заграждений из колючей проволоки, минных полей, погранзон и погранзастав, днем и ночью охраняемых миллионной армией пограничников с собаками. Помимо этого четвертый основоположник внес в мизантропские идеи своих предшественников свежую струю, отличавшуюся особой лютостью, – семьи и родственники сбежавших за границу граждан подлежали немедленным суровым репрессиям. Подобно пахану банды уголовников, он исходил из того, что подвластное ему население можно превратить в „тварей дрожащих“ только в том случае, если им, тварям, некуда будет смыться и негде будет спрятаться. В этом четвертый основоположник, надо признать, вполне преуспел и по существу превратил огромную часть планеты в концентрационный лагерь, закономерно именовавшийся „социалистическим лагерем“, где покорные рабы славили величие и мудрость своего „вождя, отца и учителя“. Преемники четвертого основоположника, также претендовавшие на роль основоположников, но ими не ставшие, по существу ничего не меняли в уже созданной и вполне оправдавшей себя сталинской системе – гаранте их незыблемой власти над населением».
Прошу прощения у читателей за длинноватое историко-политическое отступление, особенно у тех, кто сам еще помнит те далекие времена или знает все это из книжек. Как, однако, мало осталось первых, и как быстро уменьшается число вторых! В беллетристике, в отличие от эссеистики, не принято использовать подобные длинные отступления публицистического толка – полагают, что это есть моветон. Изящная словесность предпочитает ненавязчиво, деликатно вызывать историко-философские реминисценции прошлого через образы литературных героев… Но кто же тогда расскажет новым поколениям неприбранную, голую правду о прошлом вопреки законам изящной словесности? Ту правду, которую тщательно замазывает будущее, желающее иметь лишь великое прошлое.
Наверное, тем, кому посчастливилось не знать лично этого прошлого, наше отступление позволит понять человека, который с детства мечтал о путешествиях в далекие заморские страны, в юности понял, что эта мечта на его родине абсолютно несбыточна, а в зрелые годы вдруг получил командировку в кругосветное путешествие. Этот человек, пребывая в состоянии эйфории, тайно обдумывал предположительный маршрут путешествия: Одесса, Босфор и Дарданеллы, Стамбул, Афины, Венеция, Мессинский пролив, Неаполь, Марсель, Барселона, Севилья, Гибралтар, Атлантический океан, Багамы, Эспаньола, Ямайка, Панамский канал, а может быть, чем черт не шутит, Барбадос, Рио-де-Жанейро, Огненная земля и Магелланов пролив, а потом – Тихий океан, Гавайи, Фиджи, Соломоновы острова, Филиппинский архипелаг, Острова пряностей, Сингапур, Коломбо, Мадагаскар, Кейптаун, Берег Слоновой кости, Острова Зеленого мыса, Дакар, Санта Круз, Канарские острова, Касабланка, Лиссабон, Ла-Манш, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Ленинград.
Арон, конечно же, отказался обсуждать со мной маршрут нашего кругосветного путешествия. Не скажу, что ему чужда романтика. В туристских походах у костра он играет на гитаре и своим несильным, но красивым баритоном поет бардовские песни Юрия Визбора о далеком и несбыточном – «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретимся с тобою». Но в работе предпочитает сухой прагматизм.
– Арон, я с детства мечтаю одним счастливым утром приплыть к райским островам Фиджи. Почему бы ни включить их в наш маршрут, ведь начальству все равно, где мы будем плавать. Представляешь, мы испытываем наш «Тритон» у берегов Фиджи. Звучит, не правда ли?
– Ты, Игорь, форсируй, пожалуйста, проверку декодера в паре с компьютерным симулятором канала. Боюсь, нам будет скоро не до твоих Фиджей.
Мой шеф, конечно, личность выдающаяся, на грани гениальности, необычный во многих отношениях человек. Взять хотя бы его фамилию – Кацеленбойген. Я ему говорю:
«Ну зачем ты, Арон, мучаешь наших несчастных кадровиков и сексотов – им же трудно запомнить, записать или, не дай бог, произнести твою фамилию. Сократи ее в интересах следствия и прогрессивной общественности. Например, Кац – звучно, кратко и предельно ясно. Или Каце́лин – тоже неплохо. Или начни со второй половины, например, Ленбойгин – как-то даже по-партийному звучит; ну, в конце концов, и Бойгин – совсем недурственно. Твоя фамилия дает столько возможностей, а ты их не используешь. Смотри – писатель Илья Файнзильберг переделал себя в интересах читателей на Илью Ильфа, одну только букву „фэ“ оставил от родовой фамилии, и прекрасно получилось. Или, например, Лейзер Вайсбейн – ну скажи, кто бы снимал в кино на главную роль артиста с тремя „й“ в имени и фамилии, а Леонида Утесова охотно снимали. Вообще, из-за этих множественных „й“, да еще в самых неподходящих местах, у вас, евреев, одни неприятности. Поэт Михаил Светлов из-за этого вынужден был отказаться от своей красивой фамилии Шейнкман, а журналисту Михаилу Кольцову пришлось избегать своего первородного имени Моисей, а потом ему даже довелось стать Мигелем, после чего Сталин его расстрелял как иностранного шпиона».
Арон не обижался на мой стёб по поводу его фамилии. Я был его учеником, писал диссертацию под его руководством, а потом мы стали друзьями. Арон на десять лет старше и в несколько раз талантливее меня.
– Фамилию меняют, когда за ней ничего не стоит, когда не знают или не хотят знать своего прошлого, своих предков, которые, поверь мне, были не глупее нас, – наставлял он меня.
– Ты имеешь в виду «Ива́нов не помнящих родства»?
– Не имеет значения, Ива́нов или Абра́мов. Я имею в виду более важную вещь: отсутствие интереса к своим предкам – это в какой-то степени провинциализм. Можно жить в столичном городе и оставаться провинциалом, обывателем с амнезией исторической памяти.
Это было его хобби – отыскивать предков и связывать их жизнь с известными фактами истории. Оказывается, фамилия Арона происходила от названия немецкого города Katzenelnbogen в прирейнской долине, где его предки поселились ещё в XIV веке. После еврейских погромов во времена Черной смерти они перебрались в Италию. Среди предков Арона были знаменитые средневековые раввины Падуи и Венеции, наследники которых впоследствии принесли талмудические знания в Литву и Польшу. После раздела Польши они стали подданными Российской империи, жили в черте оседлости, а в годы революции примкнули к большевикам, отказавшись от своего раввинского наследия. Дед Арона был комиссаром в Гражданскую войну, а отец – офицером Красной Армии. Эта удивительная семейная Одиссея подвигла меня на собственное генеалогическое исследование, но, честно говоря, я не продвинулся дальше смутных данных о своих дедушках и бабушках.
– Мой дед был из зажиточных тамбовских крестьян, – рассказывал я Арону. – Не твой ли дед-большевик раскулачивал его?
– Мой дед в годы коллективизации работал экономистом в Наркомтяжпроме, был помощником наркома Серго Орджоникидзе, – вяло оправдывался Арон.
– Объясни мне, Арон, почему среди потомков раввинов оказалось так много революционеров?
– Не только революционеров, но и ученых, философов, музыкантов… Раввины обладали утонченным умственным аппаратом, отшлифованным на Торе и Талмуде. Эта шлифовка не только укрепляла их ортодоксию, но и высекала искры новых идей… Первыми учителями Спинозы были раввины. Не они ли огранили алмаз его ума так, что он сначала взбунтовался против раввинской религиозной схоластики, а потом совершил революцию в философии? Идеалисты становятся революционерами, когда приходит время реализовать идеи справедливости…
– Сталинские палачи и вохровцы из НКВД тоже пришли для «реализации идей справедливости»?
– Не передергивай, Игорь, «сталинские палачи и вохровцы» не имели никакого отношения ни к справедливым идеям, ни к революции.
Как ни странно, мы с Ароном, будучи во многом единомышленниками, вместе с тем часто и остро спорили, особенно во время туристских походов, когда работа и быт оставались позади и приходило время поговорить и помечтать о вечном. Я, например, считал Великую Октябрьскую социалистическую революцию абсолютным злом, а Арон находил в ней нечто положительное. Я связывал Ленина со Сталиным жесткой прямой линией первого порядка, но Арон предпочитал более сложные кривые высокого порядка. «Ленин никогда не был антисемитом, – возражал он и, наставляя меня на путь истинный, продолжал: – Твои эмоции по поводу культа личности и диктатуры Сталина отнюдь не доказывают ошибочность доктрины социализма. Сталинский режим был извращением социализма, социализмом без человеческого лица. Согласись, что в капитализме заложено нечто бесчеловечно жестокое…»
Как-то я принес Арону самиздатовский, на папиросной бумаге, перевод книги нобелевского лауреата Фридриха Хайека «Дорога в рабство». В книге доказывалось, что национал-социализм в Германии и фашизм в Италии являются не «реакционной формой капитализма», как утверждали советские придворные историки, а развитым социализмом. Это было во времена, когда КПСС – «ум, честь и совесть нашей эпохи» – незаметным шулерским приемом в самый раз подменила лозунги скорого построения коммунизма словами об уже построенном развитом социализме. Население восприняло эту подмену с пониманием – мол, коммунизм, конечно, пошибче, но и социализм, тем более развитой, тоже неплохо. Впрочем, нужно признать, что в те времена уже очень многие воспринимали все эти лозунги о развитом социализме и коммунизме как недостойное внимания пропагандистское фуфло. Тем не менее книга Хайека не убедила Арона, он сказал: «Модели социализма, которые изучал Хайек, являются маргинальными его проявлениями. Они, как и сталинский социализм, не имеют ничего общего с классикой…» Я вспылил: «Твой классический социализм нетрудно лицезреть в ближайшем гастрономе, наблюдая попытки толпы социалистов отхватить полкило сосисок». Арон никогда не выходил из себя: «Не горячись и не своди серьезную проблему к дефициту сосисок…»
Он был мудрее меня – это особенно наглядно проявилось в выборе жен.
Я женился, будучи еще студентом. Однажды поздно ночью, после довольно пьяной студенческой вечеринки, взялся я проводить домой хорошенькую курносенькую сокурсницу Галю, которую на самом-то деле не ахти как и знал. Мы целовались в подъезде ее дома, когда Галя «проговорилась», что ее родители уехали в отпуск. Я немедленно настоял на символической «чашечке чая». Мы крадучись дошли до ее комнаты в огромной коммуналке, а дальше всё развивалось, конечно, без всякого чая по вполне стандартному сценарию… Под утро я также крадучись выскользнул из квартиры и с больной головой пошел домой отсыпаться, наивно полагая, что на этом ночное приключение закончилось. В институт я пришел во второй половине дня только потому, что в группе была зачетная лабораторная работа по сопромату, который не очень мне давался. Войдя в аудиторию, я обратил внимание на то, что Гали нет, парни едва здороваются со мной сквозь зубы, а девушки вообще отворачиваются. «Что случилось?» – тихо спросил я своего напарника по лабораторным работам. «Это у тебя надо спросить, что случилось, – ответил он. – Галю утром увезли на Скорой с какими-то непонятными болями внизу живота». Я взвился и сказал громко, чтобы все слышали: «Вы, друзья, совсем охренели. Я-то здесь при чем? Не надо преувеличивать мои достоинства!» Вечером того же дня выяснилось, что у Гали случился приступ банального аппендицита, меня неохотно реабилитировали, но осадок, как говорят, остался, и я поначалу вынужден был проявлять к ней повышенное внимание и заботу. В атмосфере этой заботы мы продолжили наши свидания, а потом Галя забеременела…
Короче – я женился на ней, но этот брак был заведомо обречен. Мы были разными, мы были несовместимыми. Галя имела особое мнение по всем вопросам, причем всегда противоположное мнению собеседника, независимо от сути этого мнения – главное, чтобы не такое, как у других. Она начинала каждую фразу со слова «нет», даже в том случае, когда хотела сказать «да». «Нет, – говорила она, – вы, конечно, правы… Нет, я согласна с этим…» Меня это жутко раздражало, и я постепенно вообще начал избегать разговоров с женой, ибо после первых же сказанных мной слов, как правило, открывался неиссякаемый словесный фонтан с доминантной струей из «нет». Я вообще не люблю не умеющих слушать, а перебивающих меня невнимательных женщин – особенно. Мне кажется, что женственность непременно предполагает умение слушать и сопереживать. В Гале этого не было, и наш брак начал быстро увядать, в чем, вероятно, я тоже был виноват. Рождение дочери поначалу оживило его, но ненадолго. Мы развелись, разъехались, а последующее общение сводилось к редким разговорам по телефону в основном о нашей общей дочери Светланочке. Но однажды Галя без предупреждения – у меня тогда еще не было домашнего телефона – приехала ко мне на только что купленную кооперативную квартиру для «серьезного разговора», как она заявила. Далее она объяснила, что выходит замуж за военно-морского инженера и уезжает по месту его службы, что муж хочет удочерить Светланку и категорически против любого ее общения со мной. Она умоляла меня забыть о дочери: «Мы уезжаем далеко, я хочу начать новую жизнь и очень прошу тебя не искать нас и не тревожить Светлану – пусть у нее будет один-единственный отец». У меня не было контраргументов, и я вынужден был согласиться. Мы решили расстаться, если и не друзьями, то, по крайней мере, не врагами. Для закрепления договора Галя осталась у меня ночевать – она почти перестала использовать слово «нет». В сексе с бывшей женой, когда ты уже свободный человек, есть некоторый изыск… Под утро Галя призналась, что уезжает навсегда в Комсомольск-на-Амуре. Вот так я потерял свою дочь, а в остатке получил мощную инъекцию стойкой идиосинкразии к семейной жизни.
У Арона всё было иначе в основном благодаря Наташе – так мне хотелось бы думать. Признаюсь, я влюблен в эту женщину, влюблен тайно, бессмысленно, беспредметно, потому что… Ясно почему – я познакомился с ней, когда она уже была женой Арона. Об этом не знает никто, это глубочайшая тайна моей греховной личности, а догадывается, возможно, лишь сама Наташа. В любви, бесперспективной не только из-за отсутствия ответного чувства, но и вследствие категорической невозможности проявить свое собственное, есть невыразимое очарование. Вот я и живу с этим очарованием в душе и со всем остальным в теле… Наташа почти на десять лет старше меня. Когда Арон познакомил меня, вчерашнего студента, с ней, я был ошеломлен зрелой красотой этой уверенной в себе, умной и тонкой женщины. Лишь потом я узнал, что представшее передо мной чудо создано Ароном – далекий отголосок древней легенды о Пигмалионе и Галатее. Правда, исходный материал у нашего Пигмалиона был ох как хорош – красавица из среднерусской глубинки, с длинными пепельными волосами и точеной рельефной фигурой, в которой расстояние от талии до пальцев ног составляло классические две трети – точно как у мраморного изваяния Галатеи.
Брак Арона и Наташи сам по себе был чудом. Коренной ленинградец, молодой перспективный ученый из еврейской семьи женился на русской девушке из провинции.
Родители Арона были убежденными интернационалистами, но… не одобряли женитьбу сына на русской. Отец после ухода из армии работал редактором в военном издательстве, а мать – учительницей русского языка и литературы. Они были стопроцентно ассимилированными евреями и по существу давно уже принадлежали к русской интеллигенции, но тем не менее что-то тревожило их в браке сына. Возможно, это было связано с той глубокой трещиной в пресловутом советском интернационализме, которая образовалась еще при Сталине во времена Дела врачей, а может быть, и с неудачным семейным опытом. Дядя Арона, брат его отца Моисея Кацеленбойгена, рассказывал, что чуть что не так, его русская жена вспыхивает и говорит, что, мол, «у вас, евреев, всё не так, как у людей» – правда, потом отходит. А однажды во время крупной ссоры она обозвала мужа жидом – сама испугалась и просила прощения. Дядя простил ее, но осадок остался. Родители Арона не мешали ему встречаться с Наташей, не отговаривали его, интеллигентно отмалчивались, сокрушенно вздыхая наедине друг с другом.
Родители Наташи – рабочие секретного завода в Арзамасе – тоже были интернационалистами и… тоже не одобряли такое замужество дочери. Интернационализм интернационализмом, а еврей – не русский, и еще неизвестно, чем всё это обернется. Они отнюдь не были антисемитами, близко общаться с евреями им вообще не пришлось. Наташины родители верили в разрекламированную по телевизору некую мифическую наднациональную «общность советских людей», но квазиинтернациональная политика партии и правительства, постепенно сползавшая в густопсовый шовинизм, давала недвусмысленное указание – с евреями что-то не так. Конечно, в теории все советские нации равны, но на практике, как говорил классик, в нашем «скотном дворе некоторые равны более других», а советские евреи как-то совсем выбыли из этой табели о рангах равенства. Не знаю точно, что творилось на той стороне квадрата, но, вероятно, родителям Наташи стало не по себе, когда они узнали новое имя своей дочурки – Наталья Ивановна Кацеленбойген. О таком и друзьям, и соседям рассказать затруднительно, и они отправились в Ленинград на свадьбу дочери, полные тревожного ожидания встречи со своими еврейскими родственниками.
Впрочем, свадьба Арона и Наташи прошла, как говорят, «в обстановке полного торжества советского интернационализма», все четыре точки квадрата отбросили «буржуазные предрассудки» и согласились, что независимо от национальности супругов «все счастливые семьи счастливы одинаково».
Эта фраза классика всегда казалась мне сомнительной. Взять, например, семью Арона и Наташи. Они были счастливы «не одинаково» с другими счастливыми семьями, они были счастливы особенно ярко, необычно, нетривиально, всеохватно… Сюжеты изящной словесности традиционно раскручиваются вокруг несчастливых семей, потому что о несчастьях писать легко – они возникают по всем понятным причинам и развиваются по ограниченному числу более-менее сходных завлекательных сценариев. Достаточно наделить героя или героиню каким-нибудь чрезмерно выраженным недостатком типа ревности, жадности, глупости, пошлости, сластолюбия, эгоизма, нарциссизма или еще какой-либо пакостью, и сценарий несчастливой семьи почти готов. Другое дело – счастливая семья, о ней так просто не напишешь, о ней поначалу, верхоглядно, вроде бы и писать нечего, а если задуматься, то оказывается сложным до невозможности такую семью описать, потому что причины счастья, в отличие от причин несчастья, не лежат на поверхности, а зарыты глубоко и недоступно в глубинах интимных человеческих отношений. Многое в отношениях Арона и Наташи было выше моего понимания, наверное, потому, что в моих связях с женщинами всегда была заметная доля цинизма. Да, такая вот я сволочь… Подобно французскому классику, считаю, что «не следует заводить любовницу, которая не в состоянии изменить вам». Распространяется ли это правило на жен, я не знаю вследствие отсутствия позитивного опыта… Но что твердо знаю: меня удивляла преданность Наташи Арону, доходившая именно до той легендарной неспособности изменить ему. Я этого не понимаю, а то, чего я не понимаю, раздражает меня. Здесь, конечно, намешано многое – и мое тайное влечение к этой женщине, и ее недоступность для меня, и моя прагматическая убежденность, что в данной сфере ничего святого на самом деле нет… Такая вот мешанина из иррациональных эмоций и холодного рассудочного анализа, в конце концов, толкнула меня на подловатый поступок… Но об этом не сейчас, не хотелось бы начинать с самого плохого о себе, тем более что я сильно отвлекся от темы – нашей с Ароном подготовки к испытательному вояжу по морям и океанам.
Работали мы в то время много и увлеченно. Одно дело – лабораторное тестирование «Тритона» или его проверка на заводском полигоне поблизости, на Карельском перешейке, и совсем другое – всеохватные испытания в мировом океане. Далекие океанские дали и манили, и пугали – сработает ли всё, задуманное с таким размахом и замахом, справимся ли? А здесь еще – подготовка к заседанию Идеологической комиссии парткома, на которой мы с Ароном должны были продемонстрировать высокий идейно-политический уровень, равно как и готовность строго придерживаться генеральной линии партии на океанских просторах, особенно проплывая мимо мира капитализма. Арон велел мне вызубрить, на всякий случай, имена руководителей коммунистических партий всех стран мира, как стихи. Я сказал: «Не вижу связи между именами глав компартий и испытаниями секретной аппаратуры связи с подводными лодками». Арон пытался разжечь мою убогую недиалектическую фантазию:
«Представь, проплываешь ты со своей аппаратурой мимо, например, Греции и терпишь бедствие. Тебя, полумертвого, вместе с остатками аппаратуры выбрасывает морской волной на берег… Обращаться к Черным полковникам за помощью ты, конечно, не станешь, а попробуешь получить поддержку греческих товарищей – тут-то и пригодится знание имени подпольного главы греческих коммунистов».
Те времена подготовки к кругосветному путешествию были временами надежд и радужных ожиданий, ярким солнечным светом, засветившим темные углы нашей жизни, – всё у нас получалось, всё работало, и мы сами словно излучали блестки ума и юмора. Даже неумолимое приближение заседания Идеологической комиссии не могло отравить нашего оптимизма и радости успешного творчества. Однако, прежде чем рассказать об этом чрезвычайно серьезном событии, необходимо ввести в наше повествование несколько важных действующих лиц.