Текст книги "Вишневая косточка"
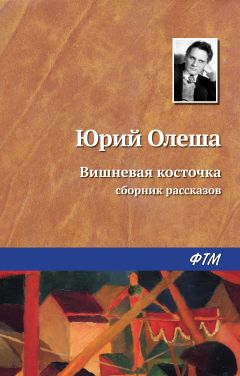
Автор книги: Юрий Олеша
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Юрий Олеша
Вишневая косточка
Сборник рассказов
Любовь
Шувалов ожидал Лелю в парке. Был жаркий полдень. На камне появилась ящерица. Шувалов подумал: на этом камне ящерица беззащитна, ее можно сразу обнаружить. «Мимикрия», – подумал он. Мысль о мимикрии привела воспоминание о хамелеоне.
– Здравствуйте, – сказал Шувалов. – Не хватало только хамелеона.
Ящерица убежала.
Шувалов поднялся в сердцах со скамейки и быстро пошел по дорожке. Его охватила досада, возникло желание воспротивиться чему-то. Он остановился и сказал довольно громко:
– Да ну его к черту! Зачем мне думать о мимикрии и хамелеоне? Эти мысли мне совершенно не нужны.
Он вышел на полянку и присел на пенек. Летали насекомые. Вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас – некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город.
«Мною начинают распоряжаться, – подумал Шувалов. – Сфера моего внимания засоряется. Я становлюсь эклектиком. Кто распоряжается мною? Я начинаю видеть то, чего нет».
Леля не шла. Его пребывание в саду затянулось. Он прогуливался. Ему пришлось убедиться в существовании многих пород насекомых. По стеблю ползла букашка, он снял ее и посадил на ладонь. Внезапно ярко сверкнуло ее брюшко. Он рассердился.
– К черту! Еще полчаса – и я стану натуралистом.
Стебли были разнообразны, листья, стволы; он видел травинки, суставчатые, как бамбук; его поразила многоцветность того, что называют травяным покровом; многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной.
– Я не хочу быть натуралистом! – взмолился он. – Мне не нужны эти случайные наблюдения.
Но Леля не шла. Он уже сделал кое-какие статистические выводы, произвел уже кое-какую классификацию. Он уже мог утверждать, что в этом парке преобладают деревья с широкими стволами и листьями, имеющими трефовую форму. Он узнавал звучание насекомых. Внимание его, помимо его желания, наполнилось совершенно неинтересным для него содержанием.
А Леля не шла. Он тосковал и досадовал. Вместо Лели пришел неизвестный гражданин в черной шляпе. Гражданин сел рядом с Шуваловым на зеленую скамью. Гражданин сидел, несколько понурившись, положив на каждое колено по белой руке. Он был молод и тих. Оказалось впоследствии, что молодой человек страдает дальтонизмом. Они разговорились.
– Я вам завидую, – сказал молодой человек. – Говорят, что листья зеленые. Я никогда не видел зеленых листьев. Мне приходится есть синие груши.
– Синий цвет несъедобный, – сказал Шувалов. – Меня бы стошнило от синей груши.
– Я ем синие груши, – печально повторил дальтоник.
Шувалов вздрогнул.
– Скажите, – спросил он, – не замечали ли вы, что когда вокруг вас летают птицы, то получается город, воображаемые линии?..
– Не замечал, – ответил дальтоник.
– Значит, весь мир воспринимается вами правильно?
– Весь мир, кроме некоторых цветовых деталей. – Дальтоник повернул к Шувалову бледное лицо.
– Вы влюблены? – спросил он.
– Влюблен, – честно ответил Шувалов.
– Только некоторая путаница в цветах, а в остальном – все естественно! – весело сказал дальтоник. При этом он сделал покровительственный по отношению к собеседнику жест.
– Однако синие груши – это не пустяк, – ухмыльнулся Шувалов.
Вдали появилась Леля. Шувалов подпрыгнул. Дальтоник встал и, приподняв черную шляпу, стал удаляться.
– Вы не скрипач? – спросил вдогонку Шувалов.
– Вы видите то, чего нет, – ответил молодой человек.
Шувалов запальчиво крикнул:
– Вы похожи на скрипача.
Дальтоник, продолжая удаляться, проговорил что-то, и Шувалову послышалось:
– Вы на опасном пути…
Леля быстро шла. Он поднялся навстречу, сделал несколько шагов. Покачивались ветви с трефовыми листьями. Шувалов стоял посреди дорожки. Ветви шумели. Она шла, встречаемая овацией листвы. Дальтоник, забиравший вправо, подумал: «А ведь погода-то ветрена», – и посмотрел вверх, на листву. Листва вела себя, как всякая листва, взволнованная ветром. Дальтоник увидел качающиеся синие кроны. Шувалов увидел зеленые кроны. Но Шувалов сделал неестественный вывод. Он подумал: «Деревья встречают Лелю овацией». Дальтоник ошибался, но Шувалов ошибался еще грубее.
– Я вижу то, чего нет, – повторил Шувалов.
Леля подошла. В руке она держала кулек с абрикосами. Другую руку она протянула ему. Мир стремительно изменился.
– Отчего ты морщишься? – спросила она.
– Я, кажется, в очках.
Леля достала из кулька абрикос, разорвала маленькие его ягодицы и выбросила косточку. Косточка упала в траву. Он испуганно оглянулся. Он оглянулся и увидел: на месте падения косточки возникло дерево, тонкое, сияющее деревце, чудесный зонт. Тогда Шувалов сказал Леле:
– Происходит какая-то ерунда. Я начинаю мыслить образами. Для меня перестают существовать законы. Через пять лет на этом месте вырастет абрикосовое дерево. Вполне возможно. Это будет в полном согласии с наукой. Но я, наперекор всем естествам, увидел это дерево на пять лет раньше. Ерунда. Я становлюсь идеалистом.
– Это от любви, – сказала она, истекая абрикосовым соком.
Она сидела на подушках, ожидая его. Кровать была вдвинута в угол. Золотились на обоях венчики. Он подошел, она обняла его. Она была так молода и так легка, что, раздетая, в сорочке, казалась противоестественно оголенной. Первое объятие было бурным. Детский медальон вспорхнул с ее груди и застрял в волосах, как золотая миндалина. Шувалов опускался над ее лицом – медленно, как лицо умирающей, уходившим в подушку.
Горела лампа.
– Я потушу, – сказала Леля.
Шувалов лежал под стеной. Угол надвинулся. Шувалов водил пальцем по узору обоев. Он понял: та часть общего узора обоев, тот участок стены, под которым он засыпает, имеет двойное существование: одно обычное, дневное, ничем не замечательное – простые венчики; другое – ночное, воспринимаемое за пять минут до погружения в сон. Внезапно подступив вплотную, части узоров увеличились, детализировались и изменились. На грани засыпания, близкий к детским ощущениям, он не протестовал против превращения знакомых и законных форм, тем более что превращение это было умилительно: вместо завитков и колец он увидел козу, повара…
– И вот скрипичный ключ, – сказала Леля, поняв его.
– И хамелеон… – прошепелявил он, засыпая.
Он проснулся рано утром. Очень рано. Он проснулся, посмотрел по сторонам и вскрикнул. Блаженный звук вылетел из его горла. За эту ночь перемена, начавшаяся в мире в первый день их знакомства, завершилась. Он проснулся на новой земле. Сияние утра наполняло комнату. Он видел подоконник и на подоконнике горшки с разноцветными цветами. Леля спала, повернувшись к нему спиной. Она лежала свернувшись, спина ее округлилась, под кожей обозначился позвоночник – тонкая камышина. «Удочка, – подумал Шувалов, – бамбук». На этой новой земле все было умилительно и смешно. В открытое окно летели голоса. Люди разговаривали о цветочных горшках, выставленных на ее окне.
Он встал, оделся, с трудом удерживаясь на земле. Земного притяжения более не существовало. Он не постиг еще законов этого нового мира и поэтому действовал осторожно, с опаской, боясь каким-нибудь неосторожным поступком вызвать оглушительный эффект. Даже просто мыслить, просто воспринимать предметы было рискованно. А вдруг за ночь в него вселилось умение материализировать мысли? Имелось основание так предполагать. Так, например, сами собой застегнулись пуговицы. Так, например, когда ему потребовалось намочить щетку, чтобы освежить волосы, внезапно раздался звук падающих капель. Он оглянулся. На стене под лучами солнца горела цветами монгольфьеров охапка Лелиных платьев.
– Я тут, – прозвучал из вороха голос крана.
Он нашел под охапкой кран и раковину. Розовый обмылок лежал тут же. Теперь Шувалов боялся подумать о чем-либо страшном. «В комнату вошел тигр», – готов был подумать он против желания, но успел отвлечь себя от этой мысли… Однако в ужасе посмотрел он на дверь. Материализация произошла, но так как мысль была не вполне оформлена, то и эффект материализации получился отдаленный и приблизительный: в окно влетела оса… она была полосата и кровожадна.
– Леля! Тигр! – завопил Шувалов.
Леля проснулась. Оса повисла на тарелке. Оса жироскопически гудела. Леля соскочила с кровати. Оса полетела на нее. Леля отмахивалась – оса и медальон летали вокруг нее. Шувалов прихлопнул медальон ладонью. Они устроили облаву. Леля накрыла осу хрустящей своей соломенной шляпой.
Шувалов ушел. Они распрощались на сквозняке, который в этом мире казался необычайно деятельным и многоголосым. Сквозняк раскрыл двери внизу. Он пел, как прачка. Он завертел цветы на подоконнике, подкинул Лелину шляпу, выпустил осу и бросил в салат. Он поднял Лелины волосы дыбом. Он свистел.
Он поднял дыбом Лелину сорочку.
Они расстались, и, от счастья не чувствуя под собой ступенек, Шувалов спустился вниз, вышел во двор… Да, он не чувствовал ступенек. Далее он не почувствовал крыльца, камня; тогда он обнаружил, что сие не мираж, а реальность, что ноги его висят в воздухе, что он летит.
– Летит на крыльях любви, – сказали в окне под боком. Он взмыл, толстовка превратилась в кринолин, на губе появилась лихорадка, он летел, прищелкивая пальцами.
В два часа он пришел в парк. Утомленный любовью и счастьем, он заснул на зеленой скамье. Он спал, выпятив ключицы под расстегнутой толстовкой.
По дорожке медленно, держа на заду руки, со степенностью ксендза и в одеянии вроде сутаны, в черной шляпе, в крепких синих очках, то опуская, то высоко поднимая голову, шел неизвестный мужчина.
Он подошел и сел рядом с Шуваловым.
– Я Исаак Ньютон, – сказал неизвестный, приподняв черную шляпу. Он видел сквозь очки свой синий фотографический мир.
– Здравствуйте, – пролепетал Шувалов.
Великий ученый сидел прямо, настороженно, на иголках. Он прислушивался, его уши вздрагивали, указательный палец левой руки торчал в воздухе, точно призывая к вниманию невидимый хор, готовый каждую секунду грянуть по знаку этого пальца. Все притаилось в природе. Шувалов тихо спрятался за скамью. Один раз взвизгнул под пятой его гравий. Знаменитый физик слушал великое молчание природы. Вдали, над купами зелени, как в затмение, обозначилась звезда, и стало прохладно.
– Вот! – вдруг вскрикнул Ньютон. – Слышите?..
Не оглядываясь, он протянул руку, схватил Шувалова за полу и, поднявшись, вытащил из засады. Они пошли по траве. Просторные башмаки ученого мягко ступали, на траве оставались белые следы. Впереди, часто оглядываясь, бежала ящерица. Они прошли сквозь чащу, украсившую пухом и божьими коровками железо очков ученого. Открылась полянка. Шувалов узнал появившееся вчера деревце.
– Абрикосы? – спросил он.
– Нет, – раздраженно возразил ученый, – это яблоня.
Рама яблони, клеточная рама ее кроны, легкая и хрупкая, как рама монгольфьера, сквозила за необильным покровом листьев. Все было неподвижно и тихо.
– Вот, – сказал ученый, сгибая спину. От согнутости его голос походил на рык. – Вот! – он держал в руке яблоко. – Что это значит?
Было видно, что не часто приходилось ему нагибаться: выровнявшись, он несколько раз откинул спину, ублажая позвоночник, старый бамбук позвоночника. Яблоко покоилось на подставке из трех пальцев.
– Что это значит? – повторил он, оханьем мешая звучанью фразы. – Не скажете ли вы, почему упало яблоко?
Шувалов смотрел на яблоко, как некогда Вильгельм Телль.
– Это закон притяжения, – прошепелявил он.
Тогда, после паузы, великий физик спросил:
– Вы, кажется, сегодня летали, студент? – так спросил магистр. Брови его ушли высоко над очками.
– Вы, кажется, сегодня летали, молодой марксист?
Божья коровка переползла с пальца на яблоко. Ньютон скосил глаза. Божья коровка была для него ослепительно синей. Он поморщился. Она снялась с самой верхней точки яблока и улетела при помощи крыльев, вынутых откуда-то сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок.
– Вы сегодня, кажется, летали?
Шувалов молчал.
– Свинья, – сказал Исаак Ньютон.
Шувалов проснулся.
– Свинья, – сказала Леля, стоявшая над ним. – Ты ждешь меня и спишь. Свинья!
Она сняла божью коровку со лба его, улыбнувшись тому, что брюшко у насекомого железное.
– Черт! – выругался он. – Я тебя ненавижу. Прежде я знал, что это божья коровка, – и ничего другого о ней, кроме того, что она божья коровка, я не знал. Ну, скажем, я мог бы еще прийти к заключению, что имя у нее несколько антирелигиозное. Но вот с тех пор, как мы встретились, что-то сделалось с моими глазами. Я вижу синие груши и вижу, что мухомор похож на божью коровку.
Она хотела обнять его.
– Оставь меня! Оставь! – закричал он. – Мне надоело! Мне стыдно.
Крича так, он убегал, как лань. Фыркая, дикими скачками, бежал он, отпрыгивая от собственной тени, кося глазом. Запыхавшись, он остановился. Леля исчезла. Он решил забыть все. Потерянный мир должен быть возвращен.
– До свиданья, – вздохнул он, – мы с тобой не увидимся больше.
Он сел на покатом месте, на гребне, с которого открывался вид на широчайшее пространство, усеянное дачами. Он сидел на вершине призмы, спустив ноги по покатости. Под ним кружил зонт мороженщика, весь выезд мороженщика, чем-то напоминающий негритянскую деревню.
– Я живу в раю, – сказал молодой марксист расквашенным голосом.
– Вы марксист? – прозвучало рядом.
Молодой человек в черной шляпе, знакомый дальтоник, сидел с Шуваловым в ближайшем соседстве.
– Да, я марксист, – сказал Шувалов.
– Вам нельзя жить в раю.
Дальтоник поигрывал прутиком. Шувалов вздыхал.
– Что же мне делать? Земля превратилась в рай.
Дальтоник посвистывал. Дальтоник почесывал прутиком в ухе.
– Вы знаете, – продолжал, хныкая, Шувалов, – вы знаете, до чего я дошел? Я сегодня летал.
В небе косо, как почтовая марка, стоял змей.
– Хотите, я продемонстрирую вам… я полечу туда. (Он протянул руку.)
– Нет, спасибо. Я не хочу быть свидетелем вашего позора.
– Да, это ужасно, – помолчав, молвил Шувалов. – Я знаю, что это ужасно.
– Я вам завидую, – продолжал он.
– Неужели?
– Честное слово. Как хорошо весь мир воспринимать правильно и путаться только в некоторых цветовых деталях, как это происходит с вами. Вам не приходится жить в раю. Мир не исчез для вас. Все в порядке. А я? Вы подумайте, я совершенно здоровый человек, я материалист… и вдруг на моих глазах начинает происходить преступная антинаучная деформация веществ, материи…
– Да, это ужасно, – согласился дальтоник. – И все это от любви.
Шувалов с неожиданной горячностью схватил соседа за руку.
– Слушайте! – воскликнул он. – Я согласен. Дайте мне вашу радужную оболочку и возьмите мою любовь.
Дальтоник полез по покатости вниз.
– Извините, – говорил он. – Мне некогда. До свиданья. Живите себе в раю.
Ему трудно было двигаться по наклону. Он полз раскорякой, теряя сходство с человеком и приобретая сходство с отражением человека в воде. Наконец он добрался до ровной плоскости и весело зашагал. Затем, подкинув прутик, он послал Шувалову поцелуй и крик.
– Кланяйтесь Еве! – крикнул он.
А Леля спала. Через час после встречи с дальтоником Шувалов отыскал ее в недрах парка, в сердцевине. Он не был натуралистом, он не мог определить, что окружает его: орешник, боярышник, бузина или шиповник. Со всех сторон насели на него ветви, кустарники, он шел, как коробейник, нагруженный легким сплетением сгущавшихся к сердцевине ветвей. Он сбрасывал с себя эти корзины, высыпавшие на него листья, лепестки, шипы, ягоды и птиц.
Леля лежала на спине, в розовом платье, с открытой грудью. Она спала. Он слышал, как потрескивают пленки в ее набрякшем от сна носу. Он сел рядом.
Затем он положил голову к ней на грудь, пальцы его чувствовали ситец, голова лежала на потной груди ее, он видел сосок ее, розовый, с нежными, как пенка на молоке, морщинами. Он не слышал шороха, вздоха, треска сучьев.
Дальтоник возник за переплетом куста. Куст не пускал его.
– Послушайте, – сказал дальтоник.
Шувалов поднял голову с услащенной щекой.
– Не ходите за мной, как собака, – сказал Шувалов.
– Слушайте, я согласен. Возьмите мою радужную оболочку и дайте мне вашу любовь…
– Идите покушайте синих груш, – ответил Шувалов.
1928
Цепь
Студент Орлов ухаживал за моей сестрой Верой.
Он приезжал на дачу на велосипеде. Велосипед стоял над цветником, прислоненный к борту веранды. Велосипед был рогат.
Студент снимал со щиколоток сверкающие зажимы, нечто вроде шпор без звона, и бросал их на деревянный стол. Затем студент снимал фуражку с небесным околышем и вытирал лоб платком. Лицо у него было коричневое, лоб белый, голова бритая, радужная, с шишкой. Студент не видел меня. Я видел все. Он не говорил со мной ни слова.
Деревянный стол был морщинист, на столе стоял горшок с цветами, студент дул в цветы, цветы отворачивались. Студент смотрел вдаль и видел синий околыш моря.
– Блерио перелетел через Ла-Манш, – сказал я. Я был еще в том возрасте, когда человек, прежде чем произнести фразу, проглатывает слюну.
– Перелетел, – сказал студент.
И снова молчание.
Я не имею права участвовать в жизни мира. Мне даже совестно выражаться так умно: Блерио… Ла-Манш…
Студент вынимает из горшка стебель, на котором две распустившиеся гвоздики и один бутон. Бутон он откусывает. Бутон туг, блестящ, цилиндричен, похож на пулю. Студент втягивает щеки и стреляет бутоном. Попадает в велосипед, в спицу. Колесо звучит, как арфа.
– У аэроплана колеса велосипедные? – спрашиваю я. Велосипедные – это я знаю отлично. Но мне кажется, что студент глуп. Я уверен, что я гораздо более, чем он, осведомлен по части авиации. Но мне неловко признать это, и я считаю необходимым дать студенту возможность оказаться более сведущим.
– Велосипедные, – говорит студент.
Тут треугольник: велосипед, студент, я.
Я краснею: мне хочется все время говорить о велосипеде; я чувствую, что это стыдно, краска заливает мне лицо. Он дубина, студент, – я это знаю. Я вижу его насквозь.
– Гусь твой Сева, – сказал папа Вере.
Действительно, Сева гусь. Но что делать? Он владеет велосипедом. И я кривляюсь, лицемерю. Меня лихорадит в его присутствии.
Я хочу сказать:
– Всеволод Васильевич, разрешите мне покататься. Недалеко, по дорожке. Потом я заверну к калитке. Там ровная поверхность. Я проеду осторожно. Или даже не надо к калитке. Довольно будет и по дорожке.
Так я хочу сказать. Даже брови поднимаются от стыда. Опершись локтями на стол, я опускаю брови при помощи пальцев.
Вчера мне разрешено было покататься. Нельзя же так часто. Попрошу завтра. Или даже послезавтра.
Я смотрю на велосипед. Каждую минуту студент может поймать мой взгляд. Тогда я чуть-чуть, незаметно, на одну линию подниму взгляд и буду смотреть на лозу. На ней повисла кошка. В полной тишине висит среди листьев белая маленькая кошка, сибирская, пушистая – о, почти пернатая! – представительница знатного рода, ставшая босячкой.
Студент увидел кошку.
– Ах ты дрянь! – сказал он. – Виноград ест.
Никогда не едят кошки винограда. И виноград этот дикий. Но студент встает, – и я не заступаюсь. Напротив, я прыгаю. Студент отдирает кошку от виноградной стены и швыряет за перила.
Студент спускается в сад. Сейчас вернется с купанья Вера. Вот она появляется за проволочной изгородью. Ускоряет шаг, увидев своего гуся; бежит. Вот они встретились, она складывает розовый зонт.
Студент сказал:
– Можно!
Из кожаной сумки, прикрепленной под седлом, я достал французский ключ. Я поворачивал винт и опускал седло. Как прохладны фибровые ручки руля! Я веду машину по ступенькам в сад. Она подпрыгивает, звенит. Она кивает фонарем. Я поворачиваю ее. Вспыхивает на переднем стволе рамы зеленая марка фирмы. Движение – и марка исчезает, как ящерица.
Я еду.
Так хрустит гравий; так бежит под взглядом сверху шина; так калитка норовит попасть под плечо, как костыль; так лежит на дороге какая-то гайка, пушистая от ржавчины, – так начинается путешествие!
Движение происходит как бы по биссектрисе между стремительно суживающимися сторонами угла.
В глаз попала мушка. О, почему это случилось? Так громадно пространство, по которому несусь я, так быстро мое движение – и надо ж… И надо ж двум совершенно несогласованным движениям – моему и насекомого – столкнуться в таком небольшом моем глазу!
Поле зрения становится горьким. Я зажмуриваю глаз так сильно, что бровь касается щеки; руль выпустить нельзя, – я стараюсь поднять веко, оно трепещет… Я торможу, схожу, машина лежит, педаль еще вертится; я раскрываю глаз пальцами, – яблоко повернуто книзу, и я вижу алое ложе века.
Почему насекомое, попав в глаз, немедленно гибнет? Неужели я выделяю ядовитые соки?
И вновь я качу.
Птица улетает из-под самого колеса – в последнюю долю секунды. Не боится. Это мелкая птица. А голубь не улетает даже. Голубь просто отходит в сторону, даже не оглядываясь на велосипедиста.
Бег велосипеда сопровождается звуком, похожим на жарение. Иногда как будто взрывается шутиха. Но это не важно. Это подробности, которых можно наворотить сколько угодно. Можно сказать о коровах, распертых изнутри костяком и напоминающих шатры. Или о коровах в белых замшевых масках. Важно то, что я потерял передаточную цепь. Без нее на велосипеде ездить нельзя. На полном ходу слетела передаточная цепь, и я это заметил слишком поздно.
Она лежит на дороге. Нужно вернуться и подобрать. Ничего тут страшного нет. Страшного тут нет ничего. Я иду и веду машину за фибровую ручку. Педаль толкает меня под колено. Три мальчика, три неизвестных мне мальчика бегут по краю оврага. Они убегают, позлащенные солнцем. Блаженная слабость возникает у меня внизу живота. Я понимаю: мальчики нашли цепь. Это неизвестные мальчики, бродяги. Вот они уже бегут в глубине ландшафта.
Так произошло несчастье.
И мне представляется:
…Я возвращаюсь на дачу как ни в чем не бывало. Я привожу пришедший в негодность велосипед и прислоняю его к борту веранды. Пьют чай: папа, мама, Вера и студент Орлов. К чаю дан пирог со сливами. Это плоский сиреневый круг. Мы сидим напротив друг друга: я и студент Орлов. Ситуация такая: у студента был велосипед, и я этот велосипед испортил. Можно усилить: у студента была жена, и я выбил ей глаз. Наступает вечер. Так я представляю себе: наступает вечер, приносят лампу, у мамы на груди, на стеклярусе, образуется лунная дорога. Студент встает, говорит:
– Я поехал.
Идет к велосипеду.
Потом гробовая тишина.
Нет, не тишина… В действительности Вера говорит что-то, мама тоже говорит, но уже в сознании моем существует тишина. Студент нагнулся над велосипедом, и я предчувствую, как сейчас повернется в мою сторону его голова, – и уже между мной и студентом протягивается тишина.
– Где передача? – спрашивает студент.
– Какая передача? – спрашиваю я.
– Как какая?
– Какая?
– Потерял?
– Никакой передачи не было, – говорю я. – Я ездил без передачи. Разве была передача?
– Он сошел с ума, – говорит папа. – Смотрите, он сидит с высунутым языком.
Тишина. Я сижу с высунутым языком.
Так мне представляется. Законным путем нельзя выпутаться из несчастья. Остается одно: нарушить закон.
Я решаю действовать как во сне. И приходит из глубины воспоминание о страшном, изредка повторяющемся сновидении: я убиваю маму. Я встаю. Вера закрывает лицо руками. Мама как бы оседает вся, делается толще, лишается шеи.
Так мне представляется.
Я не могу вернуться домой.
Сейчас меня хватятся.
Я отправляюсь на дачу к Гурфинкелям. Гриша Гурфинкель, который со мной в одном классе, должен мне помочь. Я буду плакать; знаменитый хирург, профессор Гурфинкель, пожалеет меня. Малокровный мальчик будет плакать и биться в присутствии великого доктора. Ну сколько может стоит передача? Они дадут мне… Мы купим передачу.
И я пошел. Чужая жена с выбитым глазом волочилась за мной. Мы оглядывались: не началась ли погоня?
Но Гурфинкелей нет, они уехали. Они уехали в Шабо, на виноград. Я ухожу. Возле лавки, где продаются прохладительные напитки, собралась толпа. И я слышу слово «Уточкин».
Стоит автомобиль. Страшный автомобиль. Я его уже видел однажды. Он пролетал по Ланжероновской улице, производя грохот, подобный пальбе, дымясь… Он не катился, он как бы несся прыжками.
Это автомобиль, не имеющий на моторе покрышки, грязный, блестящий маслом, из него каплет, в нем шипит.
Уточкин пьет в лавке прохладительный напиток. Толпа говорит о великом гонщике. «Уточкин», – говорят. «Рыжий», – говорят и вспоминают, что он заика.
Толпа раздается. Выходит великий гонщик. Без шапки. И еще какие-то люди с ним. Тоже рыжие. Он идет впереди. На велодроме он победил Петерсона, Бадера.
(Он – считается – чудак. Отношение к нему – юмористическое. Неизвестно почему. Он одним из первых стал ездить на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, одним из первых стал летать. Смеялись. Он упал в перелете Петербург – Москва, разбился. Смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он городской сумасшедший.)
Я смотрю на Уточкина.
Он одет в нечто, напоминающее мешок, испачканное, блестящее, разрезанное наверху. Он доедает кремовое пирожное. Руки его в кожаных рукавицах. Пирожное рассыпается по рукавицам, как сирень. Персидская сирень на губах у него, на щеке. Заводят мотор, который начинает стрелять, как пушка, местность трясется, поднимается вихрь. Я падаю вместе с велосипедом. Хватаюсь за спицы. Какую-то букву напоминает мне страшный автомобиль – не то Ф, не то Б, положенное на спину.
Уточкин поднимает меня.
В хаосе происходит тихая сентиментальная сцена: я хватаю руку в перчатке с раструбом, рассказываю обо всем, что случилось со мной, – о студенте, о велосипеде, о катастрофе…
Затем мой велосипед ставят поперек автомобиля. Страшная машина получает прозрачное украшение. Пять человек, в том числе и я, садятся на брюхо буквы Б. О, индустриальная сказка! Ничего не помню! Ничего не знаю! Помню только: рейс наш сопровождался тем, что вдоль дороги все собаки вставали на дыбы.
Я, конечно, не умру, я буду жить и потом – и после этого дня, завтра и долго-долго. Ничто не изменится, я буду по-прежнему мальчиком, будет студент Орлов, и драма с передачей не окончится легко и безболезненно… Но сейчас… Сейчас я нахален, высокомерен и жесток. Куда я мчусь? Я мчусь наказывать маму, папу, Веру, студента… Если бы они сейчас стали умирать на глазах у меня, я воскликнул бы со смехом: «Смотрите, Уточкин! Ха-ха-ха! Они умирают… мы на машине, черные… Кто там сказал: „любовь, послушание, жалость“? Не знаем, не знаем, у нас – цилиндры, бензин, протекторы… Мы мужчины. Вот он великий мужчина: Уточкин! Мужчина едет наказывать папу».
Мы останавливаемся у калитки. Идем. Впереди идет Уточкин. Мы с велосипедом бежим сзади. Мотор стреляет все время. На дальних дачах сбегаются к калиткам люди и слушают отдаленную канонаду.
Уточкин и студент встречаются лицом к лицу.
Окружающие ничего не понимают.
Я уехал ведь с нежным позваниванием. Какой я был кроткий, послушный! Я просил. Мне разрешили. Это было час тому назад! И вдруг я появился с грозой, с молниями, с призраком! Дерзкий! Неукротимый!
– Нельзя обижать ребенка, – сказал студенту Уточкин, заикаясь и морщась. – Зачем вы обидели ребенка? Будьте добры, отдайте ему передачу.
А кончается тем, что автомобиль отпрыгивает от дачи, и студент Орлов кричит вслед улетающей буре:
– Свинья! Шарлатан! Сумасшедший!
Это рассказ о далеком прошлом.
Мечтой моей было: иметь велосипед. Ну вот, теперь я стал взрослым. И вот, взрослый, я говорю себе, гимназисту:
– Ну что ж, требуй теперь. Теперь я могу отомстить за себя. Высказывай заветные желания.
И никто не отвечает мне.
Тогда я опять говорю:
– Посмотри на меня, так недалеко удалился я от тебя – и уже, смотри: я набряк, переполнился… Ты был ровесником века. Помнишь? Блерио перелетел через Ла-Манш? Теперь я отстал, смотри, как я отстал, я семеню – толстяк на коротких ножках… Смотри, как мне трудно бежать, но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги, – бегу за гремящей бурей века!
1928
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































