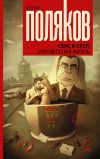Читать книгу "Селфи с музой. Рассказы о писательстве"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
13. Великий советский читатель
Я где-то читал, что великий физиолог Павлов даже из собственной кончины устроил научный эксперимент: диктовал свои предсмертные ощущения, а ученики тщательно записывали.
– Холодеют ноги… – говорил Павлов.
«Холодеют ноги», – записывали ученики.
– Умираю… – шептал Павлов.
«Умирает», – записывали ученики.
Будучи по образованию филологом и даже защитив кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии, я тоже имею некоторую склонность к научным наблюдениям и несколько раз пытался на собственном опыте проанализировать закономерности умирания поэта. Ведь всё у меня шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна за другой поэтические книжки – всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьёзно. Я был несомненным баловнем успеха. Для сравнения: за свои повести и романы (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне удалось сделать несравненно больше, нежели в поэзии) я на сегодняшний день получил поощрений куда меньше. Исключение составляет повесть «ЧП районного масштаба». Но премия Ленинского комсомола, присуждённая за эту вещь, относится скорее к политике, нежели к литературе.
Кроме того, стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но, что ещё серьёзнее, – подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая, доложу вам, была организация! Могла откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок отечества – хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию… Выступив перед читателями, ты должен был отметить в месткоме особую путёвку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов «соцкультбыта». Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путёвкой. Прибыв на место, я обычно шёл к начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы. Не могу сказать, что, к примеру, председатель колхоза, увидав в своём кабинете столичного поэта, подпрыгивал от радости.
– Сколько нужно организовать выступлений? – хмуро спрашивал он.
– Десять, – скромно отвечал я.
– Десять? Они там сума сошли! У меня же уборочная! И дороги развезло… На тракторе тащить надо! Нет, вы поймите правильно, товарищ поэт, стихи мы здесь любим. Я вот Пушкина уважаю. Но ведь уборочная…
– Я понимаю.
– Что же делать? Что? – Председатель нервно мерил кабинет шагами.
И он, и я прекрасно знали, что нужно делать, но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо для нарушения финансовой дисциплины требовалось единодушие, переходящее в сговор.
– Послушайте! – вдруг, словно поражённый неожиданной мыслью, восклицал он. – Давайте так… Вы выступаете в центральной усадьбе – в бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путёвках я вам штампы поставлю. Из любви к литературе. Идёт?
– Вообще-то не положено, – розовея от радости, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подразделения колхоза мне тоже не очень-то хотелось.
– Сам знаю: не положено, – почти уже просил меня председатель. – Но ведь уборочная и дороги развезло…
– Ну ладно… – поколебавшись для вида, соглашался я. – Мы тоже в Москве понимаем. Уборочная… Закрома родины… Дороги развезло…
– Ну и прекрасно! – широко улыбался селянин и наклонялся к селектору. – Дуся? Гони вместо обеда бухгалтерию в актовый зал. Поэт из Москвы приехал… Как фамилия?
– Поляков, – подсказывал я.
– Куликов. Очень известный поэт!
Справедливости ради надо сказать, что встречи, организованные таким вот необычным способом, проходили всегда очень тепло. Читал я любовную лирику, и меня, как правило, долго не отпускали, прихватывая кроме обеденного перерыва ещё и рабочее время. Я повторял на бис понравившиеся людям строчки:
И если мы любовь уже не ценим
За красоту, как небо и цветы,
Попробуем беречь хотя бы в целях
Охраны окружающей среды…
Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не сопереживают им, значит, делаешь ты что-то не то. Поверьте, я не заигрываю с «рядовым читателем», просто утверждаю: стихи, оставляющие эмоционально-равнодушными «нефилологическую» публику, – это не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллектуальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы… Но поэзия – это то, отчего загораются глаза и холодеет под ложечкой у грустной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залётного стихотворца. Советская эпоха дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии. Увы, и те и другие уходят, исчезают – незаметно, но неумолимо. Хотя иногда их ещё можно встретить в самом неожиданном месте…
14. Как умирают поэты
В 2011 году мы с Евгением Евтушенко дожидались своей очереди к начальнику земельного комитета Ленинского района Московской области. В эту уважаемую организацию нас привели переделкинские заморочки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то писателей – дачный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Александрович буквально страдал оттого, что никто из просителей, уткнувшихся в бумаги, не узнает его, всенародного. Отчаявшись, он наклонился к девушке, строчившей рядом заявление, испросил с интимной игривостью:
– Голубушка, назовите мне выдающегося русского поэта, родившегося на станции Зима!
Она нехотя оторвалась от писанины, глянула на пожилого приставалу, точно на расконвоированного сумасшедшего, и сурово попросила не отвлекать её от дела глупыми вопросами. Автор «Братской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся ко мне. На его лице был ужас человека, заглянувшего в мертвецкую.
– Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в год?! – воскликнул он с геморроидальным отчаянием. – Эта страна мертва! Духовная пустыня! Конец… Понимаете?
Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, и промолчал. Мне-то было понятно совсем другое: не может русский поэт безнаказанно оставить по собственному желанию родину в самые сложные времена, пятнадцать лет жить в Америке, а потом обижаться на своё отечество за невнимание…
– Нет! Ноги моей больше здесь не будет! – покончил счёты с неблагодарной страной Евтушенко, померк и отвернулся к окну.
В этот момент начальственная дверь отворилась, и в коридор вышла немолодая женщина с подписанной бумажкой в благодарных руках. Она, думая о чём-то своём, может, о побелке и купоросе, машинально окинула нас занятым взглядом и вдруг вскрикнула, потрясённая:
– Нет… Не может быть… Здесь… Евгений Александрович, это вы?
– Я… – сознался, оживая, Евтушенко.
– Можно вас потрогать?
– Можно!
Получив разрешение, она бросилась ему на шею с почти чувственным стоном, крепко обняла, оторвалась, отстранилась, вглядываясь в дорогие черты, и прочитала наизусть «Любимая, спи!». Потом снова жарко обняла:
– Вы… Вы просто не знаете, кто вы для нас! Господи, теперь и умереть можно… – всплакнула и сквозь слёзы прочитала «Хотят ли русские войны…».
Они ещё долго обнимались, вспоминая вечера в Политехническом, родную Сибирь… Когда же поклонница наконец ушла, вся в счастливых слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, произнёс:
– Нет, Юра, с этой страной ещё не всё кончено! У России есть шанс!
…Но вернёмся к моей поэтической судьбе. Можно сказать, на взлёте я вдруг перестал быть поэтом. Но не сразу, процесс был естественный, постепенный, а ведь случается по-другому…
Вот два примера из моего поколения.
Мой литературный сверстник поэт Пётр Кошель, приехавший искать счастья в столицу из Белоруссии, был беден, хром, лыс и бездомен, зато писал такие стихи, что Вадим Кожинов поспешил объявить его наследником традиций Тютчева и Рубцова, надеждой русской поэзии. Мы дружили. Он провожал меня в армию. Вдруг неожиданно для всех Петя женился на дочке члена политбюро Спюнькова, в недавнем прошлом минского партийного функционера, стремительно возвысившегося после странной гибели в автомобильной аварии Петра Машерова – легендарного первого секретаря ЦК КП Белоруссии. Причём, насколько я понимаю, то был брак не по расчёту, а по взаимной любви. Пётр и Инесса познакомились ещё в Минске. Кстати, в том, что дочку большого советского начальника бездомный, нищий и невзрачный поэт мог покорить талантом, никто ничего странного не видел. Тогда ещё не знали той классовой спеси и той пропасти между богатыми и бедными, какая разверзлась сегодня.
Через несколько лет я встретил Кошеля в ЦДЛ, мы выпили пива. Он рассказал, как ездил с какими-то генералами на охоту, и стал звать меня в гости, обещая показать свою новую квартиру и угостить двадцатилетним коньяком. Кто же откажется от двадцатилетнего коньяка! К тому же я как раз получил от Союза писателей трёхкомнатную квартиру на Хорошёвке, чем страшно гордился. Хотелось сравнить. Тем более что прежняя квартира, полученная молодожёнами Кошелями, была в Лосинке, в том самом доме, на стройке которого я подрабатывал в студенческие каникулы разнорабочим. Жизнь любит опоясывающие рифмы.
– А теперь где? – спросил я.
– На Таганке.
– Ух ты!
И мы поехали, благо на метро всего пять остановок без пересадки. Сердце моё нехорошо заныло, едва мы подошли к свеженькому дому из бежевого кирпича – «кремлёвки». Таких в Москве насчитывалось совсем немного. Просторный подъезд с консьержкой, благоухавший, как парфюмерный отдел ГУМа, углубил огорчение: мой-то подъезд пах, как и положено: мусоропроводом, навещаемым кошками. А когда мы вошли в квартиру, я чуть не погиб от отчаяния: по огромному холлу, размером со всю мою жилплощадь, гонялись друг за другом на велосипедах Петины дети. Я окончательно сник, молча пил, не чувствуя вкуса, раритетный коньяк и слушал рассказы хозяина о том, что тёща с женой никак не могут выбрать по спецкаталогу финскую мебель для гостиной. Я-то за своей стенкой «Ратенов» три месяца ходил по вечерам к магазину отмечаться в списке.
К чему я вспомнил этот эпизод? Не знаю… Но Кошель вскоре, к страшному огорчению Кожинова, как-то полуисчез из литературы, зато ездил на охоту с генералами и лечился в цековских санаториях. Видимо, всякому таланту для развития необходимо сопротивление жизни, он хиреет в сонных условиях незаработанного комфорта. Есть такие самозатачивающиеся ножи: чем больше режешь – тем острее лезвие. Видимо, так же обстоит дело и с поэтическим словом. Если оно становится ненужным, в том числе и для заработка, – утрачивается. Вот так!
Другой случай – судьба Андрея Богословского, поэта, прозаика, композитора, автора рок-оперы «Алые паруса», сына Никиты Богословского. Году в 1995-м в моей квартире раздался звонок. Это был Андрей, с которым мы подружились в 1976-м на семинаре творческой молодёжи в Пахре, а потом почти одновременно дебютировали с прозой в «Юности». Он часто бывал у нас в Орехове-Борисове, обожал Натальины пельмени и обычно звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что получалось у него очень смешно. Творческая Москва не успевала следить за тем, как он менял жён и автомобили. После 1991-го Андрей исчез из моего поля зрения и вот вдруг объявился. На этот раз Богословский говорил своим, но очень странным, словно механическим, голосом.
– Юра, я видел тебя по телевизору, из чего заключил, что ты человек состоятельный. Поэтому хочу попросить у тебя в долг крупную сумму. Надеюсь, ты не откажешь…
– Сколько?
– Тысячу рублей! – после паузы сказал он тоном человека, решившего прыгнуть с Останкинской башни.
Сумма была по тем временам немаленькая, что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, если не шиковать, семья могла прожить месяц.
– Ладно, – согласился я, понимая: такой баловень судьбы, как Андрюша Богословский, не обратился бы ко мне за помощью без серьёзного повода. – Дам, но в два приёма. Пятьсот могу сразу, а вторую половину через месяц.
Условились назавтра встретиться в холле ЦДЛ. Я пришёл, огляделся, но Андрея не обнаружил. Вестибюль был пуст, если не считать старичка-бомжа, которого почему-то пустили в наш клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, испуская тяжёлый помоечный запах. Бомж пошевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело встал и, шаркая, пошёл мне навстречу, распахнув объятия… Это был мой ровесник, звезда моего поколения Андрей Богословский. Он дрожащими руками взял деньги и сказал, что, если сейчас не похмелится, – умрёт. Мы выпили где-то пива, он после нескольких глотков ослаб и стал бормотать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в починку пишущую машинку, разбитую в пьяной ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», что теперь он будет много работать… «Но ты не забудь – через месяц ещё пятьсот!» Через месяц я не стал с ним встречаться – оставил деньги у дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке». А вскоре Андрей умер – то ли с перепоя, то ли от передозировки. Он увлекался и тем и другим, а как прекрасно начинал!
Но мой случай другой, я перестал писать стихи по неодолимым внутренним причинам. Умирание внутреннего поэта похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию и любовь отвечают в нас какие-то очень схожие «пептиды». Сегодня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты щиколотки. Конечно, ничего страшного, а всё-таки… Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеётся. Нет, не вульгарно, просто громко. Но всё же… Ещё через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь не вселенское отчаяние, а лишь досаду с лёгким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее… Наконец, во время плотского слияния, которое ещё недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятия как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе… Далее расставание с женщиной – вопрос времени и порядочности.
Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, ещё способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита – можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних, настоящих отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот: они стали мукой для души и отрадой для разума, изощрённого в рифмах и тропах. Тебе становится ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать настоящие стихи, как невозможно заставить себя любить постылую женщину. Можно старательно изображать эту любовь, плодить детей, выполнять семейные обязанности, мыть посуду… Но любить?! Любить нелюбимую – пытка.
Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о чём не жалею. К тому же на дне души самого завалящего прозаика всегда отыщутся обломки поэта. Надеюсь, читатели моих повестей и романов это заметили…
Такими словами в 2001 годуя закончил мои заметки про то, как был поэтом, и поместил их в первую книгу четырёхтомного собрания сочинений. Прошли годы. Я стал осторожнее относиться к хлёстким, эффектным, но не совсем достоверным фразам. Поэты не только умирают, но и воскресают…
15. Как воскресают поэты
Об одном из таких воскрешений я просто не могу не рассказать. Речь идёт об Игоре Селезнёве, моём сверстнике, чьё имя читатель уже встречал в этих заметках. Мы с ним оба коренные москвичи, по образованию учителя-словесники, в 1970-е вместе входили в литературу, посещали поэтический семинар Сикорского. Он был лидером семинара, я до сих пор наизусть помню многие его стихи тех лет:
Как у поэтов нету возраста,
Так ночью в Новгородской области
Ждёшь не дождёшься темноты.
Лишь всё по-прежнему смеркается,
С кустами дальними смыкается,
И пахнут дивные цветы…
Да и дебютировал я с Игорем в коллективной подборке в 1974 году на полосе «Московского комсомольца». Правда, Селезнёв к тому времени уже широко печатался и был своего рода мэтром нашего поколения, на все литературные явления имел свой твёрдый взгляд, о Пастернаке или Мандельштаме говорил так, словно они его старшие друзья, а о Вознесенском – с тёплой иронией, будто бы Андрей Андреевич – напроказивший приятель. Потом почти в одно время у нас с Игорем вышли книжки в «Молодой гвардии» в серии «Молодые голоса».
Игорь – единственный из друзей-поэтов гулял на моей свадьбе в 1975 году, выпил и едва не пал жертвой неюной одинокой программистки, сослуживицы моей жены. В дальнейшем мы постоянно общались: едва я занимал какой-то пост, например, в журнале «Смена», или затевал литературный проект, тот же альманах «Реалист», первый, кто появлялся на пороге со стихами, Игорь Селезнёв, полный своего неповторимого мрачного достоинства. На его лице всегда играло то особенное выражение, какое бывает у людей, глубже других постигших сакральный смысл жизни, но не желающих огорчать простоватых современников своим тайным знанием.
Возглавив в 2001 году «ЛГ», я ждал появления друга юности с минуты на минуту, даже спрашивал у секретарши, не заходил ли он в моё отсутствие. Нет – не заходил. Селезнёв вдруг исчез. Несколько раз я предпринимал тщетные попытки разыскать его, пока покойный ныне Юрий Чехонадский (наш однокашник по семинару Сикорского) не сообщил мне, что Игорь, по выражению Михаила Светлова, ушёл «в дальнюю область, загадочный плёс…». И песню унёс. К тому же предварительно сойдя с ума.
– Это точно?
– Точно, – скорбно кивнул Юра, – перепроверил по нескольким источникам.
Юра был по образованию математиком, ко всему относился системно и даже с помощью формул убедительно доказал: ощущение, будто с возрастом дни становятся короче и сменяются быстрее, а время просто летит, вовсе не субъективное ощущение, а физическая явь. Чем дальше в жизнь, тем объективно длина наших суток сжимается, как шагреневая кожа. Хотите верьте – хотите нет. Впрочем, можете сами найти и посмотреть в Интернете математические выкладки Чехонадского.
Я принял эту весть о кончине Селезнёва с грустной готовностью: наше поколение убывало стремительно: Коля Дмитриев, Гена Касмынин, Галя Безрукова, Женя Блажеевский, Саша Щуплов… Душевные заболевания и странности в нашей среде тоже не редкость. Достаточно вспомнить поэта Егора Самченко, в прошлом главного психиатра целого района Подмосковья. Так вот, при общении он сам напоминал мне пациента, сбежавшего из дома скорби. А знаменитый Диомид Костюрин (по прозвищу Динамит Кастрюлин), который нагишом выбросился из окна своей квартиры в центре Москвы, предварительно выпив и хрястнув об пол бокал «Советского шампанского»!
Итак, готовя новую редакцию этого эссе, я вставил в мартиролог имя давнего товарища Игоря Селезнёва, не забыв упомянуть о его помешательстве. Бражничая с соратниками литературной молодости, мы обязательно вспоминали Игоря и пили за его светлую память, желали ему царствия небесного: он ведь был глубоко верующим человеком, постоянно осенял себя крестным знамением и мог водить экскурсии по храмам Москвы.
Вдруг весной 2016-го в моём переделкинском доме раздаётся звонок и удивительно знакомый голос спрашивает:
– Юра, знаешь, кто тебе звонит?
– Кто?
– Только не падай!
– Я сижу за компьютером.
– Игорь Селезнёв.
– ???!..
Оказывается, он прочитал моё эссе в Интернете, обнаружил своё имя среди печальных утрат, справедливо вознегодовал и решил восстановить справедливость. Мы встретились и обнялись. На мой вопрос, куда же он исчезал на целых пятнадцать лет, почему не приносил стихи и не давал о себе знать, Игорь посмотрел на меня с мудрым сочувствием и ответил: «А зачем? Для того, что я сейчас делаю в поэзии, журналы, газеты, публикации, признание читателей вовсе не нужны… Одиночество – дар для поэта!» Позвонил же он мне, чтобы развеять слухи о его помешательстве.
– Разве ты не видишь, что я здоров?
– Вижу…
– Тогда дай опровержение, будь добр!
Вскоре в «ЛГ» вышла большая подборка стихов Игоря Селезнёва с моим извиняющимся предисловием, где я подчёркивал, что после долгой разлуки встретил друга юности, как принято говорить, в трезвом уме и здравой памяти. Вот только стихи в полосе были всё те же, что я знал двадцать лет назад. На вопрос, нет ли чего новенького, он очень серьёзно и чуть свысока сообщил, что пишет сейчас одновременно несколько сотен стихотворений, но показывать никому не хочет – слишком сильным будет потрясение для человечества, может не выдержать…
16. ПАЦИЕНТ ЖИВ!
Надо сознаться, став прозаиком, я всё-таки не раз обращался к стихам. Нет, вернуться в то особое состояние, когда весь мир – лишь повод для точного сравнения или метафоры, окатывающей, как шайка ледяной воды, мне почти уже не удавалось. Но я тосковал по временам, когда удачная аллитерация, рождённая в трамвайной скуке, оправдывала прожитый день, а то и месяц:
Вот так он живёт и прижизненной славы не просит,
Но верит, конечно, в один из ближайших веков
Привинтят, быть может, к автобусу сто сорок восемь
Табличку «Здесь жил и работал поэт Поляков».
Не случайно в моих драматических и прозаических сочинениях среди персонажей часто встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» спившийся пиит Федя Строчков читает моё юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, синяки, крапива…», в своё время ценимое читателями и соратниками. Герой романа «Замыслил я побег…» Башмаков посещает литературное объединение, очень похожее на то, в которое ходил я сам. А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной частью романной ткани. Кто-то из критиков даже упрекнул меня в том, что я соорудил из вязниковской учительницы Ангелины Грешко лихую литературную мистификацию вроде легендарной Черубины де Габриак. Ну в самом деле, чем не новое направление в поэзии, скажем, «неоархаизм»:
Готический камин огнём ярится.
Доспехи наспех свалены в углу.
Голубоглазый странствующий рыцарь
В мой замок постучал и зван к столу…
Но я ответил критику, что сегодня любые мистификации бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, по сути, и есть сплошная навязчивая мистификация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять не только для героев моей прозы. В начале 90-х, взбешённый тем, что происходило в отечестве, я разразился политическими эпиграммами, частично опубликованными в оппозиционной прессе. Меня в те годы потряс сарказм глумливой Истории, которая творит тектонические перемены в обществе с помощью ничтожных и смехотворных людей.
Знать, мы прогневили Всевышнего.
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего,
А выполз какой-то Немцов…
Впрочем, если читатель полагает, будто попав в «кремлёвский писательский пул», я доволен всем, что происходит в отечестве, он глубоко ошибается. Во-первых, после выхода книги «Желание быть русским» в 2018 году я из этого пула выпал, а во-вторых, писатель в принципе не имеет права быть в оппозиции к государственности, а вот в оппозиции к власти он обязан быть всегда по природе выбранной профессии. Порукой тому мои «Стансы» (2011):
Как же ты, страна, такою стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы
Да зубастый офисный планктон.
Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?
Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где Пожарский? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!..
Конечно, случались у меня и лирические рецидивы, правда, краткие, не такие жаркие и плодотворные, как прежде.
Для лирики необходимо особое состояние, которое можно сравнить с отпускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по себе в весеннем парке. А вот на лавочке – милая девушка с книгой, явно ей неинтересной. Подсяду-ка, а вдруг… Из этого «вдруг» и получаются стихи. Но когда ты тащишь водной руке баул новой пьесы, в другой – у тебя чемодан-эпопея с оторванной ручкой, а за спиной – пудовый рюкзак «Литературной газеты» – тогда тебе, болезному, не до девушек. Даже если на парковой лавочке раскинется призывно обнажённая юница, ты вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем, все и всегда свою творческую бесплодность объясняют занятостью, и никто – размягчением таланта.
Но иногда именно погружённость в трудоёмкие жанры вдруг вновь толкает былого поэта к стихам. Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня действует древний китаец, я для достоверности окунулся в классическую поэзию Поднебесной и внезапно разразился странным циклом «Не в рифму»:
Смешная девочка боится темноты.
Нагая девушка – стеснительного света.
Увядшая жена – что муж уйдёт.
Старуха – что не хватит на лекарства.
Или вот ещё:
Мелькнула женщина за облетевшей сливой.
Звук флейты яшмовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен…
И вот что любопытно: последняя строчка дала название моему новому роману «Любовь в эпоху перемен». Стих помог прозе. А для романа «Весёлая жизнь, или Секс в СССР» мне вообще пришлось выдумать анонимного советского поэта, из непроходных стихотворений которого, залежавшихся в редакции «Столичного литератора», я выбрал эпиграфы-четверостишия ко всем восьмидесяти восьми главам этого повествования. Например, такие:
Лёд любви, какой он тонкий!
Вот и хрустнул под стопой.
Каждый на своём обломке
Расплываемся с тобой…
Или:
Мы разделись. Пахло в сауне
Мятою и чабрецом.
– Ах, не надо! – ты сказала мне
С разрешающим лицом.
Так что всё ещё возможно. Бывших поэтов, как и бывших разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, к старости многие, даже вроде бы совсем списанные на прозаический берег стихотворцы переживают творческий ренессанс, поражая читателей удивительными вещами вроде «Последней любви» почитаемого мной Николая Заболоцкого, которому в отличие от Бродского памятник так и не поставили. Вероятно, что и со мной может случиться нечто подобное, и тогда я как поэт воскресну к новой жизни…
Опять за окошком две стройных ноги
Стучат босоножками бодрыми.
А вдруг, идиот, это твой андрогин
Уходит, играючи бедрами!?
2001,2004,2008,2017,2019