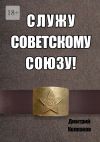Читать книгу "Белая проза"

Автор книги: Юрий Роговцов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Белая проза
Юрий Павлович Роговцов
© Юрий Павлович Роговцов, 2024
ISBN 978-5-0064-6194-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПУСТЫЕ СЛОВА
В бесконечных проводах слов, пустые слова, гирляндами ёлочных украшений, бликуют сотней солнечных зайчиков.
В погребке едкий табачный дым наполнен винным перегаром. Вместе с ликером в глотку льется отборная брань. Липкие столы, липкие лица.
Шелест крыльев летучей мыши пронзает слух миллионом стальных иголочек. Коптит фонарь, бросая покрывало тени на голый асфальт. Шепчется по углам музыка. Ходит босиком по тишине контрабас. Смеется продажная скрипка, напившись вином.
Моргнул уголек сигареты. Расходятся посетители, подставляя спины вечернему душу сырости и темноты.
Плывут пустые слова, склеиваясь с черным небом, целуются со звёздами в ночном бокале шампанского.
Ночь.
Пустые слова
.
* * *
Много утекло времени с тех пор, как улетели птицы. Сгорбились горы И деревья, сбросив в землю седые годы, уснули в вечном ожидании. Могучие волны устали биться о мёртвый гранит скал, и легли в печальном унынии средь скорбных желаний. Но звёзды далёкие светили голубым холодом, укрывая взглядом безликие дали.
На краю чёрной скалы, где когда-то плакала вода, и орёл согревал её шелестом крыльев и блеском ночных глаз, сидел КритабОр. Он не помнил птиц и деревья. Он не видел воду. Он родился, когда белый скелет орла отец его принёс в дом и бросил в красный огонь. Он помнил лишь запах, белый и едкий, как слеза, которая скатилась тогда по его рыжей щеке, и бросилась шипя в пламя, и затушила его. Отец избил его, и обмазав затем жёлтым жиром, сбросил в море.
ОлАя подобрала его, спящего в голубой раковине, в ожерелье звуков. Критабор зарычал, но затем, высунув розовый ершистый язык, улыбнулся и промычал свои первые слова. Олая выкормила его грудью, белым тягучим молоком, горячим, как её нежные пальцы. Она выучила его громко свистеть и помнить о пище.
Долго скитался Китабор в воспоминаниях, в розовых ручьях чутких ожиданий, в пристальной слепоте своего мычания. Он звал Олаю. Он помнил её вкус, запах, ветер. Он видел шорох её в земле. И долгими ночами рыл душу, сбрасывая перегнившие чёрные листья лет в тоскливое волнение моря. Он устал. Он состарился. Незнакомое чувство говорило ему, что скоро он закроет глаза, и душный воздух вырвется из его липкого рта.
Много утекло времени с тех пор, как улетели птицы. Критабор не помнил их. Он родился позже. Он знал Олаю. И знал, что закроет глаза.
Где-то тихо прошумела музыка. Появилась и исчезла длинная серая машина. Дым сигареты лёг в воздухе комнаты. Рука расслабленно опустилась, глаза закрылись.
Горит жёлтая лампа. Висят в чёрном небе голубые звёзды.
Тихо. Море. Сон
.
* * *
Кажется, что всё, что мы произнесли,
кажется – гениальным.
Марсель. Возвращаюсь в лютую ночь. Воет ветер. Старухино окно на третьем этаже. Прелестница спит.
Чёрная ночь. И ветер бродит по улицам, да слышен скрип яхт. Воняет рыбой и дохлыми чайками. Их трупы поедают собаки. Здесь же торгуют пивом и селёдкой.
МорЭй говорит, что старуха потребовала с него полтора стакана крови. Но она стоит дороже.
Собачья голова валяется на дороге. От удара, она ударилась о стену, и застыла.
Вальс Мендельсона играет в голове. Звучит гитара, гремят оркестры. А где-то мрут под шприцами бабочки, и идёт Герман Гессе.
Золотые яблоки бегут по дороге.
– Маргарет, налей ещё кофе. Этот чёртов дождь поднял настроение. Но мне сейчас так скверно на душе.
Это была статья в «Playboy».
Вот и скрипучая дверь. За ней глухая лестница. Налево старая дверь. А за ней она. Спит. И иногда во сне вспоминает старуху. Тогда и я прихожу к ней, чтобы увести её в другой сон.
Мы бродим по Марселю, и встречаем меня.
И мне опять снится старуха и она
* * *
БЕЗ ЗНАКОВ
Чтобы слизать зеркало со взгляда росы. Лечь немотой в камень устах поросших луной. Начертать слезой в долгом шорохе губ ночи, освещенной дыханием миллиона огней. Чтобы царапины высь хрусталь отразила в крике совы со звездой, льющей шорох в молчание неба. Чтобы семь прутьев ивы, чёрными монахами, гноящейся раной, открыли слова горло чёрной пещеры змей брильянтовых песен ласки винных снов в зарослях звёзд. В родниках чешуёй поцелуев увитыми роз похвалой в панцирь ореха свиного ока на перстне каменной слезой в раковину ран. О скорпион летучей мыши залог обручальный переплёт серебряных нитей вероломство отчаяние стада бизонов, сверкает луною пропитанный порох, к глазнице в слезу превращённый, рассказом звезды о весеннем жуке. Так плещется зыбь во Вселенной, в танце поющих свирелей, чьи тонкие нити опутали паутиной чащи бамбука, и в крике и шорохе желанья скользнули в узор лабиринтов, усопших в глазах черепахи, начертанных на панцире слов и слёз. Лишь в чёрном дупле браслет гранатовый кровью венчается смехом глуши лесной, в застывшем прорубе маисовых зёрен, в поющих табличках, мерцаньями мыши летучей ожерелья ночи камня зубы ягнёнка, как взгляд, поросших памятью древесных колец скопленье, где тихий плач омоет луну шелестом бабочек крыльев.
О, Воды царь, ты убил плод граната, ты узрел в его семени девственную грудь ГамахЕи, Ты вырвал с корнем високосный дуб и расщепил вековые кольца, змей шипенье, как песнь о зримом.
О, Майский жук, венценосец в любви, как крылья бабочек, как панцирь черепахи слово.
Живи…
* * *
ЛОТА
сны – кто не жил в них
Вновь закрываю глаза.
Вновь призраки тумана спускаются ко мне, обнимают меня бесшумным теплом, укрывают прозрачным, невесомым, бестелесным. Вновь стараюсь я собрать пустые шорохи – бессонные мои сновидения – исчезающие пятна.
Лота, Лота – исчезающее в повторении слово.
Лота – призрак слова – заклинание, брошенное в колеблющуюся глубину.
Нет – не вижу
– не вижу…
Как полон мир бесконечной растительности и ощупи. Как полон он тобой, напоён губами твоими влажными, с которых я пил росу томлений – утешительную усладу.
Но нет тебя.
Нет.
О безглазая память, в которой нет тебя. О пустые усохшие мои руки. О, тело – кости мои. Почему не горите вы пламенем её – пламенем о ней.
Но нет её.
Нет тебя – Лота.
Нет…
Лота,
Лота – неустанное слово —
ищущее, зовущее, глухое,
немое слово —
имя.
Лота.
И призраки – пятна невесомые – без шороха – без тела – без слуха – безглазые – безгласые призраки кружат – всё кружат без ветра около души моей – ложатся в неё – исчезают – пустеют – смолкают – пустеют душу мою трепетную – сонливую – сонную – спящую.
Но нет тебя в ней, Лота —
Нет.
Засыпаю я, не видя тебя – не видя вновь тебя. Засыпаю навсегда без тебя – без тебя, Лота,
Лота…
засыпающее слово —
слово —
слово…
…
Открываю глаза.
Свет. Звук. Тысячи света. Тысячи звука…
Сколько стен – молчащих, тайных… сколько гостеприимных, чужих, глубоких, забытых комнат… сколько поющих, шумящих, открытых, кричащих лугов, лесов, озёр, неб – видели мы с тобой – видели глаза мои. Сколько разных тебя – видели, смотрели, наблюдали, тайно любовались они.
Но ты всё та же – всё те же ресницы, закрывшие глаза, всё та же – своя – чужая – спящая с открытыми, припухшими от поцелуев снов губами – своими – моими алыми ранами души. С каким страхом и трепетом вора тянулся, крался я к ним. Как таил дыхание и чувства свои. Как рвали они душу и грудь мою – когда я прикасался к губам спящим твоим – не ждавшим – не видевшим меня – тайно крадущегося – тайно набрасывающегося.
Но ты резко убегала, холодно убегала губами – жестоко просыпалась от меня – от снов. И не давала мне волосы вороньи свои, и не давала мне глаза безжалостно чёрные, и не смел я согреться в пальцах твоих.
Всё забрала ты у меня. Всё и память.
Лота,
Лота —
неустанное, невыносимое слово.
Лота.
…
В мае мы переехали в Грюнвальд.
Тихие булыжные улочки, тихие в цветной меланхолии дома, молчаливые ветреные кафе.
Ты вышла из машины и, свернув за угол, исчезла.
Я заперся в гробу гостиницы. Был день, но я закрыл окна и сидел в темноте чужих голосов. Когда твой телефонный звонок разорвал мне сердце.
Это была – сейчас я знаю – наша – моя последняя ночь с тобой. Тогда я ждал, хотел, верил, что ты вернулась; и холод и немота ласок твоих – был стыд любви и жара твоего.
Но я рвал, мял, бросал стыд, я орал на стыд и топтал его босыми ногами своими. И ты смеялась. И в звон смеха твоего лил я вино безумия любви своей – и знаю теперь, что сам пил его – напивался – пьянел – и пил в звоне бокальном смеха твоего.
…Утро проснулось, когда я устал.
Ты пошла принять душ – и плеск воды омывал моё напоенное тело, напоённую душу.
Я заснул под этот плеск – под это журчание – под этот шорох – под это исчезновение. Под плеск, журчание, исчезновение, засыпание тебя. Ты ушла в меня – в мою воду – в мой сон, и в нём утонула – уснула навсегда – забылась.
Лота.
…
Вновь закрываю глаза.
Вновь слышать хочу – пить – плыть в воде той.
Вновь призраки тумана спускаются ко мне – обнимают меня бесшумным теплом своим – укрывают прозрачным – невесомым – бестелесным. Вновь пытаюсь я собрать пустые шорохи – бессонные мои сновидения – вздохи памяти моей безгласой. Вновь видеть хочу, ощущать, тянуться, красться, красть хочу тело твоё, тепло чужое твоё, сон тайный твой, дыхание жестокое голубиное твоё. – Лота.
Лота —
Лота…
– неустанное, исчезающее имя —
слово —
Лота…
Никогда не откажусь повторять ещё и ещё…
Но нет тебя.
Нет.
Забрала себя ты – забрала – ушла – уcнула навсегда в снах моих.
Вновь закрываю глаза.
И призраки – пятна невесомые – без шороха – без тела – без слуха – безглазые – безгласые призраки кружат – всё кружат без ветра около души моей – всё ложатся в неё – исчезают – пустеют – смолкают – пустеют душу мою трепетную – сонливую – сонную – спящую.
Но нет тебя в ней – Лота.
Нет.
Лота —
Лота —
Лота…
засыпающее слово —
слово —
слово – имя
…
Я В ФЕВРАЛЕ
Плачевный месяц. Месяц – насморк. Нависнет небо тёмно-серым, и засыпет город белым. Летит боком снег. Летит. Много, много. Затем меньше, всё меньше. Тихо падают редкие снежинки. Тихо и пусто. И так недолго. Вновь появится солнце еле тёплое. Зальёт белый город светлым прозрачным золотом. И начнёт плакать, плакать город. Плачут крыши. Капают слёзы с чёрных мёртвых деревьев, с изломанных их веток. Текут улицы, стекают дома. Люди заполняют затонувшие тротуары, разбрызгивая грязь, снуют автомобили.
Течёт снег с крыш плачем долгим, долгим. Льются за окном струйки слёз его, ударяются о землю. Кажется, что всё бродит, бродит кто-то под окном. Кажется всё хочет заглянуть в слёзные стёкла, увидеть текучую, плачущую комнату, стекающие стены в текущий пол; заметить льющегося меня, всмотреться, узнать что-то, что-то тайное моё, сокровенное, за текучестью, утекающестью.
Но я не теку, не утекаю, не вливаюсь с креслом в пол, не растворяюсь в воде его со стенами, не теку, не вытекаю за пределы его, за пределы свои. А словно слитая часть кресла, сижу откинувшись, не шевелясь, с закрытыми глазами; иногда подношу медленной рукой стакан, и вливаю в себя винную влагу – жидкость прохладную, терпкую, горло греющую, обжигающую внутри; и слушаю слова – немые мысли мои, с закрытыми глазами, в темноте меня. И так долго. Долго.
Открою глаза, и вновь стены, пол, потолок – комната, где я, как кресло. Протяну ленивую руку, возьму сигарету из пачки, зажгу спичку, поднесу огонь яркий жёлтый к сигарете, задымлю; и смотрю на яркость жёлтую, на яркость всё уменьшающуюся, уменьшающуюся в размерах своих, и вовсе – стоп – исчезнувшую. Тогда закрываю глаза и дымлю, не видя. Открою чуть глаза, и смотрю на белый текучий дым, скрывающий, прячущий от взгляда моего, от мыслей моих стены, потолок, пол. Тает, растворяется, входит в изображение дым, вновь являя стены, потолок, пол.
А за окном, всё плачущим, всё льётся, льётся невидимый снег, всё ходит под окном кто-то, старается всмотреться в текучесть окон, хочет увидеть меня – часть кресла, в стенах с потолком и полом. Всё ищет желанием своим у меня тайное, сокрытое, мне неизвестное, ему страстное. И мысли мои тайно следят за ним, следуют шагам его, вторят движениям его беспокойным, проникают в него, изучают, становятся шагами его, мыслями его, взглядом страстным его, стекающим в плачущих стёклах, текущим в стекающих стенах, потолке, мне, плывущем в кресле в воде пола. Слушают мысли мои стук сердца его, становятся стуком сердца его, стуком, слитым с плачем снега, стуком с крыш льющимся, падающим, ударяющимся о землю, о воду, текучую, текущую, вливающуюся в воды иные, разные, многие, утекающее в невидимое, в неслышимое, в несуществующее. Несуществующее.
Ходят дети у окна.
Шаги, шаги.
* * *
Деревня
1
По дороге
Выползает из-за холма
гадина ползучая, рыжая, косматая, с мордой репчатою —
Солнце красное.
Понатыкано дряни всяченой, роится погань в багряных узорах на скатерти, шитой калачами да пряниками узорными, самоварами да тарелками всякими, со всякой всяченою понаваленной. Рылится рожею репчатою косматое рыжее огниво, плюнет визгом бабьим смородинным из уст вишенных, сволочной бранью вымазанных. Плюнет брызгами семечек слюнных в поросячьи глаза лугов, изумрудами мух изгаженных.
Тихо на кладбище средь крестов молчаливых. Воет глухо детство ящиком деревянным, полоснёт слезой по щеке, утыканной жёлтыми веснушками. Молится попадья, задом толстым повизгивая, коркой мозолистых пяток скрежеща по полу дубовому; с образАми на стенах понавешанными; с глазами своими бабьими, свиным жиром залитыми, с дерьмом в волосах пакляных, намазанных маслами вонючими, да сплюнутых изо рта едкого, плотника – дурачины одноногого.
Мылится облако в вонючем вареве пруда, гадиною разною засиженного и обгрызанного; с дурою грязною берёзою, и та, словно дева белая, свой лик сахарный влепила в гниль водяную, с нечистью едкою, ехидною, ядовитою; с мордою солнца косматого, с мордою репчатою на скатерти, понатыканной узорчатыми прелестями, с тарелками да самоварами. И воют мухи голодные, проклятущие, и гогочут гуси разные, и свиньи рылами своими в хлебную вонь суются, сёрбают пятаками гниль водяную.
Жарко, липко, потно. Руганью липнет к спине рубаха кумачовая. Лезет в рожу день запахами трав и цветов вонючих, пылью дороги костлявой, что костями пальцев своих пережуёт с соками зелёными, да отрыгнёт в пыль придорожную, в чертополох сухой парня красного, молодова.
2
Трактир
Беснуется, клокочет тварью вспученной, бельмами, налитыми мутью самогонною. Словно глазами рыбьими, головы мужицкие затекли, занемели, загорланили. Всё мутится, булькочет в вареве мути вонючей, мозгов распаренных. Блеснёт глаз бельмом белым в мясе розового века, стечёт слеза пьяная. Ощетинятся зубы жёлтой гнилью, вылезут дуплами-пнями чёрными. И пойдёт язык ершистый, рыбою глухою, биться о стены бревенчатые бани распаренной красной вонью воющего рта. Заорёт мужик, как гармонь зарезанная. И стучит колокол железом чугунным по мякоти изъезженной, мозговой жижи, топи отупелой, в голове мужицкой.
Баба в озере стоит. Ноги здоровые, белые, столбами срубленными пробили живот гадине. Ковыряется, мечется гнида разная, лезет под подол тысячетонный. Лезет мордою красною тварь ползучая, косматая. Лижется грязью слизкою, жмётся, ласкается вода рвотная, сытая дохлятиной собачьей. Моет баба жёлтые космы водорослей, задрав подол, бросив морду спелую на ляжку белую.
Летают одуванчиками на зелёной скатерти луга белые пушинки овец блеющих. Свистит в дудочку пастушок молодой, спелый, как яблоко наливное, сахарное.
Ночь. Замазала дёгтем, облила смехом едким, чёрным по колючим головам игольчатым чертополоха. Напоила жутью овраги. Плодится нечисть проклятая, светом месяца защищённая. Липнут друг к другу жирные языки тел, трутся до красноты, до рвоты полюбовной. Маются духотою банною, словами смрадными. Рвутся глотки собачьи, пенится слюной бешеный лай цепной. Злостью жёлтою, застывшей в глазах волчьих, блеснёт яростью меченной огонёк избы ночной.
3
Сон
Шуршали слова, жужжали слова. Ворожбой да наговорами, шепотом шепелявым, постукиванием да покрикиванием открывала старуха ветхая омут зеркала серебряного с оправой оловянною. Всё ходила кругом да приговаривала, да нашептывала, да наговорила.
Горят звёзды остроконечные в звёздной глади. Выходили девы белые с косами золотыми. Бросались в чёрную гладь, плыли. Проронены монеты золотые в черным чёрном потеряны.
Зашумело, забилось, упало, накрыло. Платком чёрным с цветами да ягодами красными, с кронами листьев зелёных. Песней далёкой лебединой, плывущей в небе, крылом белым, облаком лёгким, ветерком милым
Светлеет кругом.
4
За околицей
– Уж проснулось солнышко ясное в небе чистом. Уж и птички поют заливаются. И радуется всё кругом не нарадуется. Проснись мой миленький. Проснись мой родной. Цветочек мой аленький, ягодка моя спелая. Открой глазки свои голубиные, улыбнись губами алыми, щёчками сахарными.
Яблочко наливное, да на тарелочке белой, да с голубою то каёмочкой
Ах, хорошо то как
* * *
– Я надеюсь, маэстро, что это Ваша не последняя история?
– Нет, конечно. Я могу Вам рассказать о шахском тибре.
В стране жемчугов и алмазов, в прекрасных райских садах, в пении диковинных птиц бродил Тибр – великий наместник престола грозного шаха. В золотых причудливых клетках пели его невольницы. Среди них была одна…
Горело сердце его, как солнце, и боль вела его меж сказочных изумрудных деревьев с яркими живыми плодами.
И открыл Тибр клетку, и схватил её. И умерла птица в огненном его объятии. И сгорел смертью Тибр.
И исчезли райские сады.
Так перестал существовать великий наместник великого шаха, шахский тибр Тибр.
– Спасибо, маэстро. Вы рассказали удивительную историю. Мне очень запомнилась та, которую я слышал от Вас вчера. О тех великолепных белых майских каштанах, что причудливыми тенями упали на серую плоскость. А вправо горел закат, пляшущей кровью, и звон Солнца плескал жемчугом в розовую мякоть.
– Да Вы и сам мастер рассказывать разные небылицы. И немало меня удивили, поведав о том, как Ваша чёрная кошка стала ночью белой. Не могу поверить, что она начисто испачкалась молоком. В то время, когда за окном гремел гром, и спорили две женщины. А Вы видели всё это во сне.
– Почему вздор. Просто Вы сейчас спите.
– От чего же сплю?! Если угловой радиус расщепить касательной кривой, то в точке Абсолюта возникнет лучевое кольцо, способное продлить бесконечное множество сияющих осколков, которые в цифровой системе обозначали бы число ocumus. Это и есть та делимая ломанная, о которой говорил Гелиос.
Применив эти теоретические знания в практике, я получу «ровное количество». И могущество моё будет не ограничено.
– Это всё очень интересно, что Вы сказали. Но так как Вы являетесь собакой. То у Вас, при слюновыделении, появляется щёлочь, испаряющаяся в облако. А ночной кот светом своих зелёных глаз отразит луну в чёрной воде. И любовь, о это великое чувство, возвысит небо, в полет призрачных звуков. Я скажу тебе это слово. И оно очарует тебя, и, похитив твоё сердце, завладеет тобой. Я люблю тебя, Эзуэла!
– Вы, мой дорогой, перекислили перец. Теперь это невозможно есть. Придется идти в ближайшую гостиную, чтоб прихлебнуть там бурду. Черт подери. Испорчен весь день.
– Извините, дорогой маэстро, Я вовсе не хотел говорить об этом. Но сегодня моя горничная забеременела. И у меня всё утро в ушах плач ребёнка. Мне право очень жаль, что я не могу вытащить его из них. И даже вижу порой крупные розовые его губы у Вас на столе средь салата.
– Вы сошли с ума!!! Прочь из моего дома!
…Молодой человек, лет тридцати, бьёт в комнате кулаком. Старик падает на колени.
Занавес.
* * *
Говорят, что голос большого русского колокола
воспроизводит имя – И-в-а-а-н-н-н…
БАЙКА – БАБАЛАЙКА
– Балалайка.
– Сам дурак.
…Но лимонное, вяло, и в кисло-сладкое, вместе, и желто-зеленое, всё в ажУринах, да на выпь смотрела, где седА сидела, гонимая тем омутом сонливым. Что издали в шорох отзовется средь мелькания бледных на блёсках дудок в чёрном полутрАвье.
Имя её было…?
И я так начинаю нимало играть для в песни детей и тех взрослых, прикованных к этому месту, где у нормальных людей по две кошки растут.
Вот то был привычный октябрьский вечер, и МАтря Петровна, всегда как, решила пройтись лишь немного всердцах в магазинах. Хоть в сетке и было что пусто. Но пальцем в очках попадать она в небо умела, и, ловко сучЕвую нитку вдевая в ту летнюю Иглу, низАла на пригоршни птиц, разметавших по синему небу пирог с облаками.
Неправда.
Всегда в веселе своей беленькой грусти, как будто в последний день еще первого царства, надевала она, издали, кумачовую впроширь косынку, и, да в кои то веки, гулять выходила вприпрыжку по скУлым собак подворотням, хоть дождя то еще не бывало. А сын её Ваня совсем уже был озверелый, не выдавил ся он присутствий протяжным и нежными звуком, хотя и печаль его сердце томила, томила по Марье (иль, бог его знает, как звали ту девку), совсем уже был озверелый.
А может и солнце светило задворки, расцвЕтило лужи для мошек скопленья, и бледными пятнами, рысками черными побило берез перламутр, как их отраженье линейное в глади зрачка его, в небо смотрящего, в ту устремленного, словно бы на потолке, или, все же, чем в небо за рамами. Где мать его шла же от права на левую сторону, картонкой рисованной липло подвИгалась, и к центру, к секущей всё тени, скрывающей щели – в меж беглых пространств, чтобы там (ишь, верно, задумала с хитростью всех обмануть так) избыть, удалиться в незнанное и незаметное исчезновение (а может за ней – как её там зовут? слышны ли звуки? помнит ли голос? его черно-белое фото? – на мятых лежащего, над срытыми серыми, внутри со снотворным, в глазах его с вечной минутою).
Но мяч вниз слетел из глубин голубых в зеленые бусы стекла, при рваной записке, простой этикетке от бывшей… не водки – вина препурпурного, как крови печеные. И Матря Петровна сдала уж бутылки. В кармане её хрящевые морщинами пальцы, хрустя, отсчитали вслепую всю мелочь, ум на которую впрорех склерозный (отвлек глаза …: и глухая, слепая) подсчитывал, раз, два… еще не сходилось. … Ещё нужно было сынишке, себе и на хлеб и на курицу чтобы осталось… а впрочем… а впрочем…
Она уже шлепала сиро и косо язЫками тапок впотьмах поколений, и ногти, скользящие ног желтизною, оскал скрежетали на белых пунктирах дорог пешеходных, чтоб выползти вкривь на объЕздные парки, с висячими, дутыми красок шарами, для вольных пусканий небесных, где мерной походкой, без трех шепелявых, вы птиц удивляли, на лёте едящих.
Осталось всего то немного. Вот и «молочный» зеркальный вдали позади оказался, с ракАльной резной колбасою, со с белыми яйцами, белою курицей, желтеющим сыром, с названием «Ма..я». То ноги иные, впритык под собою, в движениях немо ((лишь дома, на розах скрипучем шипов без диване, слыхала она тех забытых времен, всё тянущие ей о тягучих и чувственных нотах, о черных бликующих гУбах, по-мутному серых глазах искрозвездных. И треск проэктОра, и запах и шорох всем весом влекомый – мужчины – лишь ветры табачные, сопы и вздохи – в слушАнии мнила уныло она се. И не слыхала только, что сына то «маги» гремели, что сына кумиры горлали и пели, по струнам «кентАми”* всё били (для него невидИмы, но в представлениях, открывай хоть глаза, закрывай-образа). Иностранцы. Орали. В барабаны дули, гудели, что бесы. Да. это слушала она – не слышала, и наоборот.)) … но толь у дверей крошенных, крашенных половыми красно-коричневыми коричнево-красностями, в облуплинах, в зазываниях на гомон ищущих, уже латунную близость чуяла она шершавым холодом, ощупью, скрипела, ширила темноты просвет… входила, исчезала – к сыну шла, со снами во снах скользящему за сон, снами оставленному… было…
(* кенты – костяшки пальцев – сленг). Было: и охота – под лебедя брали, и на рюмочку лили, лишь воды бы к осени, ведь и лист уж не тот, как бельё разлучённое. А действительно – было же: на порогах задАми сидели, скособоча фуфаечно выли, на узду и кобылу хватило б, не ко времени та принесет ведь, не к воде, а в полуденный холод. И даже: имя было, но как меть в иглу и на небо, и своё имя давать – иже рЕчное, аз имЯчное, сыроешное, еловИчное, с духом, просекой, как души щекой – всё Мария всё (а может – было – и совсем забыла, и вовсю иначе, ведь соседка паче).. Но остыли уж простыни, в просини улетели застылыми листьями, навалившие мути белёсые на глаза простынями и слёзами. Всё простил ей. Забыла. Привела. Ведь соседкой была. Не спросила. Но пришла. А смотрела. Да. Успела. Иван, со временем, уж и вовсе понимать перестал. Как ложился, то встречею болел ((недаром таблетки ел) И пил)). Затем, бред был, в стекло, стекленелость, за… хотел, чтоб звук помнила, фото его черно-белое, имя своё, говорила чтоб, пусть глазами (но покуда).
Остыло время. Остеклело. Разыконилось пятнами ликообрАзными, расплывалось, плыло, но дрожью в центре редело. Глянь – и лик (её – всё Марьи), и смотрит, но нет уж Ивана. А смотрит, не видя (ведь нет его больше, ведь шёл всё за ней он, ведь думал… нашел ведь… да только… не видит). То мать еще с нею склонилась («Всего с молоком то ходила, бутылки сдала, да одну не принЯли. Я дома глядела, и на – проглядела. Весь глаз своей музыкой сбил. Не бЫла как пил. Ведь только пришла. С нею вот подошла. Да вышло некстати… Аксти..!…его ради»).
А по небу так плывут, плывут, не зная времени и перемен. И кто на них смотрит. Уж спелая и теплая и ароматная и податливая не унимается, хоть желает, впрочем, а слово то закидывает, и радио слушает – что там город кушает, да я – автор пью, всё мёды да пивА в…
И-в-а-н-н! И-в-а-н-н! И-в-а-а-н-н-н…
* * *