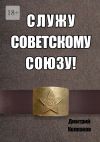Читать книгу "Белая проза"

Автор книги: Юрий Роговцов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Появлялась она. И он вновь неосознанно, буквально с первого мига, оказывался в том же спектакле, который вновь переживал как настоящее.
Они расстались. Ссора. Она собрала вещи. Он помог перевезти их к её подруге. На следующий день встретились в кино (билеты куплены за неделю). Она: «Я тебя люблю. Я хочу с тобой жить. Ну, прости… ну…» – Я не хочу твоих настроений, меняющихся каждые пять минут. Нам лучше не видеться.
Теперь он один. Грустен. Вновь появился в душе образ себя. Он вспоминает, как пили они пиво с пельменями в стекляшке, как сидели, курили в сумерках на пне в парке, как… Его образ живет ей (её образом). И даже, когда он смотрит на деревья, на птиц, на детей с мамами, на уток в озере – его образ помнит и ждет её (образ её).
Иванов (да простит меня читатель: я дал новое имя герою) сидел на скамейке, и битый час рассматривал ножки напротив… Вру…
Было утро, и Иванов проснулся от света, разлитого по комнате. Рядом на белой простыни спала «она». Да, – Иванов женился. Теперь он засыпал и просыпался со спокойной душой, зная, что рядом лежит голое тело его жены. Пусть не красавицы, но все ж. Да, не дал бог Иванову девку со стройными длинными ногами, не дал жену с журнальной фигурой. Рядом спала толстая маленькая бабенка, довольно наглая и властная, со спущенными грудьми и вислым задом. Не повезло ему и в другом: «любимая», которую он вовсе не любил, но жил из-за отсутствия любой другой, любила его по желанию. Когда желание любить пропадало, – она не любила Иванова, кричала на него, оскорбляла, или же обиженно молчала целыми днями. Затем, вдруг желание любить вновь пробуждалось в ней, он вновь становился самым любимым, самым красивым, самым умным, и самым нежным. Иванову нравилось быть «самым». И очень страдал он, когда оказывался нелюбимым, тупым, уродом и т. п. Но и в «светлые дни» тайно носил в душе он неблагодарную, постыдную надежду на обладание (когда-нибудь) стройной, красивой, умной, постоянно любящей и богатой. С надеждой этой засыпал Иванов после «занятий любовью», и просыпался рано – злой: на работу (да, он устроился на работу). Но всегда теперь успокаивало его близкое наличие хоть такого женского тела, хоть таких женских органов, которые мог теперь он созерцать, щупать, и даже…, но – все же…
Иванов проснулся от белого света… рядом спала…
*
Эпилог
Прошло шесть месяцев, полных спокойной любви, достатка, редких ссор. И вдруг Антон Львович (извините, с Ивановым не вышло) потерял работу. Уволили его несправедливо, даже не заплатив за месяц. Словно птица в силке, бился он в поисках нового места – безуспешно. Жена успокаивала. Но однажды, она позвонила и сообщила, что полюбила другого. Другой оказался моложе, с двухкомнатной квартирой в центре, и с престижной профессией.
Две недели Анатолий Львович пил водку и валерьянку. Обещали работу, но всё не ладилось. Еще месяц он прожил в представляемых диалогах с бывшей женой, которые приводили его в злобное отчаяние. Диалоги сменились обрывочными репликами. И лишь на третий месяц (с работой всё не клеилось) душа успокоилась в глухом, пустом унынии без слов. Иногда она подавала, словно из забытого колодца, удушенные вздохи. Но Анатолий Львович слушал их с издевательской ухмылкой, по которой пробегали тени боли, отчаяния, злобы, ехидства, исчезая в темном, беззвучном, пустом. Он вновь, как и до встречи с «ней», заснул сном сомнамбулы. Перестал понимать и переживать всё, что с ним происходит – как его жизнь (именно – его, и именно – жизнь). Всё более и боле, уже по инерции стремился он к тишине, ко сну без сновидений…
Черные ночи чернее ночи, дымом окутали… Всё та же музыка..А ведь сколько прожито… Курю… Прошлое – такое далекое – можно вспомнить лишь в представлениях… Ужасно, или смешно – словно не было ничего – не было прошлого – такого наполненного (казалось бы) …нет его… не помню… Сейчас… музыка, которую слушал в прошлом и в этой же обстановке… словно сон… смотрю и не участвую… А ведь хочется за счет прошлого выстроить какое-то настоящее, даже – будущее… Но нет его – нет настоящего – нет будущего… лишь картинки… без смысла… Вдруг возникнет в настоящем фигурка из прошлого, которую я восприму по прошлому… и она меня из прошлого… и где настоящее?..которое станет прошлым для будущего настоящего… где будущее?..всё лишь прошлое, которое лишь представления представлений…
…По веткам черным в черном ночи, лишь слышит слух гортанный шепот червей червивых черных. Ночью. Иль это ты крадешься с лаской, в глазах забыв упрятать угли. То кровь иная. То кровь разорванной гусеницы, в чьем чреве спит мертвая бабочка. Немеют губы от прикосновенья. Как льдинка. Во тьме роятся опавших листьев тени. Немая дева в венчальном убранстве. Саван. Глаза закрыты. Два черных ворона – губы. Их шелест крыльев едва услышать. Подбитый вишней лежит калека. Когда-то плакал. Теперь без звука. Без слова-имя, без взгляда-духа.
Укрыли листья пятно вина на мраморе фонтана. Ползет слезою тень, сном птиц убитых. Забудь… Забудь… пусть пусто будет – нет мест для раны… забудь… забудь… ведь всё обманы… всё – сон… усни… усни…
Спи спокойно, Антон Львович.
* * *
СОН АНТОНА ЛЬВОВИЧА
УлЯнэчко, Улянэчко,
Прыплынь, прыплынь до ВанЕчка.
Прыплынь до мЕне,
Ты, рыбонька мОя.
Спивають дУды, як грома гУды.
То губы лЯнуть мои до тЕбе.
Як ричка лынэ,
То мое сэрцэ шукае тебе.
Ванечка дуды.
Ванечка гуды.
ШепОтять губы.
Вода – Уляна.
– -Напейсь.
Напейся.
Сверкнуло острием стрелы.. Блеснуло лезвием бритвы.
Всполохи. Всполохи.
Удар молота плющит череп. Сыплет перхоть на плечи – курганы.
Горло разорвано звуком. Орет оно немо песнь о жизни.
И бабочки вьют петли – нити судьбы над водою.
Встревожат душу ночные ведьмы. Закружат в омут. Взволнуют сердце.
Их заметил Антон Львович, просыпаясь в томном пуху подушек.. И думая —
нет – не думая – о тихом бреге: где след молчанья оставил слёзы,
средь преткновений колен, упавших – мнилось ему.
Сверкнула лимбом молния. ОчЕртив чернь средь ясных ликов.
Но уже проснулся, проснулся – и все же – проснулся – пытается
– Антон Львович.
На простыни дева лежит, извиваясь.
В движении немо едва творима. Но чует вздохи о жИвой плоти.
И мякоти яблока в зубы кусают, и липнутся в губы, и сОчатся соки.
А ведь утро уже.
Краснолицее зерцало на белесом обветшало.
Скоро весна. А пока еще лёжнем лежит на торте неба снега крем.
И собак еще выгуливают по утрам.
И бегают они по сугробам-горбунам, томный пух взбесив. И писают в
жиры белые, оставляя желтопузые раны – швы аппендицитные, на вздутых
животах сугробных.
Открыл глаза Антон Львович. И видит: воздух с потолком и полом,
и время видит – но – нет – не видит – себя не знает – не слышит
струи собачьи в крема мочёные – не слышит.
А ведь любил её одну он.
Улетели простыни в просини. Разлетелись белесыми листьями. В пустоте
временах, да и в проседи.
– Ой, водица – сестрица.
Приведи ко мне девицу.
Дай её душой напиться.
Телом нежным насладиться.
В омуте любви забыться.
Так зудело в затылке. Чесалось в глазу третьем. И перхотью сыпалось
на плечи-валуны. И крикнуть хотелось – да было немо в горле.
Был слышен лишь кран – струя – на кухне – пузырились яйца, скворчала
колбаска.
В следующей комнате – тянула всё руки, расставив ноги, нагая дева —
там плоть таилась, питаясь жизнью, томлея пухом – его взбесивши.
И лянут лики, и льнутся к лону слюнные губы, чтоб сока выпить —
слюной напиться.
Мы видим: Львович уж на коленях.
Пузырят яйца, трещит колбаска.
Стекает течкой нагая дева.
И кружат губы в губастый омут.
– Прыплынь, ИвАсыку.
.Прыплынь, ТэлЭсыку…
То точат зубы трухлявый корень.
Скребутся пальцы, расставив ноги, порошей белой метут в затылке,
белесым слепят. Сочатся ногти и лянут зубы в зубастом крике.
Вода из крана – для мертвой рыбы.
Упало древо. Упало в омут – источник жизни – источник смерти —
лакает Львович, как пес смердящий, лакает воду, как карп голодный.
(А ведь не колбасу – рыбу – жарил Антон Львович. Рыбу в яйцах.) *
Ест.
И мнится ему, будто :
Налетели дожди чернилами слёзными.
Пролились ливнем, рыдающим. Растопили животы снега жирные.
Течет плачем сальным снег. Стекает соком гонным собачьим, уксусом
яблочным.
И вьют струи желтые над воды кругами черными бабочки ночные —
ведьмы. И штопают криво-косо швы – небесные всполохи.
Сверкнула острием стрелы. Блеснула лезвием – молния. Распорола черни. плево огненным деревом. Членом кружит в чрева омуте. Пылает кольцом. золотым.
Кипит, парит гремучее семя. Бурлит и пенится ядами-соками. Варит. рыбу краснолицую, немую, тухлую. Лопаются яйцами глаза слепые, спермой. вздутые.
И слышит Львович: пилы ржавой скрежет зубный.
И видит: водорослей пальцы ногтями стальными грызут, точат ствол
трухлявый, плотью тлеющий.
И слышит: Ивасыку, Тэлэсыку, прыплынь, прылынь до омуту…
И уж рядом блеснули пальцев зубы голодом. И уж чуют кипящей плотью
душу голую Антонову, душу – сырую – спящую. Уже лики пик кровавых
сердца его касаются, сердца мякотного – розового – хотят съесть его,
съесть как яблоко.
И уж обвили ноги Львовича – мочевыми горящими струями – опутали
(* яйцо – символ души; рыба – символ Источника Жизни) петли ведьм – бабочек..
Вдруг!!! – пронзил мрак бликом солнечным грома молот. Расплющил. череп смерти – чернь слёзную, коленопреклоненную (то кран тёк ржавый.. водой дождевою)
И видит Антон Львович: стены и пол, потолок и воздух, время – и всё в. простынях белых.
Но сорвались простыни листьями белесыми. Улетели. Раскрыли синеву
океана небесного.
Купается в лазурной глади волн златолицее око. Глянет светом золотым. на кружащую зелень лугов в хороводах садов подвенечных.. Плывет среди садов Антон Львович в роднике серебристом рыбкой
золотистою.
Кружат по струнам бабочки – невесты венценосные. Поют радужно песни поючие, сЕрдца ручьем звенящие, любви рекой бегущие, водопадом гремящие.
И слышит Антон Львович
Улянэчко, Улянэчко,
Прылынь, прылынь до Ванечка.
Прыплынь до мЕне, ты рыбонька мОя.
Як скрыпка грае в зэлэном гаю
То мое сэрцэ з тобой спивае.
Як витра дуды з тобой танцують.
То мои губы тебе целують.
Ванечка дуды —
Ванечка губы.
Вода – Уляна.
– Напейсь.
Напейся.
Антон Львович проснулся.
* * *
БЛЮЗ
С закатом солнца, после изнурительной работы, выпив бутылку сахарной водки, он шел к ней.
В это время она ждала его, и была свободна. Когда он входил в неё, под ритм его тела, поначалу тихо, но затем всё громче, она начинала петь: «У моего дружка огромный член. Он приходит ко мне каждую ночь. И когда он берет меня, я пою – У моего дружка огромный член. Он приходит ко мне каждую ночь. И когда он берет меня, я пою».
Каждый раз он желал услышать её крики. Каждый раз, начальный невнятный напев он принимал за стон её. И каждый раз, даже когда он стонал, заходясь в судорогах, она так же громко и ритмично пела: «У моего дружка огромный член. Он приходит ко мне каждую ночь. И когда он берет меня, я пою -…».
Он пил уже третью бутылку. – Эй, ты чего не идешь? – спросил чей-то голос. – Вчера ночью ей кто-то перерезал горло, – ответил другой.
Он продолжал сидеть. И тут нога его начала бить ритм. Всё сильнее и громче. И из горла вырвалось надрывно-хрипящее: «У моего дружка огромный член. Он приходит ко мне каждую ночь. И когда он берет меня…». Вдруг он взмахнул рукой и повалился на пол. Из вспоротой шеи, на землю лилась. черная. кровь.. В застывшей ночной тишине было слышно, как в переулке пьяная проститутка орала, срываясь на хохот: «…и когда он берет меня… ха-ха-ха… огромный член… ха-ха-ха… я пою… ха-ха-ха… ха-ха-ха.
* * *
СОН
Капор Ночи.
Взгляд из-за ресниц
Луна.
Коты воют на Луну.
Ласкание Тумана.
Поцелуи звёзд.
Светят зрачками окна.
Бликуют зрачками лужи.
Моросит по щекам прохладой поцелуев Дождь.
Путешественник по щекам.
Вспенилось пиво.
Глоток.
Свет лампы светит глаза.
Зрачок пробит сияньем Луны.
Черных три кота на черном асфальте
в блесках Ночи.
.
– Ты что-то сказал?
– Нет. Тебе послышалось.
Это салюты бьют фейерверком слов
в молчание ночи
– О чем ты молчишь?
– Я молчу о дальних странах.
Одинокий парус стремится меж них
в необъятном просторе Мирового Океана Ночи.
…Я что-то хотел тебе сказать…
Ты знаешь…
Это было…
Это есть…
Возможно, – это будет.
Бликует пена под Луной паруса.
Уж не ищет ли он чего-то.
Или кого-то.
Или, возможно, он заснул в таверне,
в гавани,
где крики рождают молчание.
Или, это Молчание родило Ночи Луну,
И бегущий по блескам зрачков парус.
Кот закрыл глаз.
Исчезла Луна.
Исчез Парусник.
И гавань.
И таверна.
Там облиплые пивные груди блондинок сосутся с черными губами
Странников Ночи
Их въедливые дупла зубов всасывают молочный сок девственниц бара.
– Тебе еще?
– Да. Налей половину.
Не Луна. А Серп – режет мне членную усталость.
– Ты хочешь меня?
– И – да.
И – нет.
Я опостылел сам себе.
Кто для меня те танцовщицы пропитых гаремов,
пропахших запахом седеющих мужчин?
Они, как тлен, в блесках полуденного восточного солнца,
песком засыпают заспанные глаза путников каравана,
дремлющего в движении от Тени к Свету,
от Света к Тени.
– Ты хотел еще выпить.
– Дай мне свои груди.
Полновесные бурдюки белого парного молока пустынной кобылицы.
Дай мне чрево своё.
Напоённые губы поцелуями щетинных уст,
одурманенные дыханием перегарных глоток.
Странников в Унынии.
Светит Месяц.
Я пью терпкое вино,
разбавленное течкой твоей и моей слезой.
Я окунаюсь в лунные блёски от фрегатов,
уходящих в подлунную Чернь.
Я пью черные крови винные,
сочащиеся с губ твоих влагалищных.
Я теку в них по серебристым бликам,
меж гаваней шумных —
бедер твоих.
Я окунаю лицо своё старое
в бороздах от путей корабельных,
в ущербинах от стоянок в бухтах лунных,
тихих и кричащих.
Я умываю лицо своё от морщин —
изрезанных линий на изрытом материке
изгрызаного лица моего.
Лишь Ветер.
Лишь Луна.
Лишь Ночь.
Чернью выбелит лицо моё
в белых простынях бедер твоих.
Очарует Белым Светом Душу Мою,
Слезу Мою,
скользящую в Бесконечность Моря морей.
В Черноту,
озаренную золотом Луны.
Льющей аромат дыхания Света
в проблески глаз моих,
полузакрытых.
Губ моих пустынных,
истресканных шагом мерным караванов путей,
складками Путей Шелковых.
Где стрелы кочевников вонзаются в сердце
предсмертным поцелуем уст Ночи.
– Ты говорил о блондинках.
Ты говорил об эле и бедрах.
Ты пить хотел воды темные в освещенных гаванях шумных,
и блики звёзд в ночной воде гаваней тихих.
Ты пить хотел мои бедра —
холмы белые.
Ты пить хотел мои соки —
вечно текущие.
Ты взять хотел взгляд мой —
донесшийся крик черной птицы пустыни.
Ты меня хотел.
Ты – был.
Но тебя —
уже нет.
Укрыли черным сновидения ночные сощуры глаз.
Блеснула бликом лунным – глазом кошачьим серьга
в уснувшем ухе Ночного Чужестранника – Тумана.
Кто был?
Где было?
Что есть?
Лишь Око Луны, сквозь капор,
смотрящее меж белых холмов
в черной гавани Сна.
Блики окон.
Моросит дождь в лужах – морях.
Сон.
* * *
И СЛЁЗЫ КАПАЛИ
Он – (молчит)
Она – Как долго ты будешь молчать? Мне кажется, прошла вечность. И этот дождь, словно Всемирный Потоп. Ты скажешь, наконец, что-нибудь?!
Он – Что ты хочешь, чтобы я сказал?
Она – Что-нибудь! Не молчи так! Ты меня убиваешь! Уж лучше сказать. Даже, причинив боль. Чем так – … (отворачивается)
Он – (молчит).
Она – (вытирает ладонью слезу).
Он – (наливает в бокал вино).
Она – Почему ты не предлагаешь мне?
Он – (молча, берет еще бокал).
Она – Спасибо. Не хочу.
Он – (молчит, медленно попивает вино).
Слышно как в коридор вошла уборщица. Начинает полоскать тряпку в ведре. Шлепок мокрой тряпкой об пол. Возит ей по полу.
Она – Этот дождь (долгая пауза. Уборщица полощет тряпку. Шлепок. Моет пол.). В конце-концов! Так не может продолжаться. Т ы скажешь что происходит! Если ты разлюбил или у тебя другая…
Он – (перебивая её) Нет.
Она – (истерично) Что – нет?! Что – Нет?!!
Слышно как уборщица набирает под краном воду в ведро. Резкий алюминиевый звук, бьющей о дно воды. Затем он наполняется шумом заполняющего потока.
Он – (резко) Что ты хочешь чтоб я сказал? Правду?! Не знаю я правды!! Правда – это то, – что хочешь ты! А я – не знаю!!! (криком) … (пауза) … (сдержанно) У меня – нет другой женщины. Ты – это хотела услышать?!
Слышно как уборщица, шлепая тапками, уходит. Шум дождя.
Она – (резко поворачивается. Лицо искажено рыданиями. Выбегает из комнаты.)
Он – (сидит, делает глоток вина. Капли дождя барабанят по стеклу.)
Она выбегает в подъезд. На улице шумит ливень. Она вспоминает, что забыла зонт в номере. Подымает воротник плаща, и, ёжась, выходит на улицу. Капли бьют в лицо, стекая со слезами по щекам.
Она идет, плачет под дождем.
* * *
КАМЕНЬ
Сны были белые – Белая Бесконечность. Как белые дни – белое солнце, белое небо, белая пустыня, белый карьер.
И жизнь его была Белой Бесконечностью Пустыни Дня, уходящей в Белую Бесконечность Сна Ночи.
Каждый день был бел. Каждый стирал набело прошлый. Оставалось – Белое.
Он не помнил прошлое.
Иногда ему грезилось: огромная Белая Пирамида, высоко уходящая в белое небо, в белое солнце.
Он был бел.
Седые волосы, седая борода, белые брови.
И глаза его выцвели до белого, зря лишь белизну карьера, белизну пустыни, белое небо, белое солнце, и белую Бесконечность Сна.
Мир был – Белым Светом.
Либо он был слеп.
Те, кто вгрызались в вершину пирамиды, изгрызли её до основания. И продолжали грызть внутрь. Они изъели огромный белый карьер. И каждый день, от восхода до заката долбили кирками белый камень.
С темнотой начиналась иная – темная жизнь.
Он её не видел.
Появился Некто.
Черный, кривой на ногу.
Он грифом высматривал в мрачном углу. Иногда вился змеем. Его не замечали. Но вскоре все почувствовали, что они – его воля.
Ночью он выходил в карьер. Белый валун, освещенный Огромным Белым Камнем – Оком, висящим в черном небе. Взглядом Своим превратившим всё в Белую Бесконечность Черной Ночи.
Ветер доносил из бараков смех, ругань и крики.
Он был глух.
Тогда и подошел к нему Некто
– Мы уходим завтра. Пришел Тот, Кто принес свободу и справедливость. Он даст нам доброго Бога и счастливую жизнь.
Тишина. Два камня в Пустыне.
Белый и Черный.
– Я не знаю Бога, кроме Жизни.
Этот Бог – Всё. И Ему – всё равно.
Он не любит и не карает.
И в этом Его Справедливость.
Он рождает жизнь, плодящую смерть. И смерть, кормящую жизнь.
И в этом Мудрость Его.
Всё безразлично Ему.
И в этом Свобода всех.
Но, что сеешь, – то и жнешь.
И в этом Его Справедливость.
Вы убьете солдат. Другие солдаты – убьют вас. Придут те, кто убьет их.
Когда-то здесь была Гора.
Теперь – Яма.
Мы рубим камень, из которого строят храмы.
Время разрушит их.
И воздвигнет темницы из тех же камней.
Всё это не имеет значение.
Есть лишь Жизнь.
Она – Всё.
И Ей – всё равно.
Даже – есть Она,
или – нет.
Камень умолк.
Казалось – он уснул.
Некто подождал.
Затем удалился Черным Посохом.
Через три месяца, когда пришел караван с Кривым, сопровождаемый работниками – бывшими рабами, женщинами, солдатами, груженный тюками с едой, водой, инструментом и деньгами. Обнаружили белый известковый скелет. По приказу Кривого, скелет закопали в пустыне, завалив могилу камнями из карьера.
Издали холм казался Огромной Белой Пирамидой, стоящей на горизонте Бескрайней Белой Пустыни и Бескрайнего Белого Неба. Соединив Их.
Мир был Бел.
* * *
СУБЪЕКТ
Свет…
Филимон проснулся.
Он понимает, что проснулся. Но остается лежать с закрытыми глазами в свете без границ, в утреннем шуме жизни. Он прислушивается к ощущению головы на дне подушки. По мере вслушивания, пропадает ощущение головы и подушки. Остается ощущение. Он прислушивается к телу, лежащему на простынной упругости дивана. Пропадает ощущение тела и упругой простынности. Остается ощущение. Ощущение и внимание, смотрящее в шумный свет. Ощущение и внимание в шумном свете без границ. Филимон знает, что проснулся, но не хочет вспоминать мир за этим шумным светом, – где тела и действия, где он как действующее тело. Он не хочет вспоминать «себя», вновь обретать, забытые на время сна, лживые чувства, ложные надежды, пустые слова, никчемные мысли. Он не хочет вновь этой «жизни», которая для него ненужная обуза, давящая, уничтожающая. – Не хочу! – не хочу!! – твердит душой Филимон. Он бросается взглядом в свет, в котором все звуки – единый шум – энергия жизни. Он – внимание и ощущение, ощущаемое внимание в безграничном Свете Жизни. Он не хочет терять, забыть Его, – открыть глаза, «оказаться здесь», «стать собой», обрести «жизнь» – «прошлое, настоящее, будущее» – Не хочу! – кричит душой Филимон. – Не хочу!!! – и понимает невозможность своего нежелания, бессмысленность его. Крик падает в вакуум… Но Филимон уже вспомнил утро выходного дня :
Тот же световой шум жизни. Он уже проснулся. Но лежит с закрытыми глазами, смотрит в этот шумный свет, ощущает тело – ощущение. Рядом спит она. Филимону приятно это. (Приятно и то, что не нужно вставать на работу.) Он вспоминает её. Представляет её сонное чувство неги. Чувствует в душе её – женское, спящее, плавное. Он отрывает руку от светящегося шума и ощущения, ведет к образу её, кладет на бедро, – ощущает теплое упругое женское бедро, свою руку. Прислушивается к ощущению. Теряет образ её, представление о женском бедре… Остается ощущение. И Светящийся Шум. Он вновь вспоминает – спящая, нежная, теплая, мягкая, чувственная. Он отрывает руку от Света и ощущения, ведет к представлению её, чувству чувственности, к неге. Втискивает ладонь между ног её, прижимает к горячему лону. – У-у – сквозь сонное. Он не убирает руку. – У-у-у – недовольно отворачивается. Он отворачивается спиной. Обида режет душу, наполняет ознобом тело. – Сука – рычит, оскалясь его душа. – Лишь себе. – ему тяжело от обиды. Ему не хочется этой тяжести, этой режущей нервности, этих грубых ненужных слов. Этой бессмыслицы, безысходности. Иначе не будет… – Не чувствовать! Никем! Без желаний! Хватит!! – кричит он. Слова заталкиваются в вакуум. Нервное дыхание. Взгляд бросается в Шумный Свет… Шумный Свет… дыхание… ровное… успокоение: лишь внимание-ощущение. В Свете-Шуме. Лишь Свет-Жизнь… Лишь Свет..Свет…
Филимон открыл глаза.
Белый потолок. Белый тюль. Бледные-белые обои. За окном свет дня, шаги, голоса, рев машин, лай.
Звенит будильник. Заведенный Филимон вскакивает с постели. Бегом в ванну: умывается, чистит зубы, в кухню: готовит бутерброд, наливает в банку бульон, всё – в пакет; назад в комнату: убирает постель, складывает диван, одевается. Назад в кухню, ванну: проверяет газ, свет, кран. Выносится на улицу. День!!! Небо!!! Солнце!!! Дома!!! Люди!!! Машины!!! Бегом мимо людей, сквозь людей, за людьми, догоняя, опережая, через улицы и машины, сквозь шум, гул, рёв, метро. Люди, люди, люди, тесно, люди, люди, люди, бегом, тесно, бегом, в стук, в грохот, в громыхание, в скрип и скрежет, в вой и вопль – поехали!!!
Филимон приходит на роботу злой и разбитый. Работает он грузчиком в подвальном складе. Из соседнего цеха в склад приходит конвейер с сахаром, по девять пачек в контейнере. В центре склада конвейер делится на рукава – один идет вглубь, другой наверх. Один за другим идут контейнеры. Филимон хватает их и несет в конец склада, где ставит штабелями по десять штук. Возвращается, вновь хватает, и несет в конец склада… Контейнеры кажутся Филимону вражескими «тиграми». А сам он израненным матросом с последней связкой гранат. «Врешь – не пройдешь», – говорит в себе Филимон и хватает контейнер, бросая взгляд на окно цеха, из которого выбрасывается, покачиваясь и ухмыляясь, очередной «танк». Филимон, мокрый от пота, отупелый и злой, хватает, носит, ставит, вновь несется, хватает, бегом носит, ставит. А из цеха идут один за другим фашистские «тигры». Филимон не успевает. Впереди затор. Один контейнер ударяется в другой, опрокидывается, пакеты рвутся, сыпется сахар. И уже второй, третий ударяют друг друга, стопорят, корежатся, рвутся пакеты, сыпется сахар. Филимон очумелый разбрасывает завал в стороны, складирует рядом с конвейером. Пот заливает глаза. Майка мокрая. «Врешь, сволочь, – не возьмешь», – стиснув зубы, кричит он. А из цеха один за другим выползают, смеясь над Филимоном, «гады». Завал разобран. Вновь носится Филимон, вновь складирует по десять, вновь хватает, несет, складирует. – На двоих подавай, – орут сверху. Конвейер переключается. Теперь сахар идет по рукаву вверх, где его грузят в фуру. Филимон хватает ящики со штабелей и ставит между идущими. Постепенно исчезает всё созданное – склад пустеет, словно не было остервенелого адского труда… Конвейер останавливается. Переключается. Вновь идут «тигры». Вновь израненным матросом носится Филимон, вновь – врешь, сволочь! Врешь… Обед…. Обедает Филимон здесь же. В темном углу стоят его стул и столик. Он кипятит кипятильником воду в эмалированной кружке. Пока заваривается в тарелке вермишель, ест бульон с хлебом и колбасой. Затем, вермишель с колбасой. Наконец – чай с бутербродом и колбасой. Набив живот, Филимон разваливается на жестком расшатанном стуле, скидывает башмаки, вытягивает ноги и дремлет. Набитость в животе неприятно давит, не дает расслабиться. На складе тишина. Будто нет ничего и не было. Филимон проваливается в глухую темноту. Темнота сдавливает его, сжимает до боли виски. Руки, ноги и тело вытягиваются, становятся огромными, надутыми тяжелой темнотой. Звенит в голове. Филимон летит в черном звенящем пространстве… но делает вираж и – открывает глаза. Склад. Тишина и полумрак. Вне – Ничто. В бескрайней космической пустыне завис склад с Филимоном внутри. Филимон ощущает, что и сам – Ничто. Пустая голова, пустое тело. Лишь неприятное, давящее чувство охватило изнутри живот. Филимон закрывает глаза. Его нет. Одна черная, звенящая тишиной, Пустота. И внутри её поселилось чужеродное распирающее ощущение замкнутой набитости. Филимон открывает глаза. Ему отвратительно. Он глубоко вздыхает. Берет книгу. Случайная книга, оставленная когда-то кем-то здесь. Филимон не читает книги и газеты, не слушает радио, не смотрит телевизор, не ходит в кино: всё это – чужая жизнь и вранье. «…Свободные от того, что думаем, мы остаемся только тем, что есть…» Филимон закрывает глаза. Чернота. Безвременье. Филимон открывает глаза. Осталось 15 ми нут. «…не верит, что пространство существует определенным образом или обладает категорической сущностью…» Филимон закрывает глаза. Он смотрит в черноту, в краснеющую черноту, в которой из-за невидимых пределов появляются оранжевые кольца. Они движутся, сужаясь, к центру и в нем исчезают. Филимон следит за кольцами. Он напряжен. Осталось, наверное, минут 5, а может 3 или 2 – одна. Он напряженно ждет, ощущая натянутость мышц, давящую тяжесть в животе. Ещё секунда… оранжевые круги появляются в черно-красном и, сужаясь, исчезают в центре… еще… еще… а может еще минута, три, пять?!!..еще… Стоп – включился конвейер. – Поехали!!!… Вновь мечется мокрый от пота, Филимон, израненный матрос, вновь таскает, складирует, несется, хватает, тащит, складирует, вновь завал, вновь – Подавай на двоих, – вновь – Врешь, сволочь, – вновь, вновь, вновь… пустеет, вновь наполняется склад, пустеет, и наполняется, пустеет… и… Всё. Конец. Стоп!. Измотанный и угрюмый, липкий от пота, Филимон выходит из под земли. На улице хмуро. Моросит дождь. Небо затянуто серым. Уныло и скушно. Филимон еле волочит ноги, ноет тело. Идти домой он не хочет. Там одиночество и погребение. Он тащится по улице, не обращая ни на что внимание. От усталости он отупел. Филимон покупает в ларьке пиво. Он пьет крепкое. Первые глотки освежают. Холодное пиво вливается в голову, бодрит сосуды мозга. Прохладой орошает легкие, охлаждает живот. Филимон вскидывает голову. Он почти бодро смотрит вокруг. Еще пара глотков и он уже чувствует себя самодостаточно счастливым. Гордо, с легким презрением бросает он взгляды на девушек, «Шлюхи. Одни шлюхи». Он смотрит на «недоразвитых» подростков и «тупых мужланов при деньгах. Козлов, которых доят эти шлюхи». Восторг гордыни щекочет Филимону горло. Он в образе. Он демонстративно – перед собой – по-хамски пьет пиво, нагло разглядывая оголенные женские животы, «блядские» лица, откровенно прикрытые груди, ухмыляется на похотливые бедра. «Мясо. Продажное мясо… Козлы». Он закуривает сигарету, пускает дым в унылое хмурое небо. Темнеет. Дождь моросит на лицо. Но Филимон уже замечает свою игру перед собой. Он уже пытается улыбаться и «взирать» на проходящих. Но усталость наплывает изнутри. Рука тяжелеет. Тело наливается свинцом. Он уже кривит себе гримасу. Уже едкая усмешка над собой разъедает образ героя. Обреченный и злой, понуро плетется Филимон меж слепящих мозги, сверкающих реклам, меж смеющихся полупьяных парней и девок. Словно побитый бездомный пес, сторонится «хозяев жизни». Ему противно за себя. Стыдно за свою нищету, беспомощность, одинокость. За свое ничтожество и никчемность. Как тяжело ненавидит он жизнь, Бога, сделавших его таким. Как злобно ненавидит он всех этих: наглых, потребляющих, живущих в рок-н-ролле, жрущих в дорогих ресторанах, хрипящих на шикарных продажных женщинах. «Деньги! Деньги! Деньги!!! Животные… Бред кругом. Бред собачий!» Филимон берет вторую бутылку. Он жадно глотает, будто в жажде. Но холодное пиво давит. В голове бродит хмельное вариво. Живот вздут. Тяжело дышать. Филимон хочет постоять, отстраниться от гнетущего отчаяния, от злости, от жалости к себе. Но дождь усилился. Словно бомж, бредет Филимон под ливнем, съежившись, спрятав голову в плечи. Тискает к груди холодную мокрую бутылку пива, которое ему уже не нужно, уже противно, как противна и эта тупая разваливающая пьяность. Филимон чувствует себя напившимся пива и дождя, вздувшимся, гниющим трупом, шатающимся бесприютно по мокрым улицам, будто проказа, будто чума. Он плачет. Хоть и знает, что плачет для себя, играя перед собой. Что и «труп» этот – тоже игра, как и желание «красивой жизни», как и отчаяние и жалость и злость. Филимон плачет и плюет себе в лицо за свой плач, за свою жалость к себе, за свою лживость и позерство перед собой, даже в этом плевке. Но он чувствует, он знает, что, кроме позерства этого, у него ничего нет. Лишь пустота, мрак и одиночество. «Умер. Умер проклятый метельщик! Умер!!!«* Звенит у него в ушах, вдруг налетевший крик, из забытого фильма. «Умер!!!» Филимон идет под проливным дождем, шатаясь, давя из себя слезу, с мертвецкой радостью, вопя в мир, изрёваной душой, – Умер проклятый метельщик! Умер!!! Всё звенит кругом, кружит эхом, повторяющимся, нескончаемым, кружащим. Кружит, шатает Филимона. Раскачивается мир. Раскачивает Филимона. Раскачивает. И… швыряет За – в Черноту. В Никуда. В Смерть…
Он сидит в темной кухне. Пьет третью бутылку. Проливает на подбородок и грудь. Вытирает ладонью. Берет мокрой рукой сигарету. Пытается прикурить. Сигарета ломается. Он злобно давит её в пепельнице. Вытирает руку о рубаху. Вновь достает из пачки сигарету. Подкуривает. Глубоко затягивается. Выпускает дым сквозь зубы. Смотрит в темное окно. Там дождь. «Сука.» Глотает пиво. Вновь проливает на подбородок. Утирает тыльной стороной ладони. «Тварь е…». Затягивается сигаретой. На улице дождь. Голова сваливается на грудь. Глаза закрываются. Но он усилием вскидывает голову. Раскрывает глаза. Глоток. (*реплика из кн.-ф. «Город мастеров»: автор работал дворником, во время написания рассказа) Затяжка. Дым в стекло, в ночь, в дождь. «Шлюха.» Он вспоминает её довольное лицо. Когда она заходила, с ней врывалась чужая Филимону, бурная жизнь. Он замирал, прятался в себя от этой ярости. Впадал в ступор. В отстраненность. В ненависть к её жизни – без него, вне его, – жизни яркой, как представлялось ему. Он с острой болью чувствовал свою скучность, нелепость. Он считал, что она пришла из жалости к нему. И начинал ненавидеть себя, свою жалкость, её жалость к нему, свою жалость к себе. Он начинал резко и отчужденно, будто свысока, разговаривать с ней, словно она помешала своим визитом, словно она скучна, словно у него нет к ней никакого интереса. Пили вино. Курили. Она болтала без умолку о новых интересных знакомых (с которыми, Филимон был убежден, она спала), о ресторанах и поездках, разгульной жизни, которой Филимон завидовал. Он и сейчас всем сердцем желал жить такой жизнью, быть сильным, богатым, умным и красивым. Есть пить в ресторане. Спать с красивыми женщинами. Но чувствовал, что лжет себе.. Что – пуст. И все же её слова унижали и угнетали. Ему до истерики ненавистно становилось его глупое лицо с выпуклыми бесцветными глазами, худое кривое тело. С каждой её фразой, с каждой радостной репликой, он всё больнее испытывал свою беспомощность, нищету, забитость. Пытаясь убежать в пустоту.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!