Текст книги "Бесов нос. Волки Одина"
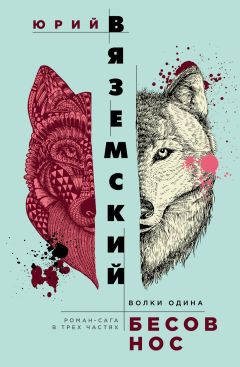
Автор книги: Юрий Вяземский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Драйвер, полуобернувшись на водительском кресле, с любопытством разглядывал Митю.
«Все-таки я очень сложно для них говорю. Надо попроще, попроще, планку опустить», – мысленно приказал себе Профессор и продолжал:
– Чтобы было понятнее, давайте представим Россию в виде, ну, скажем, трехэтажного дома. Первый этаж давайте условно назовем экономическим, второй – политическим, а третий, как мы договорились, духовным или, если угодно, познавательным. На каждом этаже у нас будет по три комнаты, или по три формы культуры, или по три модели поведения. В своих лекциях я их обычно обозначаю греческими словами. Но вас не хочу затруднять… Помните, у Достоевского, Иван Карамазов, беседуя с братом Алешей, говорит: «Давай рассуждать как можно глупее»? И объясняет: «Чем глупее, тем и яснее. Глупость, брат, коротка и нехитра, а ум виляет и прячется»… Вот я и предлагаю рисовать наш портрет прямо и честно. Как его Карамзин рисовал, наш великий историк. Когда его однажды спросили, как одним словом описать то, что творится в России, Николай Михайлович честно ответил: «Воруют».
– Точно! Вот молодец! – радостно воскликнул Петрович и стал смотреть на Профессора.
«И я молодец – нащупал нужную тональность, и народ сразу же начал реагировать», – мысленно похвалил себя Профессор и возразил:
– Карамзин, конечно же, молодец. Но мы с вами будем описывать трехэтажное здание. И потому, забегая вперед, скажу, что воруют у нас в основном на первом этаже, а на втором и на третьем другие слова потребуются.
– Какие? – спросил Драйвер.
– Давайте по порядку, с первого этажа начнем. Именно там воруют. Но я всегда уточняю: скорее грабят, чем воруют, потому что чаще делают это в открытую, никого не стесняясь. Это во-первых. А во-вторых, грабят не только людей, не только народ, но испокон веков варварски грабят территорию, землю нашу. На этих двух китах – ограблении территории и ограблении населения – собственно, и строилась вся наша экономика.
– А сейчас разве не строится, – не то спросил, не то утвердил Петрович.
– Лучше в прошедшем времени. Так безопаснее, – усмехнулся Профессор. – И обратите внимание: территорию грабят главным образом в первой комнате нашего первого этажа, а людей – главным образом во второй. И первую комнату я предлагаю называть производственной культурой, а вторую – финансовой… Правильнее было бы именовать ее коммерчески-финансовой. И вообще, если изъясняться действительно научно, надо сделать много предварительных оговорок и уточнений… Но мы ведь договорились не умничать, а писать портрет простыми, грубыми, честными мазками.
– Правильно, Профессор! А что в других комнатах творится?
– Погодите, Анатолий. Мы с вами еще и первую комнату не нарисовали. И для нее не одно, а два слова понадобятся: «грязь» и «хамство». С вашего позволения, с грязи начнем.
– Положа руку на сердце, я вынужден признаться: мы грязный народ, господа! – объявил Профессор и даже приложил ладонь к левой части груди. – У нас грязные дороги; не только, заметьте, разбитые и дырявые, но какие-то именно по-русски, эдак, я бы сказал, национально грязные, особенно зимой. А вдоль них – такие же черные и грязные деревни и села. И не потому что бедные. Бедность бывает чистой и скромной. У нас же повсюду грязь: в бедности и в богатстве, в деревне и в городе… Я каждый день эту грязь наблюдаю. Напротив моего дома уже два года ведется стройка. И мало того, что наши замечательные строители развели и разнесли по всей округе черную грязь – она у нас почему-то всегда какая-то художественно черная, будто с картины Малевича… К этому в добавок, когда поднимается ветер – а я живу недалеко от залива, и у нас почти всегда ветер, – он с этой стройки приносит пакеты и тряпки, развешивает их по деревьям, и они висят чуть ли не на каждом дереве, разных размеров, разноцветные, прозрачные, как… я не знаю…
– Гондоны, – подсказал Петрович.
Профессор поморщился и продолжал:
– И это, господа, в Питере, прошу прощения, в Санкт-Петербурге, якобы в культурной нашей столице! Что ж тогда говорить о провинции?..
– Да, срут! Это точно! – теперь уже выкрикнул Драйвер. – Приедут, понимаешь, на озеро отдохнуть, и обязательно после себя срач оставят. Не могут без этого.
– Вот вы, Анатолий… Анатолий Петрович, вы уже во второй раз употребили грубое словцо, – заметил Профессор. – И я вам это не в укор говорю. Напротив, я вам весьма благодарен за то, что вы меня подвели к следующему слову, к следующей нашей национальной черте – нашему хамству. Им ведь, на мой взгляд, и наши дороги, и наши деревни, и наши озера так щедро напитаны, что черная наша грязь просто не может не выступить… На той же замечательной стройке, о которой я вам докладывал и которая у меня под самыми окнами, они, например, наши родные строители, взяли за моду кувалдами забивать сваи, или металлические штыри, или что они там забивают… И ночью, заметьте, в летнее время, когда хочется окна открыть, чтобы не было душно. Попробуй открой! Часа в два утра тебя так шарахнут кувалдой по голове, что долго потом не заснешь от возмущения. А когда начнешь засыпать, снова шарахнут!
– Это ведь тоже грязь, – увлеченно продолжал Профессор, – тот хамский шум, который повсюду нас окружает и от которого никуда не спрятаться: ни в квартире, ни на работе, ни на отдыхе. Всегда найдется какой-нибудь хам, который либо кувалдой будет стучать, либо циркулярную пилу включит, либо музыку так громко врубит, что у тебя от ее басов внутренние органы начинают пульсировать!
«Или всю ночь будут кашлять, чтобы ты глаз не сомкнул», – чуть было не добавил Профессор, но сказал вместо этого:
– Во многих государствах приняты законы, которые охраняют покой своих граждан и наказывают за шум. В Англии, как мне рассказала моя коллега, которая там несколько лет провела, ей пришлось расстаться с любимой собакой, потому что соседям не нравилось, как собачка иногда тихо полаивала в саду. Чуть ли не в суд на нее подали!.. В России тоже будто бы принят закон против шума. И есть у меня подозрение, что как только его приняли, у меня под окном сразу и застучали ночью кувалдой. Потому что не принят и никогда не будет принят закон против русского, общенародного, всероссийского хамства, от которого, между прочим, и сам хамом становишься!.. Помните, у Гоголя? «Не так ли и ты, Русь, что бойкая тройка несешься? Гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, и, косясь, сторонятся и дают ей дорогу другие народы и государства»… Тут надо быстрее посторониться, потому что, даже если эта великая русская тройка тебя не придавит, то уж наверняка обдаст грязью и оглушит шумом!
– Точно! – опять радостно поддержал Петрович. – И вон, смотри, как раз нам еще один примерчик выплыл. Вон там, у берега, видите? Видите две резиновые лодки? Мы их называем гондонным флотом… Вы уж опять-таки, так сказать, простите за грубое выражение. Но они нас достали! Хамничают, изверги! Они – лохуны, но на своих гондонах тоже разворачивают до десяти спиннингов, близко подплывают к нам и запутывают все снасти. Они и детей в эти резинки сажают. У них там детский лагерь.
Свою тираду Петрович закончил гневной угорской фразой.
Профессор даже не пожелал смотреть в ту сторону, куда ему указывал Петрович, а вместо этого произнес:
– Перейдем теперь во вторую комнату на первом этаже… С дорог начали – давайте к ним вернемся. На профессорский оклад, как известно, семью не прокормишь, и потому мне часто приходится ездить, принимая различные приглашения. И трясясь, подпрыгивая, ударяясь головой о стенки или потолок автомобиля или автобуса, я часто задавался вопросом: почему у нас такие веселые дороги? Причем не только старые дороги заставляют тебя веселиться, но и новые, вроде бы недавно построенные и заасфальтированные, не дают заскучать. Думал я, думал, и наконец меня осенило. Тут, господа, две причины. Во-первых, хорошие дороги у нас просто невозможно построить, потому что тогда трудно будет своровать более десяти процентов, – это я от знающих людей слышал. У нас же из сметы воруют и по двадцать, и по тридцать; некоторые умельцы до восьмидесяти процентов доходят!.. Во-вторых, хорошую дорогу просто невыгодно строить. Ну, построишь ты ее по всем правилам, безупречную, чтобы лет десять стояла без сучка и задоринки, то есть без ямки и рытвинки, как в Америке или в Голландии, – и какой тебе с этого навар?! А когда она у тебя через год начнет рушиться и осыпаться, ее либо все время нужно будет реставрировать и подновлять, либо можно будет дождаться, когда она совсем обвалится, и на ее месте заново будешь строить и воровать, виноват, зарабатывать. Такая вот, с позволения сказать, экономика… Воровство у нас – образ жизни, национальная наша традиция, не только первоисториком нашим выявленная и провозглашенная. Помнится, как-то Петр Великий повелел генерал-прокурору Правительствующего Сената Ягужинскому сочинить указ о том, что – позвольте процитировать – «ежели кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». На что ему Павел Иванович не побоялся ответить – опять-таки дословно цитирую, потому как тут каждое слово блестит и играет алмазными гранями: «Государь, – возразил генерал-прокурор, – неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Именно, друзья мои, все воруем. А если мне кажется, что я ничего не украл, то это означает: я либо научился не замечать свое воровство, либо украл так мало, что и сам не заметил… Достоевский, помнится, в разных местах утверждал, что русский человек не может быть атеистом. А я, перефразируя великого писателя и заручившись карамзинской поддержкой, осмелюсь объявить: истинно русский человек не может и вором не быть, потому что, ежели он не вор, то и не русский!.. Скажу более. У одного нашего историка и депутата я как-то прочел, что немцы тоже воруют: например, Генрих Шлиман, для того чтобы раскопать древнюю Трою, деньги на раскопки добыл воровством. Но этот наш ученый почему-то не упомянул, что воровать Шлиман приехал именно в Россию. Обратите внимание, господа, на это важное уточнение и эту характернейшую деталь: к нам иностранцы, к нам немцы приезжают, чтобы у нас воровать! Потому что нигде они не смогут так ловко и так беззастенчиво воровать, как в России!.. И вы меня, ради бога, простите, не удержусь и приведу еще один пример, литературный. Ибо коль скоро речь зашла о национальном характере, без нашей великой литературы не обойтись: она, если угодно, первейший источник и, кстати сказать, самый безопасный для подобного рода рассуждений – Пушкина или Достоевского конечно, тоже можно упрекнуть и осудить, но сделать это все же намного труднее, чем обругать и заклеймить мало кому известного университетского профессора…Так, стало быть, у Александра Николаевича Островского в «Горячем сердце» приказчик Наркис, попав к разбойникам и узнав, что те из чужих земель, в полном удивлении восклицает: «Что же вы не грабите?! Это вы напрасно. Вы нашего народу не знаете. Наш народ простой, смирный, терпеливый народ, я тебе скажу: его можно грабить»… Грабили тысячу лет и до сих пор грабят.
– Как-то так, – грустно вздохнул Петрович.
Профессор успел заметить, что на него теперь не только Драйвер смотрит. Митя также перестал созерцать воду и, наморщив высокий лоб, уставился в правое ухо Сенявина. И Трулль, телезвезда, теперь глядит на Андрея Владимировича. «Я все-таки заставил тебя на себя посмотреть!» – торжествующе подумалось Профессору.
Ведущий, однако, молчал и улыбался Сенявину. Улыбка его была не нагло-насмешливой, как у Киршона, не высокомерно-презрительной, как у Францева, не наивно-невинной, как у Ирискина, не агрессивно-кошачьей, как у Рудина, – одна за другой перед внутренним взором Профессора промелькнули улыбки и улыбочки других знаменитых телеведущих, но ни одна из них не совпала с улыбкой Трулля. Труллева улыбка немного напоминала обаятельно-привлекательную улыбочку Аркаши Бранта, но у того она была именно что улыбочкой и дурашливой, а у Трулля – и обаятельной, и серьезной, и одновременно не то чтобы насмешливой, а какой-то словно игольчатой, при этом безукоризненно вежливой и даже, кажется, ласковой.
«У него есть собственная улыбка. Это, говорят, очень хорошо для телеведущего», – подумалось Профессору, но он поспешил прогнать эту мысль от себя и вернуться к своим… к своей лекции – так знавшие Сенявина люди именовали его долгие вдохновенные рассуждения.
– Впрочем, тут нет ничего удивительного, – продолжал Профессор. – Чему тут, дорогие мои, удивляться, когда на протяжении нашей истории у нас никогда не было ни уважения к частной собственности, ни доверия к государству, ни обязательных для всех законов; когда в любой момент у тебя могли разом отнять все, что ты тяжким трудом заработал и бережно накопил?.. И потому: «горюет, а сам ворует»; «вор на воре, вором погоняет»; «рука руку моет, вор вора кроет» – все это русские пословицы, и попробуйте найти им переводы в других языках. Своровать или ограбить и побыстрее потратить, или спрятать, или перевести за рубеж… И еще одна, с вашего позволения, поговорка – «у вора ремесло на лбу написано». Вы никогда под этим углом не разглядывали лбы наших деловых людей?
Тут Профессора неожиданно и весело прервал Ведущий:
– Простите, маэстро. Мы, к сожалению, сейчас должны уйти на рекламу. А вы пока можете вспомнить, чьи лбы вас особенно заинтересовали.
Профессор нахмурился и замолчал, а Трулль поднес к лицу Драйвера светящийся дисплей своего макбука и сказал:
– Слышь, Толь. Тут на сорок пять градусов есть интересная бровка. Видишь?
– Не вижу. Я, Сань, в ваших картах не шарю, – игриво ответил Драйвер.
– А ты не шарь, ты петри, Петрович, – тут же перешел с ним на жаргон Ведущий. – Я ж тебе показываю. Бровка, по ходу, прикольная. Давай отвернем и ее обработаем.
Драйвер чуть помолчал и ответил уже не игриво:
– У нас там не ловят.
– А мы давай попробуем. Там у подонков явно тусня.
– Нельзя, Сань… Сегодня точно – не надо, – уже виновато ответил Петрович.
– Почему?
– Потому что сегодня там могут быть ильмари. – В голосе у Драйвера послышалось беспокойство.
– Что за хрень?
– Это не хрень, Саша. Так финны их называют. Карелы говорят: «вют-ава». Лопари – «ву-мурт»… Погранцы, так скажем. Чтобы тебе было понятнее.
– Погранцы?.. То есть пограничники?!.. Какие здесь могут быть, блин, пограничники?!.. Не делай мне смешно! Давай, поворачивай.
– Если я говорю, что нельзя, то, значит, нельзя! – вдруг резко объявил Драйвер.
Трулль удивился, и улыбка исчезла с его лица.
– Я потом тебе объясню, Саша, почему мы сегодня туда не поехали, – уже не так сурово сказал Петрович.
Ведущий прищурился.
– Не надо нам никуда поворачивать, Сашка! У нас сейчас здесь клевать начнет! – вдруг радостно воскликнул Драйвер.
Все так же щурясь, Ведущий посмотрел на часы и спросил:
– Через сколько «сейчас», не подскажешь?
– Через четыре минуты, – бойко ответил Драйвер и добавил: – Можешь включать счетчик.
– Ну гляди, Петрович. Если через четыре минуты будет облом, я начну думать, что ты не хайповый драйвер, а какой-нибудь чепушильный люмпен.
– Не начнешь, Сань! Хоть к бабке не ходи, – сказал Драйвер и хитро подмигнул Профессору.
Ведущий обернулся к Сенявину и, одарив того фирменной улыбкой, объявил:
– Закончилась наша рекламная пауза. Прошу вас, маэстро!
Нечто весьма неприличное пришло на ум Андрею Владимировичу, и он, оттолкнувшись от этого неприличного, решил подыграть этим двум клоунам – так ему вдруг подумалось о Ведущем и Драйвере.
– Насколько я помню, – заговорил Профессор, – мне было предложено вспоминать портреты наших деловых людей. Мне их много припомнилось. Но учитывая, что у меня есть только четыре минуты… Всего два портрета. Опять-таки из русской классики, чтобы побезопаснее. Один – от Островского и один – от Достоевского. Любуйтесь, господа! Павлин Павлиныч Курослепов, олигарх, как их теперь народ называет. Городничий Градобоев его распекает: «Что вы за нация такая?! Другие боятся сраму, для вас же это первое удовольствие. Честь-то ты понимаешь, что значит?!» А купец эдак удивленно в ответ городничему: «Какая такая честь? Нажил капитал, вот тебе и честь. Чем больше капиталу, тем больше и чести»… А теперь извольте из Достоевского! В «Братьях Карамазовых» прокурор Ипполит Кириллыч в своей обвинительной речи, говоря от имени русских людей, восклицает: «Мы не жадны, нет, не жадны! Однако же…» Вот тут, друзья мои, попрошу вашего внимания. Потому что это его «однако же», на мой взгляд, дорогого стоит! «Однако же, – говорит прокурор, – подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже!»… Два раза «презрение». Так у Достоевского. Я правильно процитировал. И обратите внимание: раз они сами деньги, презренный металл, презирают, но так его жаждут, чтобы потом с презрением разбрасывать, то сам собой напрашивается вопрос: эти плутократы, как я их называю, потому что олигархов в России не было, нет и не может быть, как я вам позже постараюсь показать, – эти, говорю, плутократы не презирают ли они втайне и свое богатство, и свою честь, которую они в этом богатстве хотят увидеть, и самих себя, наконец, презирают и собой брезгуют! Они ведь тоже – народ, наш, русский, российский. И еще разобраться надо, кто из нас более русские – бедные или богатые. Потому как богатые…
– Ну ты даешь, Петрович! – вдруг крикнул Ведущий, вновь прерывая Профессора.
Сенявин не сразу сообразил, при чем тут Петрович. И лишь когда, оглядевшись, увидел, что Драйвер приглушил мотор, что Ведущий держит в руках спиннинг и вращает катушку, догадался, что наконец клюнуло, и Трулль эту поклевку первым заметил.
Профессор вскочил и хотел подойти к Ведущему, но Драйвер преградил ему дорогу.
– Погодите. Этот первый, Павлиныч, он будет откуда? Я не услышал. Или вы не сказали.
«Нашел, когда спрашивать?!» – сердито подумалось Профессору.
– Да не волнуйтесь! – продолжал Петрович. – Саша, красава, сам справится. А я вот могу забыть. Надо же так придумать! Не просто Павлин, но еще Павлиныч и Курослепов. Если кому рассказать, ни за что не поверят. Как пьеса-то называется?
– «Горячее сердце», – буркнул Профессор и попытался обойти Петровича. Но тот снова оказался на пути у Сенявина.
– Погодите, я сейчас запишу. Это правда Островский?
– Островский! Островский! Да отойдите же наконец! – уже закричал Профессор.
– Понял! Отошел! – тоже закричал Драйвер и отошел как раз в ту сторону, с которой пытался его обогнуть Профессор.
– Где тут у вас сачок?! – крикнул Сенявин.
– Сачка у нас нет. У нас есть патсак, – Драйвер опять заговорил с угорским акцентом.
– Ну, подсачник, подсачник, где он?!
– Сичас токко сапишу и там вам патсачик.
Он и впрямь сел на водительское кресло, достал из ящичка клочок бумаги, шариковую ручку и принялся записывать. И вдруг…
Это его мгновенное движение Профессор прозевал, потому что с возмущением отвернулся от Драйвера. Молниеносно Петрович оказался возле Ведущего, уронил вдоль борта зеленую сетку подсачека, а потом поднял за древко, как горнист поднимает горн.
– Тема! – одобрил Ведущий.
– Ты тоже не вату катал, – откликнулся Драйвер.
– Тут было изи.
– Изи, не изи, а я говорю: музыка!
Короткими умелыми движениями Драйвер освободил пойманного лосося от крючка; извлек большую рыбину из подсачека; держа ее на вытянутых руках, показал сначала Мите, затем Профессору, потом Ведущему; следом за этим поднес ее голову к своему лицу, некоторое время глядел ей в глаза, а после взял и осторожно поцеловал в морду.
Будто от этого поцелуя, лосось встрепенулся, вырвался из рук Петровича, сверкнул в сторону борта и упал в воду.
«Доигрался! Допрыгался! Довыпендривался! Клоун!» – злорадно пронеслось в голове у Профессора.
– Я не понял, Петрович, – через некоторое время признался Ведущий.
– Ну, Саш, это самое, со всяким может случиться.
– Совсем не понял.
– Ну, не зачетный он был. Так давай скажем.
– Как незачетный? Килограмма на два. Не меньше.
– Ну, тогда, как у Пушкина. Лосось мне говорит: «Отпусти меня, старче, в море».
– Не хорошо все валить на поэта.
– Ну, Сань, у нас такая традиция – первую рыбу надо отпустить, чтобы она привела за собой других.
– Что-то меня стали утомлять ваши традиции, Петрович.
– Ну, извини, Саш.
Обмен мнениями на этом закончился.
И тут Митя рванул со своего места, одну руку прижав к пояснице, а другой прикрывая рот, потому что сразу закашлялся. Сотрясаясь от кашля, он подобрался к Петровичу и прохрипел:
– Вы это специально сделали… Зачем отпустили?
Драйвер дождался, пока у Мити окончится приступ, и ответил, с нежностью глядя на больного:
– Тебе я правду скажу, Аркадич. Они не поймут. А ты должен понять.
Петрович наклонился к Мите и стал шептать ему на ухо.
Когда шептание завершилось, Митя удивленно спросил:
– Вы не шутите?
– Я с кем угодно могу шутить, но не с тобой, Аркадич, – ответил Драйвер.
«Этот клоун будет почище нашей телезвезды!» – подумалось Профессору. И едва эта мысль составилась в Андрее Владимировиче, Драйвер к нему обернулся и объявил:
– Хотя бы вы на меня не серчайте, профессор. Скоро рыбы начнут конкретно клевать, и вы их будете таскать одну за другой… А пока суд да дело, расскажите нам про другие комнаты. Пожалуйста! Мне это, так сказать, очень познавательно.
Лицо у Профессора продолжало оставаться недовольным, но внутри игриво подумалось: «А еще коньяку мне налить тебе не приходит в голову?»
– Я забыл, на чем мы остановились, – ворчливо признался Сенявин.
– Мы вышли из второй комнаты. По ходу, вошли в третью, – ответил безносый карел и добавил: – Еще коньячку вам плесну. Не будете возражать?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































