Текст книги "Собрание сочинений в шести томах. Том 2"
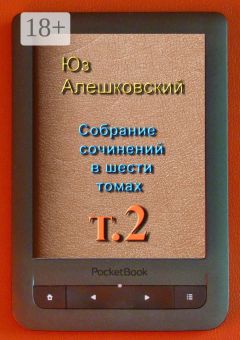
Автор книги: Юз Алешковский
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
Буденный лично порубал всех пленных надзирателей. В живых оставил лишь одного дегенеративно-смазливого брюнета огромного роста с небольшой, сплюснутой с боков головою – явным даже для Буденного атрибутом натуры жалкой, бездарной, подловатенькой и малодушной. Кроме того, он – надзиратель – почему-то напомнил маршалу молодого Сталина на почитаемой всем советским народом тюремной фотографии. Да и вид у него был настолько рабски виноватый, словно он тоже часок назад угодливо сожрал свои скромные усы и усы товарищей по работе. Буденный, осадив перед ним лошадь, тупо задумался. Задача разрубки будущего трупа бывшего врага показалась боевому маршалу невыполнимой второй раз в жизни. Голова надзирателя была так мала, а туловище так несоразмерно громадно, что, с одной стороны, можно было промахнуться мимо мозжечка, а с другой – не одолеть с маху всех двенадцати позвонков до самого копчика. Маршал решил, что тут позора не оберешься, – и надзиратель остался в живых.
А первый раз Буденный встал в тупик, ворвавшись с обнаженной шашкой в театральную уборную актрисы Яблочкиной, приняв ее – уборную – по невежеству за женский туалет. Актриса Яблочкина, кстати, загримированная уже под Крупскую, властно сказала, что она, извините, пожалуйста, не Лукреция Карр и предъявила справку от домоуправа о еще дореволюционной невинности. Актриса добавила, что, скорее, предпочтет быть зарубленной, чем отдастся нагрянувшему хаму. Буденный принял компромиссное решение. Он произнес фразу, вызвавшую впоследствии восхищение Сталина и зависть Л.З.: «Тогда, барышня, мы сейчас с вами кое-что всунем, а кое-что вытащим!»
После этого, зашабашив шашку в ножны, он попытался изнасиловать пожилую девицу. На ее счастье, мимо уборной проходили Ульянов-Ленин – нар. артист Щукин, и человек с ружьем – засл. артист Б. Тенин. Ульянов-Ленин, заученно сделав гениальный прищур, узнал Буденного по портупее и мозолистым ягодицам и быстро скрылся на сцену, где в это время Сталин – нар. артист Геловани – бурно ратовал за предоставление усталому Ильичу внеочередного мертвого часа. Одним словом, артист Б. Тенин зазвал на помощь отдыхавшего в курилке после ответственной реплики Сталина, и они вместе сняли Буденного с Крупской за какой-то миг до хулиганской дефлорации. Увидев Сталина, пьяный, голожопый маршал так очумел от ужаса, что стал импотентом. А настоящий Сталин, полюбивший этот внут-ритеатральный эпизод, приказал тайно вызвать из Парижа ученика Фрейда, видного спеца по лечению импотенции у сильных мира сего. Фрейдист сразу же развел руками, потому что у его пациента Буденного полностью отсутствовало подсознание. Но все-таки сумел загипнотизировать маршала на дальнейшую половую работу…
Ах как совершенно забылся Л.З., пока тихо тлели в его памяти мельчайшие подробности той нашумевшей в их кругу историйки, изрядно затем подперченной и подсоленной фантазией скрытых врагов и легальными выдумками придворных подхалимов… ах как он забылся… как самозабвенно и любовно заигрывал с жужжащей, щекочущей ножками и усиками, стайкой жирных словесных мух… УСпех… УСкакать… УСлать… УСлужить… УСпокоение… УСтойчивость… УСтрица… УСькать… и никак не мог оторваться от лакомой байки…
Доставленных в Кремль Курчатова и Королева Сталин спросил:
– Вы поняли намек нашей партии?
– Расщепим… Оторвемся от… – хором поклялись будущие академики и герои.
– Похитим, – заверил вождя Берия.
– Дезинформируем, – примазался к делу века номер один Л.З.
Сталин благодушно приказал НИИ красоты РСФСР разработать проект протезных усов для Буденного и создать их в 24 часа.
Захваченный конницей лагерь велено было перевести подальше от Москвы. Контингенту же добавить срока за враждебную вспышку ярких антисоветских надежд и порчу государственного имущества – простыней, а также предупредительной зоны и колючей проволоки… …умел… умел унижать, рябая ты наша панацея… но это была жизнь… это была настоящая, содержательная жизнь… кто еще пожил с 25 октября по старому стилю так, как пожили мы?… Ленин?… Троцкий?… Гитлер?… Николай, понимаете, Островский?… Они имели тридцать пять лет все сразу, как мы?… И пусть им будет стыдно за бесцельно прожитые годы…
Подумав так, Л.З. принялся разрабатывать планы подрывной работы на Ближнем Востоке и ряд мер по укреплению квалифицированных партийных, разведческих и диверсионных кадров… Первым делом организуем, наконец, экспедицию в Африку для заготовки крупногабаритных обезьяньих яичек, потому что Вейзмирцурес должен унаследовать от Мехлиса умение сочетать прелести личной жизни с тяжелыми партийными обязанностями… попрошу переправить меня не по воздуху, а морским путем… каюта… пара стюардессочек… ох, они увидят, как мы еще умеем кончать… недельку поболтаюсь по Парижу… Торез не раз говорил мне лично, что французские коммунисты готовы лезть за нами в огонь и в… наладить антисионистскую работу в Европе… только не думайте, дорогие товарищи, что, науськав арабов на евреев, Мехлис подставит свою голову под Курчатовские игрушки… хватит… мы – не бессмертны, понимаете, к сожалению… плевать я хотел на выставление и вмуровывание… часть жизни после полного ремонта организма и пересадки хозяйства должна принадлежать мне лично, так как… не думайте также, что Мехлис выложит всю валюту на партподрывработу… кому-кому, а министру Госконтроля СССР прекрасно известны все методы хищения государственных средств в особо опасных размерах… я на этом собаку съел, но ни рубля не выкакал… генук… за все мои унижения и хворобы… за все, что пережил… ад… ад… ад… сбегу от вас к чертовой матери… две пластиковые операции в Швейцарии и… четыре сбоку – ваших нет… Мех-лис… с беззаветной… на всех, понимаете, участках… дайте пожить… скрываюсь в Новой Зеландии до конца ваших дней… куплю пещеру, приму двух несовершеннолетних миклухо-маклаевочек… пропадите все пропадом… взрывайте этот проклятый регион вместе с арабами и евреями, но без мэ-ня… без мэ-эня… генук играть на моей кристаллической честности, а в это время… вот наУСькаю одних на других… выпьем в гареме за УСпех… переходим на УСтриц в поряд…
Думать Л. З. больше не мог. Сознание его лишь мерцало, дотлевая в сером, почти опустошенном веществе. В нем вдруг что-то стало тянуть, больно тянуть, как тянет иногда затягивающуюся от краев сукровичную рану ожога. Но, в общем, по неисповедимому милосердию Ангелов, видимо, сокрушенных прижизненными муками умирающей, бездушной особи, это был сравнительно безболезненный полусон.
Он то обрывался вдруг в холод тьмы, то вновь начинали в нем тлеть и вспыхивать последние образы этого мира, словно быстрые пробежки оранжевых искорок по почти невидимым пунктирным наметочкам Творца на первоначальных чертежных кружевцах дотлевающих вещей, вот-вот готовящихся превозмочь легкость воздуха бытия и невесомо взметнуться в…
Не так ли зимним вечером, когда посиживаем мы у родственного очага печи, костра или камина, отворотясь от враждебных вихрей вьюги и холодного равнодушия снегов, зачаровывают нас необъяснимой грустью… странным веселием сверхлегчайшего намека на существование чуда… музыкою, возвратившейся в сокровенное живое чрево первоначальной мертвой тишины… взметнувшиеся вдруг к иным мирам… искры гаснут на-а-а лету-у-у… души сгорев-их вещей – соломинок, хвоинок, листвы, веток, древес-ности, еще не стряхнувшие с себя пепел их черт от нежелания… проститься на ма-а-асту-у-у… с костром, который в тумане светит?…
Все слова всего языка уже покидали понемногу серое вещество Л.З., когда он уловил слабым слухом звук открываемой двери, затем откровенно громкие шаги людей, деревянный стук по паркетинам – волочили какую-то вещь – и, наконец, человеческие голоса. Они возникли не сразу и теперь приближались. Л.З. обмер от животворного волнения, такого же точно, какое охватывало его еще до налаженной работы памяти, в самом раннем младенчестве, когда звук человеческого голоса и бессмысленная его музыка обнадеживающе помогали новоявленному существу превозмочь начальный ужас существования.
Мы можем только догадываться о неописуемом нашем опыте отношения к этому ужасу – ужасу, несомненно, более испытывающему и мучительному, чем все страхи смерти, вместе взятые, и вся изощренная работа нашего воображения, с ними связанная, – если даже самой феноменальной человеческой памяти с замечательной строгостью возбранено как-либо прикасаться к реакции крошечного комочка жизни на встречу с судьбой существования, а заодно и на первые проникновения в него неотвратимого чувства времени…
Не в том ли милый, неуловимо-лукавый, нежно-заигрывающий смысл любого собрания звуков, то есть гармонии, равно как и звука одинокого, в первые наши дни нелегкого обвыкания с даром Жизни, что любые звуки кружатся, падают, трепещут, взвиваются, посиживают, перепархивают, носятся, словно птицы-ласточки, чайки, попугаи, воробушки, соколы, совы, журавли, синички, – одним словом, шастают любые звуки, пропадая и, к счастью, возникая вновь, как раз промеж устрашившим нас до ужаса бытием и вполне беззаботной вечностью.
И мы, того не замечая, всячески цепляемся за крылышки-перышки любых звуков, многократно взвиваемся вместе с ними и вместе с ними падаем многократно… удерживаемся до поры до времени от соблазна хватануть пошибче разноцветных пузырьков… ужасной прелести атмосферы бытия… Но вот – превозмогаем, наконец, не без помощи ангела-хранителя и, кстати, любимого нами оперения Его крыл, ни с чем не сравнимый – какая там кессонова болезнь! – перепад жизненных состояний.
И через какое-то время все звуки мира, лишаясь божественной свободы, попадают в плен либо к вещам, либо к явлениям и к живым тварям, не говоря уж о чудесном пленении звука словом, становятся звуки, на взгляд поверхностный, всего лишь рабскими свойствами всего их пленившего.
Но такова уж, думается нам, призывная сущность первоначальной свободы звуков и их бытийственного предназначения, что тайная деятельность Гения и войска Талантов непрестанно отворяет темницы бездарной немоты и вдруг благородно одухотворяет плененные звуки в дереве скрипки, в живой гортани, в обнаженных жилах арфы, в металлах труб, в сердечной речи, в словесной плоти, в чуткой глоточке птички-синички, в…
Услышим же, коль мы имеем слышащие уши, тяжкие, душераздирающие стенания тех, кто, ковыляя к известным пределам по колдобинам пространства, пренебрегал услугами крылатых звуков, помогающих нам превозмогать вихри встречного времени и постоянную тягу времени попутного, и проклянем вместе с тем, не безжалостно, всех тех, кто не только пренебрегал и пренебрегает, но кто убивал и продолжает убивать собрание чистых звуков в напрасной попытке опоганить саму Душу Звучания многочисленными видами и способами насильственного обез-душивания Языка, Дождя, Рек Рождения, Вершин Стихий, Образов Жизни и Смерти… Но проклянем безжалостно бездарную Власть Советов и душевно возблагодарим все Силы, поддерживающие нас в достойном следовании Судьбе…
Точно так же, как всевозможные звуки обнадеживающе помогали Л.З. превозмочь в младенческом состоянии начальный ужас существования, так и поддерживающе сопровождали они это недостойно прожившее существо к яминам исчезновения. Серое вещество вообразило их, разумеется, апартаментами резидентуры Л.З. в центре Иерусалима…
Сам Л. З., конечно, ничего не ведал, но, цепляясь за звуки шагов волочащегося по паркетинам предмета, цепляясь за слова людей, уже почти потерявшие для него всякий смысл, но убаюкивающие лишь звуками, вырвавшимися снова на вечную свободу вместе с остальными сокамерниками, он умоляюще торопил время. Торопил, как умеют и могут торопить время только дети, впрочем, не только дети, наивно убивая возможности жизни в коварных пределах страстных ожиданий… скорей бы… скорей… скорей… между, понимаете, Мехико… меховой промышленностью… Мех-медом Вторым… стоп… стоп… мы еще гульнем по Ближнему Востоку… на рысях… на большие дела… язви вашу душу, дорогие товарищи…
Л.З. и так казался бездыханным, законченным трупом, но дотлевающее под прахом плоти сознание прибавляло ему еще большей бездыханности в соответствии с сугубой конспиративностью момента. Он и истолковывал в угоду этому спасительному, ниспосланному Высшим Милосердием моменту все услышанное…
– Ну, хули ты загремел этим ебаным катафалком?
– А чего ты, собственно, все время «кусь-кусь», когда я с тобой «вась-вась»? Может, кажется, что…
– Мне ничего уже не кажется, потому что я опохмелился.
– Ну так и не хера.
– А не хера выламываться и пичкать вокзальных лярв байками о самодостаточности географии. Мы уже не сту-дики с Моховой.
– Во-первых, не бухти так громко. Приказано было: стопроцентный швах?… Во-вторых, я тебе еще раз официально говорю: история твоя без географии не может, а моя география без истории может.
– Официально?
– Официально.
– Если бы не история, то не существовало бы даже понятия «география». Понял?
– Как тебе известно, после трех штрафняков я ебу поголовно все понятия. Ебу – и все. И никто со мной ничего не может поделать. Тут понял-на-понял не прохезает.
– Официально?
– Официально. Я тебе, залитый глаз, не первый год внушаю, что география возникла задолго до истории. Что бы завоевывали твои Александры Македонские, если бы не было физической географии в виде Рубиконов, Альп и прочих Пиренеев?
– Куда этот командировочный пиджак подевался? Обычно я с одной ноздри труп унюхиваю.
– Не спеши. Без него не тронется паровоз, который говно возит.
– Врежем давай по стопашечке. Расширим сосудики.
– Официально?
– Официально.
Обнаружив коньяк, пришедшие выпивали, и Л.З. блаженно убаюкивало чоканье, жвяканье, отрыгиванье, очередные натужные алкоголические кряхтовыдохи, занюхи-вания рукавом принятого, шаги, перешептывания, сопровождаемые звучным рассовыванием краденых вещей по карманам… не можем без этого, понимаете… не можем… как они будут харкать кровью после моей докладной Сталину…
Зашуршали ассигнации… звякнули семейные драгоценности… трофейные антикварные безделушки…
– Я тебе сказал, сука, поставь на место?
– Что, он с собой все это захватит, что ли?
– Я сказал: поставь?
– Этим томам Фукидида цены нет. Им триста лет.
– О’кей. Тогда сдери с подрамника и притырь мне за спину Ван Гога.
– О’кей. Никаких паровозов не хватит на все эти трофеи…
Тут Л. З. тишайше встревожился… при чем «о’кей»? … Товарищи, очевидно, из Английской КП… Но при чем паровоз?… в моем состоянии лучше всего… Но быстро успокоился… каждое слово закодировано… уж на это Сталин – величайший мастер конспирации… этого у него не отнимешь…
Он снова завис вместе со звуками между небом и землей…
– Это еще что за волосня под ногами? Кучерявая…
– Скальп. Да. Это – скальп…
– Может, притырить? Пусть пацаны играют в историю Нового Света…
– Вот что проститутки поганые делают с историей ради какой-то ебаной географии…
– Тут мы с географией разводим руками и пасс… большой пасс… только – без «ебаной»… иначе резко перехожу на «кусь-кусь».
…говнюк… последний говнюк… надо было взять… прическу… показать Гуриону… лучший политкапитал… в доверие… спас от глумления после катастрофы…
– Будем людьми: отправим это вместе с ним. Там при годится… …просто… на лету схватывают… шалавы… это – работа…
– Можно было и не молотить шмутки перед отъездом… как, сучий мир, охота после себя хоть потопчика.
– Тс-с-с… помянем кучерявого… Подонки!… Снять скальп! Подонки!
– Царство тебе Небесное… кровавый мученик истории…
– Молчим… молчим… Царство Небесное… пошевеливаемся…
– Минуточку… где мой талмуд?… тут все рядом… врачиха Рабинович подождет… генерал-лейтенант Мильштейн… тоже подождет… Глузману с Минцем спешить некуда…
– Что-то много ихнего брата отправляется туда последнее время…
– Тс-с…
– Плевать хотел штрафняк на конспирацию… если так будет продолжаться… у народа прекратится история… история прекратится, ублюдки…
– География – против… не позволим… уважаем… тут мы, Вась-Вась, кланяемся вам с историей в ножки… оф-фи-ци-аль-но… наливай… тут вы, Вась-Вась… двадцать веков обходились без нас с географией… от души… плачем, ломая указки… но география вас ждала… верняк… Ждала веками…
…не думаю, что сработаемся с Рабинович… впрочем… только очень хороший врач мог позволить себе нарушить клятву бюрократа… в присутствии Мехлиса… Мильштейн?… кажется, способный разведчик… не хватало мне еще Кагановича… рыть метро из Каира в… не сработаюсь… вместо Минца и Глузмана потребую одного Тарле…
Многолетняя привычка принимать желаемое за действительное, столь свойственная всем козлоногим советским свиньям, взгарцевавшим на Вершину Власти, близка была к обретению формы законченной и совершенной в истлевающем сознании Л.З. проблему кадров лучше решать на месте… что же эти шалавы тянут резину… хочется по-большому… ладно… тоже на месте… с сортирами там будет худо… Ему даже не хватило умственной энергии для полного отождествления двух интеллигентных ханыг с теми самыми учителями, успевшими нагло совратить аппетитных школьниц – его Верочек, – хотя с первых дней войны, как мы помним, Л.З. сделал все от него зависевшее, чтобы угробить «гангстеров первой ночи» в штрафняках – любимой забаве препохабного беса Войны… Что-то шевельнулось в прахе памяти… что-то готово было ожить в ней и вышвырнуть Л.З. напоследок в разверстый ад действительности, но не ожило, на его счастье, когда оба санитара, работавшие в правительственном морге и подхалтуривавшие по ночам в моргах больничных, подошли наконец к «клиенту»… быстрей… быстрей… быстрей…
– Надо же, Вась-Вась… столько лет наши сволочи Верки харились с этой неузнаваемой образиной… говори после этого об истории…
– Теперь за все уплачено. Кроме того, мы немыслимы без уродств и трагедий…
– Готов резко парировать… рреззко… рраззливай духи-одеколончики… плевать мне на время истории…
– А мы положили с прибором на ваше пространство… духи-то музейные… мадам де Сталь. Вась-Вась, как она закалялась!!! Как она закалялась!!!
– Разливай… так закалякивалась сталь… не плачь, душа моя… не плачь на реках вавилонских… и не рыдай над рекою Москвою…
Спасибо… духи… духи… мадам, положив между титек надушенный платок, ввалилась к Людовику… как они пошли!., я выжрал целый капитал… оживаю!., спасибо!., как же, скажи, не рыдать, когда мы, русские, продолжаем подло обсирать историю, несмотря на безбрежность географии, а у ихнего брата вся география две тыщи лет лишь в мозгу умещалась, да и сейчас она на пятачке, вроде Рязанской области… пррек-ло-няю-юсь… И это, Вась-Вась, нечто почище истории… тут я трезветь начинаю… тут загадкой самой жизни попахивает… какая еще история могла бы выжить без географии?… А эта выжила и вновь в свою географию вливается… кровь в жилы вливается… Я за это вот самое евреев ужасно как обожаю… Ужжжасно… и жизнь обожаю… А когда их бить начинают и обижать, тогда мы с историей пррротестуем… пррротестуем… Не завидуй жизни и непомерной ее тяжести в веках без географии… не бойся, гад большевистский, жизни… бери пример, как проходить надо сквозь огонь, воду и медные трубы, блядь… преклонись перед народом, который первым Господу Богу под руку попал, но, несмотря ни на что… теряю мысль перед тайной еврейской истории… несмотря ни на что… не отвратился от Бытия, но живет… но живет, повинный лишь в навевании на нас ужаса и непревозмогаемого удивления перед своей бесстрашной, превысившей все нормы терпения страсти жить… Что же, скажите мне, может быть страшней, чем жить!… Ни-че-го… Но я о-обожаю… Еще раз официально заявляю: жизни не убьешь… и евреев не убьешь до окончания истории, потому что… потому что… теряю мысль… хотя вот этот цуцик евреем не имеет права называться и считаться… он есть – инкогнито…
– Этто – да-с… духи – не сивуха и даже не коньяк… озябчик пробежал по параллелям и меррри… согласен… полностью адекватен в этом вопросе… не умеем жить, Вась-Вась… не хотим жить… не жжелаем уважать родную географию… прозевали собственные горы, моря, леса, реки… с известной низменностью, и в результате – никакой возвышенности… теперь суем свиное рыло в чужие географии… не хотим жить и другим не даем… склонен также полагать, что не мы не хотим, а нам не дают…
– Кто?
– Тс-с-с… нужен этим красным проституткам берег турецкий и Африка им зачем-то нужна… поганцы… поганцы, Вась-Вась… указкой – по пальцам… по рукам поганым… указкой… указкой… ввон из класса, выродки…
– Без рродителей – не прриближаться на пушечный ввыстрел «гавроры»… наливай… за тебя… зза вас с географией…
– Нет, позволь, я за тебя и за вас с историей
– Официально?
– Официально…
…кажется, попахивает пятьдесять восьмой… несколько
пунктов… анонимно дать знать Руденко… это – агония марксизма, если народ лакает трофеи французской революции, как «Рижское» пиво… дальше некуда… агония… Л.З., возможно, зашевелился бы от невозможного уже нетерпения, но работяги, порыгивая и восторженно дегустируя букет своих отрыжек, приступили наконец к делу.
– Этого приказано – инкогнито. Кинь ему на рыло портянку и волоки, как дворянку.
– Его и так не узнать. Берись, история.
– Рраз-два, взяли, география. Весу в гаврике с хуеву душу. Это тебе не Жданов!
– Легче канать до места назначения.
– Пошли, Вась-Вась… бригада «УХ» работает до двух…
– Бригада «ОХ» кантуется до четырех…
– Срезали угол… бригадушка «ЭХ» упирается за всех… стоп… стоп.
…готовимся в космос, понимаете, взвиться… никак не присобачим колесиков к носилкам гробов… компроме… себя на каждом… ша… все-таки даже так… наша работа идет… в Турции… в Африке… я вам покажу, сволочи, понимаете, на Ближ…
– Куда ты денешь балалайку? Это же арфа!
– Тебе известно, кто играл на этом инструменте?
– Оффициально… нет.
– Мария Стюарт.
– Помянем жертву дворцовой интриги!
– Ладно. Рраз так, то допьем де Сталь, а ты сбацай что-нибудь на дорожку… пускай инкогнито внимает гуслям и кимвалам перед попаданием на место назначения…
– Господи, прости Шотландию!
– Вве-ли-ко-душно и офф-ициально… мо-ой костер в ту-умане све-е-етит…
– И-и-скры га-а-аснут на-а ле-е-ету-у…
– А-ы-ы на-ачью на-а-ас ни-и-и-кто не встре-е-е-е-тит…
– Мы-ы-а пра-а-астимся на-на-а ма-а-а-асту-у…
Л.З. весь вдруг сжался и задрожал от миллионов иголочек, кольнувших каждую клеточку кожи и коченеющей утробы. Это был озноб проникновения в плоть состава звуков, вырвавшихся из-под заплетающихся пальцев ханыги.
Искореженные, измордованные струны рванулись к звучанию с такою горестной силой, как будто их убитые недочеловеком собратья успели все же передать спасшимся запасы жизни, и горестность звучания была столь душераздирающе чиста, пронзительна и поистине безупречна, что убийца, чье лицо прикрыто было собственною его старой портянкой, испытал, возможно, первый раз в жизни чувство причастия своей испохабленной малости к великодушно открытому Целому. А славные ханыги, никак, конечно, не ожидавшие такого неожиданного потрясения своих натур от ничего вроде бы не значащего костра в тумане… искр, гаснущих на лету… непрекращающегося всю жизнь прощания на мосту… и пьяной стаи звуков, лишь напоминавшей, но точно не повторявшей желанную мелодию, вдруг зарыдали, обнявшись, от любви к жизни, от ужаса жить и от чисто русской вины за мелкие и крупные разочарования в даре существования…
Л.З., исколотый иголочками волшебного озноба, то ли скорчился слегка, то ли слегка шевельнулся – так шевелятся и корчатся в очаге остатки всего сгоревшего, несмотря на отсутствие движений воздуха, – и оба ханыги остолбенело замерли…
– Слышал?
– Этта… мадам де Сталь с Марией Стюарт переговариваются……ах как они вскоре похаркают кровью… все прогнило донизу… тихо думал Л.З. при последних шевелениях сознания, хотя звуки голосов продолжали его убаюкивать…
Живые люди еще поддали. Затем один из них сказал, обращаясь непосредственно к чувству долга:
– Рраз-двва… взяли…
– Ссама… пошшла… приглядывай за музыкальным инструментом… и, главное – т-с-с…
Носилки качнулись, поплыли, несомые живыми руками живых людей, и Л.З. объяла блаженная бездумность первых дней существования, когда он, убаюканный звучанием мира и человеческой жизни, проваливался в родную тьму Предвечного. Возвращаясь из нее от резких рывков, виражей, толчков и наклонов, чуял бок о бок с собою арфу, безвозмездно делившуюся с ним древесным теплом и неслышным присутствием вздремнувшего до поры до времени собрания Звуков. Л.З. был уже абсолютно бесполезен сам для себя и для покидаемой Вселенной… И от всей Вселенной послана была…
– Ма-о-ой ка-астер… вв ту-у-мане све-е-етит…
– Искры-ы-ы… га-а-аснут ны-ы-а-а ли-и-иту…
– Безобразие, понимаете… что это вы тут распелись, господа? Вы что…
– Ма-ал-чать, сукина вошь…
– Морг правительства канает… ссс… ге-а-а-гра… и ис-торррией.
– На-а-очью на-а-ас… а-а-а ни-и-икто ни-и-и встретит…
– А-а-а мы-ы-ы пра-астиммм-ся ны-ы-а-а ма-а-асту… ха-ха-ха-ха…
Л.З. трясло вместе с зашедшимися от хохота ханыгами. И он все хотел как-нибудь увернуться от черт знает откуда взявшегося мельтешения над ним трех отвратительно старых, мерзкогрудых, сухожопых фурий Октябрьской революции – Крупской… Стасовой… Землячки… Стасовой… Землячки… Крупской… зем… ста… кру… Они мельтешили над ним в клубах грязно-затхлого пара, вобравшего в себя все зловоние восстания черни против медленного произрастания жизни в благостном перегное Времен.
Они бешено хлестали друг друга колюче-железными метлами, пытаясь выпарить и выхлестать из себя впитанную светлую кровь всех убиенных невинных, но из них выпаривалась черная кровь, и капли черной, холодной крови набирались в проваливающиеся под портянкой, в проваливающиеся все глубже глазницы Л.З., пока не наполнили их до самых краев, так что ему было окончательно тошно попытаться приоткрыть смеженные черной кровью веки… Но это было еще не все…
Нам совершенно неведомо: кто уж в тот миг занимался сведением концов с концами во встрепенувшейся вдруг памяти Л.З., без всякой к тому же надежды на дохождение до отходящего безжалостного смысла этого сведения. Вполне возможно, произошло оно от предельно счастливой тоски бухого горлодерства двух отчаянных личностей…
– На-а пра-аащанье ша-а-а-ль с кы-ы-а-ай-мо-ою…
– Ты-ы ны-ы-а ми-и-не узлом сы-ы-а-тяни…
– Ка-а-к ка-ан-цы-ы ее с ты-а-бою…
– Мы-ы-а сха-а-дились вы-ы э-э-эти дни-и-и… Вполне возможно. Скорее всего – так оно и было… Л.З. привиделась мама… мамочка… старенькая… милая… седая… она тихо сказала: «Левочка… встань с другой ноги в жизнь… или
возьмись за мой ум и перевернись на другой бок… Партийная работа – это не цимес…»









































