Читать книгу "Перед бурей. Шнехоты. Путешествие в городок (сборник)"
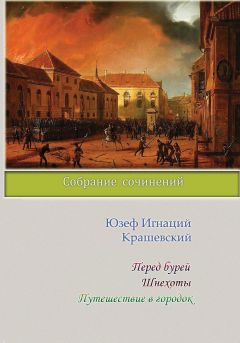
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Малуская, которая к тому, как она его называла, роману от души и сердца была благосклонна и рада была молодёжь сблизить друг с другом, несмотря на добродушие и простоту, поступила чрезвычайно ловко; сразу после того как разлила чай, пожаловавшись на голову, вышла. Для приличия, однако, снова перевязав голову платком, она стала прохаживаться по соседнему покою таким образом, что иногда показывалась в дверях. У молодых была полнейшая свобода для разговора и, однако, нежное око опекунши над ними издалека бдило и каждую минуту она сама могла появися, если бы в прихожей послышался Бреннер.
Мы уже вспоминали, в каких отношениях была молодёжь. В обоих пробудилась живая любовь, горячая, знающая, что победить не может, оба были убеждены, что чувство это должно быть взаимным, у обоих на устах было великое слово, решительное, и произнести его ещё не смели. Каликст уже понял Юлию.
Была ли она виноватой, что родилась дочкой того падшего так низко человека? Образование дало ей убеждения вполне иные, а те должны были быть искренними, быть подделанными так не могли. Каликст, одним словом, верил в неё, потому что её любил, а влюблен был так безумно, горячо, как в двадцать лет честное сердце влюблённым быть может.
В этот вечер всё складывалось дивно, даже до разговора. Сидели рядом. Тётка ходила вдалеке. Юлия была задумчивая, мечтающая. Играла в этот день много, а музыка оставляла после себя какую-то лёгкую горячку. Нервы её ещё дрожали, вибрировали, а звуки, женясь на родственных идеях, вызывали дивные мечы. Она забыла немного о настоящем, какой-то чарующий сон недавно ей снился перед глазами.
Осталась после него грусть и тоска.
– Ты только возвращаешься, – спросила она, – можно узнать, издалека?
– От старого приятеля моего отца… из Урсинова.
– От приятеля Костюшки также, – добавила Юлия. – Ведь так?
– Так точно, пани.
– Даже никогда не могла увидеть его вблизи, а так всегда желала, – говорила Юлия, – возвращаясь оттуда, ты бы должен быть весёлым и счастливым, а я вижу тучку на лице.
– На моём?
– Да, не отпирайся.
– Быть может, – сказал Каликст, – но вы, что упрекаете меня, не имеете права делать мне этого упрёка. Я действительно не принёс с собой большого расположения к веселью, но – не нашёл его также у вас.
– У меня?
– Вы его дня также грустны.
– Не грустная – замечтавшаяся.
– Чем?
– Может, музыкой… Музыка опьяняет как вино…
– Следовательно, должно бы развесилить, как оно…
– Всё же говорят, что есть люди, что, выпив, плачут.
– Быть может, – сказал Каликст, – такие никогда бы пить не должны.
– А я, поэтому, никогда не играю! – смеясь, отвечала Юлия.
– О, по крайней мере, когда я могу слышать, не зарекайтесь, пани, – живо воскликнул Каликст.
Они с грустью поглядели друг другу в глаза.
– Музыка, пани, имеет для меня такое очарование, – говорил он далее, – что, как вы сегодня могли убедиться, не могу противостоять. Услышав звук вашего фортепиано, я дерзко ломился в дверь, хотя час был неподходящим, может.
– Я часов, правда… не считаю, – отозвалась Юлия, – но знаю, что вам так рада сегодня, как всегда.
– А! Пани! Принять ли это за комплимет или за правду? Я был бы счастлив…
– Как хотите! – шепнула Юлия.
– Как хочу? – начал Каликст. – А! Пани! Мои желания достигают далеко, высоко, дерзко…
Снова их взгляды встретились и Юлия должна была опустить глаза. Каликст осторожно, несмело коснулся белой свисающей руки, которая ему не сопротивлялась, поднял её к устам и горячо поцеловал.
Тётя шпионила за дверями и с радостью подняла руки к небу.
– Могу ли я целиком исповедать свою душу? – говорил потихоньку Каликст. – Не будете гневаться на меня?
Ничего не отвечала Юлия – поглядела на него, долго задержала взгляд, сердце Каликста забилось и голова закружилась.
– Я вас люблю, панна Юлия! Я люблю вас всей силой сердца и души, страстно, безумно… Я не пан себе, я ваш невольник…
Юлия побледнела как мрамор, на её лице видно было ужасную борьбу; прежде чем ответила, глаза её наполнились слезами.
– Пане Каликст, – сказала она наконец с запалом и каким-то воодушевлённым героизмом, – пане Каликст, вы любили меня с первой встречи, я вас люблю с того времени, как мы взглянули друг другу в глаза…
Каликст хотел пасть ей в ноги, она задержала его приглушённым криком.
– Ради Бога, выслушай меня, прошу, умоляю. Подожди… Я в положении, в каком, может, никогда не находилась женщина. Гнушаюсь ложью, от обмана содрогаюсь… хочу, чобы ты знал, кого любишь. Может, узнав о том, оттолкнёшь меня и убежишь… Но предпочитаю быть несчастной, чем обманывать тебя… Знаешь, пан, мои фамильные отношения? Знаешь его? Знаешь отца моего?..
Говоря это, голос её задрожал и почти затих, она была близка к обмороку.
Каликст весь покраснел.
– Я всё знаю! – сказал он решительным и смелым голосом.
– И зная всё, ты мог любить меня? Смел? – воскликнула она, вскакивая с кресла в воодушевлении, забыв обо всём на свете.
У Каликста замерло на устах слово.
– Да…
Слёзы потекли из глаз Юлии, она снова упала на кресло, молча подала ему обе руки.
– Я твоя навеки, – сказала она сдавленным голосом. – Твоей буду или ничьей.
Каликст стоял перед ней на коленях, целуя её вытянутые руки, но затем вскочил, потому что тётка, которой казалось, что была тут нужна как свидетель, вошла в покой.
Юлия этим вовсе не смешалась.
– Тётя, – сказала она, поворачивая к ней голову, – он меня любит, я его люблю. Благослови…
Было что-то такое дивно смелое в этих словах Юлии, что тётка смешалась, сама не зная, что ответить. Пробормотала несколько слов, приступила к ним, расплакалась от великого счастья – и вышла в другой покой, оставляя их наедине. Они оба нуждались в длительной паузе, дабы остыть, Каликст целовал ей руки, Юлия вся дрожала.
– Дай мне говорить, не хочу уже иметь тайн от тебя, – начала она, – так, ты знал, кем был мой отец, но не знаешь, кем есть! Мои мольбы, просьбы смягчили его, обратили… Он рад бы избавиться от этого ярма, которое его теперь сжигает и угнетает… увы, как каждые кандалы, оно закрепляется на века. Кто знает, можно ли от него избавиться живым… Но отец мне поклялся, что вместо того чтобы вредить, охранять будет, что таким образом предостерегая, заслоняя, может искупить вину, если нагрешил. С того дня, когда я упала без сознания, узнав несчастную правду, мой отец стал новым человеком… Я, я, пане Каликст, если бы могла и умела вам пригодиться когда-нибудь на что-нибудь, – жизнь отдать готова!
Каликст был в восхищении. Теперь он чувствовал, был уверен в её невиновности, видел такую, какую себе представлял, и сверх всяких слов был счастлив! Чем его волновал её отец? Мог быть самим сатаной – тем не менее дочка была чудом, ангелом! А тот ангел его любил так, что не колебался открыть ему всё сердце.
Разговор теперь тёк горячим потоком. Ничего его не сдерживало, никакой страх, никакая форма. Было это как бы извержение лавы из вулкана, которая текла, уничтожая все преграды. Представим себе, что такое сближение двух сердец было первым в жизни обоих; что его сопровождало всё, что укрепляет чувство и поднимает его почти за границы людской природы. Часом назад ещё наполовину чужие друг другу, встревоженные, неуверенные, теперь сидели рука в руке, словно их небесная клятва соединила. Тётя Малуская, стоя в дверях, молилась и плакала. Счастьем, Бреннер, которого гнал и генерал Левицкий, и Юргашко, равно деятельные руководители, не мог в этот день вернуться пораньше; разговор, поэтому, который протянулся почти до полуночи, хотя обоим казалось, что едва был начат, не был прерван, пока не пробила половина двенадцатого. Испуганная Малуская пришла объявить о том, а так как предчувствовала нежное прощание, которому могла стать помехой, скоро ушла, так что Каликст, начиная от рук, окончил поцелуями на лбу, и убежал.
Вся эта сцена, настоящий сон наяву, теперь, когда после неё все остыли, выдалась им только чем была. Брошенной костью, что решала жизнь и судьбу. Всё это сталось порывисто, дивно, в восторге – но Юлия не жалела о своём поступке, была спокойной и счастливой. Тётя теперь показывалась неизмерно испуганной и искала спасения в молитве.
То, что случилось наверху, отразилось сразу внизу. Описывая каменицу, мы говорили, что в ней ни одни двери дома плотно не закрывались. Кухарка сквозь щели была свидетелем этой сцены. Слова не долетали до её ушей, но легко о них было догадаться. С уставленными глазами, бьющимся сердцем, иногда хватаясь за голову при виде близости двух молодых людей, кухарка, не дождавшись конца, не могла удержать в себе украденной тайны. Она стремглав побежала вниз, в ворота, где была уверена, что застанет Шевцову Ноинскую или на разговоре с Матусовой, или в споре с Арамовичевой, или на конференции с паном Дыгасом.
Она не ошиблась, Ноинская действительно хотела уже отойти от ворот и сеней, которые представляли обычный салон жителей каменицы, возвращаясь в свои пенаты, когда увидела сбегающую сверху служанку, едва набпросившую на голову и плечи старый платок. Ноинская поспешила ей навстречу.
– Пани мастерова благодетельница, ради Христовых ран, не выдавайте меня! Но что у нас произошло сегодня!
– Что же? Что же? Даю слово – не выдам… смилуйся… упаси Боже, что-нибудь плохое?
– Разве я знаю! – начала болтать кухарка. – Но послушайте-ка, пани мастерова! Как Агатка его туда ввела, так самовар остыл, а та глупая, как корова, неуклюжая, сама даже не поставит, прибегает ко мне. Я попрощалась с пани мастеровой и наверху сразу самовар закипел. Ну – это и конец, хочу зайти, смотрю, Агатки нет уже. Сбежала вниз, а я её знаю… или к Матусовой, или с тем негодяем Ёжком в углу романы крутит, из чего я ей от этого предрекаю когда-нибудь несчастье, потому что это негодяй из-под тёмной звезды. Я должна была остаться наверху, вдруг позовут или ещё что. Что было делать… Есть щель… с тыла, в двери, что хоть бы через неё не хотел смотреть, око лезет. Тогда смотрю… Ничего, сели так напротив друг друга, как подобало, а Малуская будто бы от головной боли – вроде это была правда – сразу оставила их одних. Но она так всегда. Но ничего… сидели так, разговаривая как обычно. Тот смеётся, та глаза опускает, тот молчит, та шутит. Смотрю, аж он за руку её берёт, несёт к устам и целует… Целует! Что тут говорить, целует – чуть не съел – а она ничего. Это уже был знак. Меня любопытство взяло, пошла к двери. Когда начали потом разговор… аж слышу такие голоса, что мне страшно сделалось. Мне казалось, что ссорились. Когда она начала плакать, он опустился на колени, она подала ему обе руки. Эхе! Это уж как со всеми. Объявился. Тётка входит и только руки вверх поднимает – а потом сразу назад в другую комнату, дабы им не мешать. Что потом за termedie[16]16
Сцены (лат.)
[Закрыть] были, я вам скажу, чисто театр! Как начнёт то за руки хватать, то отступать, то приближаться, а та плачет, тот, как свёкла закраснелся, то бледнеет… тут смех и радость и затем их как бы на пытки взяли. Та себе глаза закрывает, тот волосы разбрасывает, и по-прежнему лапают за руки друг друга, словно их страх брал, чтобы одно не убежало от другого. Я вам скажу, что, глядя на них, мне аж горячо сделалось. Только потом сели спокойней и давай тихо шептаться, и так близко, что почти головами ударялись. Гляжу, Малуская в дверях стоит, они ведут себя так, как бы её там не было. Заинтригованные, обезумевшие. Вот, что есть, вот что, – добавила кухарка. – Что же вы на это скажете, мастерова?
– А что же? Молодые люди, – сказала, вздыхая, Ноинская, – или женяться, на это их хватит, или… что я могу знать…
– Упаси Боже думать плохое! – сказала кухарка. – Панна очень степенная, раз любит, значит, любит. Что правда, то правда, что такая любовь редко, потому что тут у панов – взвешенная и измеренная, а они забылись как, с позволения, на деревне простой батрак и девка… Теперь только непонятно, что советнику расскажут.
– А я думаю, что он уже даст дочке свободу, потому что она его за нос водит, как сама хочет. Что задумает, то с ним делает.
Мастерова покрутила головой.
– Мне только любопытно, – добавила она, – что семья этого паныча скажет, потому что это чудаки, шляхта и военные люди, им там о дочке урядника и не болтать.
– Э, моя сударыня, – рассмеялась кухарка, – он сундук не откроет, а на стол положит, что имеет, будут иначе петь… Потому что неимущие.
Мастерова задумалась.
– Поженятся, как же им быть, – сказала она, – потому что как бы им не позволили, ну и….
– А! Упаси Иисус Христос, готовы лишить себя жизни… – отозвалась кухарка.
Более скептичная Ноинская шепнула:
– Или-или. Доброй ночи, сударыня.
– Доброй ночи.
* * *
Назавтра после того вечера с утра вышел пан Каликст в бюро. Ноинская, стоя в воротах, с фиглярной улыбкой поздоровалась с ним, глядя смело в глаза. Ей было интересно увидеть счастливого, он показался, как говорила позже: «как ни в чём не бывало!» Считала его великим ловкачом.
Ибо она заметила, что, вышедши из каменицы на улицу, поднял голову вверх, улыбнулся, снял шляпу и с кем-то поздоровался. «Уж ни с кем-то, – подумала она, – а только с ней, которая там уже его высматривала».
Бреннер, вернувшись поздно ночью, очень рано снова вышел из дома.
Каликст, хотя столовался на Новом Свете, обычно после обеда заходил домой, отдыхал немного и только оттуда возращался в бюро. Этого дня, однако не видели его дома. К вечеру, вероятно, готовилась его встретить Ноинская, но – что как-то выдалось всем весьма странным после вчерашнего – допоздна его не дождались кумушки. У мастеровой было подозрение, что за ним, пожалуй, не уследила, что уже, должно быть, на верху. Для выхода из неприятной неопределенности она шепнула мальчику, Фрицку, чтобы подкрался под дверь наверху и поглядел, в замке ли ключ. Для Фрицка это была игра. Он стремглав поднялся и как буря потом сбежал сверху, неся матери заверение, что в дырке ключа нет и что, в неё заглянув, увидел только пустую квартиру.
Кумушки сильно кивали головами. Кухарка говорила, что панна весь день ходила задумчивая и грустная; выглядывала в окна, садилась играть – не могла, ждала с чаем, а тётя посылала Агатку на верх посмотреть, нет ли пана Каликста…
Пана Каликста не было.
Любопытство Ноинской и кухарки было до наивысшей степени заострено.
«Что это? Что это может быть? – шептали они. – Потому что… а ну…»
Девять часов. Кумушки сидели на страже в воротах; что если увидят возвращающегося, кухарка дала бы знать наверху. Не пришёл он, однако. Уже упал полный сумрак и на ухо друг другу подавали самые особенные комментарии, делая разнобразные замечания, когда двое мужчин, за которыми сразу проследовал третий, в плащах, с какими-то официальными минами, появились в воротах, оглядели сидящих там, о чём-то пошептались, и один из них, будто у себя дома, никого ни о чём не спрашивая, шибким шагом прошёл внутрь к Дыгасу.
Ноинская, хоть вроде бы не присматривалась, видела, как он вошёл в избу сторожа, провёл там несколько минут и вышел с ним вместе. Дыгас alias[17]17
Иначе (лат.)
[Закрыть] пан Ласанты, который по отношению к чужим всегда принимал физиономию человека независимого, потому что в каменице, сказать правду, он управлял и пановал, и поэтому должны были его уважать, Дыгас, выходя с этой незнакомой фигурой, принял такую покорную мину, что почти казался устрашённым. Шёл с опущенной головой, как на казнь. Оба не говорили друг другу ни слова. В сенях также царило молчание. Арамович, который вышел с трубкой во рту из своей комнаты, поглядел только на стоящих в воротах и, взяв трубку в горсть, спрятал в карман. Только теперь Ноинская догадалась, что прибывшие господа будто бы принадлежали к полиции. Панический страх охватил всех. Арамович, как быстро выскользнул, так ещё быстрей назад в свою квартиру спрятался. Мальчики, инстинктом чувствуя какую-то угрозу, скрылись по углам. Мастерова с кухаркой из любопытства честно удержали позицию, но позже признавались, что и по ним мурашки бегали.
Как только подошёл с Дыгасом тот третий к двум, ожидающим в воротах, пропустив сторожа вперёд, в молчании начали подниматься по лестнице. Кухарка, не смея идти за ними, продвинулась только на такой наблюдательный пост, чтобы могла видеть, идут ли на первый этаж или наверх. Миновали сначала первый и пошли дальше.
Глухая тишина господствовала в каменице, снизу было только слышно, как Дыгас своим ключом открывал квартиру пана Каликста.
Слыша это, кухарка сбежала к мастеровой, сжала ей сильно руку, подняла кверху голову, а сама поспешила на кухню. Не подобало ей выступать ни с каким слухом, но, вздыхая и показывая, начала прохаживаться по кухонке, а так как там был покой пани Малуской, выпроводила её из него.
Тётя вышла к ней посмотреть, что делается; из выражения лица служанки она поняла, что что-то случилось, о чём бы имела охоту поведать, если бы её спросили. Стояла перед ней. Кухарка покивала головой и пальцем указала наверх.
– Что? – спросила Малуская.
Та наклонилась к её уху.
– Полиция – трое…
– Где?
– У пана Каликста наверху…
– А он?
– Нет его.
– А как же вошли?
– Велели Дыгасу открыть.
Малуская заломила руки. Живая и любопытная служанка тут же, исполнив, что ей хотелось, выбежала для дальнейшего наблюдения.
Остановилась тут сразу внизу под лестницей, ведущей на верх, но в эти минуты пришло ей на ум, что бельё у неё висело на чердаке подле горки, поэтому схватила карзину, дабы иметь предлог, и, хотя бельё было ещё мокрое, тихонько взабралась на верх. Думала, что у двери найдёт Дыгаса, но тот, видно, был внутри. По дороге она немного задержалась перед дверью, прислушиваясь.
Никаких, однако, голосов внутри слышно не было, только отчётливо был слышен стук словно отворяемых шкафов и шелест доставаемых бумаг. Долго оставаться на этом месте было опасно, припомнила кухарка, что рядом на чердаке была тёмненькая стена, отделяющая его от помещения под чердаком, а в стене сверху щель, перед которой однажды застала Агатку, стоящую на перевёрнутом ушате и подсматривающую за неприличными делами пана Каликста, потому что это была девушка любопытная, «как живое серебро», согласну выражению кухарки, которая ей предрекала, что ничего хорошо не вырастет.
Тем временем она сама решила использовать средства, за которые хорошо дала в шею Агатке, и втиснулась в помещение рядом с чердаком, где, найдя старое ушато, с бьющимся сердцем приложила глаза к щели. Несмотря на то, что не было ещё очень темно, свечи стояли на столике зажжёнными; видны были разбросанные по столикам и канапе книги, бумаги, вещи. Те два молчащих господина крутились по жилищу Третий стоял с Дыгасом у дверей. Дыгас, понурый, с опущенной головой, стоял, как виновник, у порога, несомненно, думая, как эта какая-то несчастная история навредит хорошей репутации всей каменицы.
Два господина, хозяйничающие не у себя, были чрезмерно деятельны, вспарывали стулья, раздирали канапе, пробовали полы, заглядывали за печь, в печь, осматривали балки потолка, трогали внизу столики, словом, казалось, чего-то искали, чего найти не могли. Один из них даже вспарывал одежду, думая, что в ней наткнётся на что-нибудь зашитое. Кучка бумаг и немного книжек уже были отложены в сторону. С неизмерным мастерством и ловкостью прибывшие гости систематично досматривали инвентарь всего жилища. Закрытые ящики открыли отмычками, третий из которых, стоящий у двери, был наготове, что привлекло к нему косой взгляд Дыгаса – счастьем, никем не замеченный. Сосчитали немного найденных денег, начали связывать письма и бумаги, а ещё один деловито обходил самые маленькие закутки со свечой. Заглянули в печь, где были потрёпанные бумаги и записки, и те из неё вытащили, словом, почти не было мышиной норы, в которую бы не заглянул кто-нибудь из господ.
Потом зажгли сигары и между собой начали о чём-то живо говорить, собирать corpora delicti[18]18
Вещественные доказательства (лат.)
[Закрыть] но кухарка не могла расслышать ни слова.
Поручили потом Дыгасу, чтобы о том, что случилось, сохранял молчание под самой суровым наказанием.
– Прошу ясно панов, – отозвался сторож печально, – что мне там говорить, а не утаится, что паны тут были и искали. Внизу стояли люди, тут языков достаточно.
– Пусть держат их за зубами, – воскликнул один, с бакенбардами полумесяцем, – потому что… будет плохо. – И погрозил на носу.
Дыгас уже смолчал.
– Сказать им, чтобы не разболтали, а нет, то их проводят туда, откуда нескоро вернуться, понимаешь…
Не из чего было с ним разговаривать и объяснять, Дыгас вытер рот и замолк.
Только когда начали собирать книжки и бумаги, Дыгас видел, как один положил в карман деньги, другой, взяв на стене часы, спрятал, поглядели и рассмеялись между собой, словно говорили друг другу: «Когда его освободят, если до этого дойдёт, деньги и часы не будут уже в его голове».
Связали бумаги в скатерти, снятой со столика, на два толстых узла, пачку один взял под плащ и стали уходить. Одну свечу погасили, другую дали Дыгасу.
Уже собирались выходить, когда кухарка, предупреждая их выход, тихо выкралась из чердака, забыв карзинку для белья, вбежала в кухню и упала на стульчик, сильно дыша, едва живая.
На треск дверей прибежала Малуская – хотела узнать, что произошло, но кухарка от страха и волнения не скоро восстановила речь. Посыпались потом слова, прерываемые хватанием за голову и грудь, Малуская только могла понять, что у пана Каликста в его отсутствие была ревизия. С этого нужно было догадываться, что или юноша ушёл и скрылся, чувствуя себя виноватым, или его уже арестовали.
Бедная тётка хотя вовсе не была в то посвящена, что делал Бреннер и чем занимался, заломила руки, не зная сама, объявлять ли о том Юлии, или нет. Предчувствовала, какое ужасное впечатление произведёт на неё эта новость, хоть и не догадывалась о всех её последствиях и продолжении.
Юлия уже и так целый день ходила, всё больше к вечеру будучи разгорячённой и беспокойной. Приход и уход тётки, какое-то перешёптывания с кухаркой пробудили в ней подозрения. Что тут было предпринять?
Малуская была ещё на кухне, когда отсюда отчётливо услышали стук закрываемой двери – потом прошла ещё минута (как оказалось позже, её опечатывали) и на лестнице послышались шаги. Четверо нежданных гостей сходило вниз. В каменице, где уже разошлась весть о полиции, было тихо, как мак сеял. Ёзек, который имел не вполне чистую совесть, спрятался наверху, над магазином Арамовича, и притих. Одна Ноинская, немного осмелев и не в состоянии сопротивляться врождённому любопытству, стояла в воротах, детей заперев в комнате. Фрицек и остальное её потомство награждало себя, сидя в окне с приплюснутыми о стекло носами.
Полиция торжественно прошла ворота, предшествуемая Дыгасом. Молчание продолжалось ещё, может, пока она не ушла на добрую стаю, а тут все двери одновременно с треском открылись и как буря высыпались дети и старшие в ворота. Арамович со всем двором, ноинчики, сам хромой даже, первый челядник, Матусова, Агатка. С чердака выбрался сорванец Ёзек.
Все, как ошалелые, напали на Дыгаса, который стоял неподвижный, как скала. Ноинская хотела первая его спросить, когда, прерывая её едва начатую речь, пан Ласанты зазвенел ключами.
– Есть приказание, – сказал он, – чтобы об этом никакой болтовни не было, а кто болтать будет, пойдёт туда! – драматичным движением он указал на город и, не вдаваясь ни в какие дальнейшие выслушивания дела, полный достоинства и важности, отступил в своё жилище.
Всё это шумное население каменички онемело – поглядывали друг на друга; Ноинская, которая была патриоткой, пожала плечами таким революционным образом, что Арамович испугался, впихнул жену назад в дом, подмигнул челяди и тут же удалился.
Ноинская осталась в воротах, сильно взволнованная. Традиции достойного Килинского были в мастерской пана мастера до сих пор живы. Тут, если не конспирировали, по крайней мере все до последнего холопа показывали русским фигу, а, закрываясь рукой, языки.
Сдержанность Ноинской имела и ту цель, что ожидала всё-таки, что кухарка зайдёт к ней, а та с первого этажа могла иметь более подробные новости, чем они снизу, о том, что делалось на верху. Спрашивать Дыгаса, хотя бы с помощью побуждающих средств, какими могла быть рюмочка водки, было напрасным. Дыгас, как верховный владыка каменицы, чувствовал себя почти урядником и не мог выдавать тайн должности. После долгого и напрасного ожидания Ноинская, ковыляя, проскользнула к Дыгасу, пробовала его исповедать, но он прикрикнул:
– Что? Что? Ещё бы… не знаю ничего… отцепитесь от меня. Не видел, не знаю.
Этим словам его научило общение с русскими.
Ноинская, выходя, только хлопнула дверью, аж стёкла закачались. Тем временем подошла ночь.
Кухарка вниз ещё сойти не могла, только Агатка, которая ни о чём не знала, прилетела с новостью, что на двери пана Каликста был кусочек ткани и две печати.
Дыгас закрыл ворота, в каменице была тишина, Бреннера в течении всего дня никто не видел, но его с закрытием ворот не ждали, потому что у него был свой ключ от дверки.
Кто бы видел Ноинского вечером, погружённого в мысли и грустного, должен был бы признать его нетипичным потомком Килинского. Достойный сапожник не говорил ничего, но вздыхал, как мех, и ругался потихоньку. Жена ещё не могла лечь спать, язык свербил, а когда начинала что-то говорить, муж ей тут же наказывал молчание.
У Арамовичей было ещё хуже, потому что там пускать пары мастер запрещал. Был трус каких мало.
Дыгас, внутренности души которого никто не изучал, замкнутый в себе, сжимал кулак, но незаметно что-то бурчал, так, что никто не слышал.
Матусова, вернувшись из лавки, сперва имела, как обычно, дело «с тем бестией», как его называла, Ёзком, который шлялся весь Божий день, от которого пахло водкой, и который вдобавок Агатку преследовал. Но та вроде бы этому преследованию сама себя подставляла… Несчастная мать, может, угостила бы сына по-своему по спине, потому что кулак имела сильный – но Ёзек учинил стратегическую диверсию и сразу ей рассказал, что произошло в каменице. Матусова также принадлежала к патриоткам, поэтому с интересом и возмущением выслушала повести и разочаровалась в полиции, а мудрый Ёзек спас спину. Вышла Матусова, не удовольствуясь тем, что слышала от сына, к Дыгасу, тот говорить с ней не хотел, а Ноинская рукой начала трясти и наказывать молчание.
– Дорогая моя, – шепнула она, – упаси Боже говорить, они нас тут всех готовы забрать в ратушу и в старый зухтхауз. Пусть их там…
– А пусть их… шеи скрутят… псы…
Словарь крепких слов Матусова, как торговка, имела обильный, красочный и выразительный; высыпала, что могла, и снова вернулась в дом, где Ёзек уже курил трубку, качаясь на старом стуле.
Ноинская, сколько бы раз слишком долго не просиживала в воротах, у неё всегда потом болели зубы; этой ночью, несмотря на приём капель пани Малуской, она спать не могла. Она слышала, как хорошо в полночь открылась калитка, она легко догадалась, что возвращался Бреннер, потом шаги на лестнице дошли до её любопытных ушей, открывание дверей, и наверху что-то произошло, чего не могла хорошо понять.
Поскольку в старой каменичке сквозь потолки всё было слышно, Ноинская отчётливо разобрала наверху бегание, потом ей казалось, что слышала возвышенные голоса, крик, плач и стук, и снова открывание, закрывание, какое-то чрезвычайное беспокойство.
Это продолжалось почти до утра.
С нетерпением ожидала мастерова, чтобы наступил день и с верху сошла кухарка за булками к пекарю, потому что не могло быть, чтобы хотя бы на одну минуточку не зашла к ней и не объяснила, что там наверху ночью делалось. А что делалось что-то чрезвычайное, на это мастерова поклялась бы.
Немного подкрепившись сном, Ноинская заранее слезла с кровати, подслушивая, не отворяются ли наверху двери. Как-то около семи она действительно узнала шаги кухарки, которая обычно ходила живо, но теперь тащилась в стоптанных тревичках нога за ногой, точно её целый мир и все слухи света стали неинтересными. Ноинская отворила дверь в воротах вовремя, встретились глаза в глаза.
Кухарка была грустная как ночь, закрытая огромным платком, шла мрачная, не показывая даже ни малейшей охоты к беседе.
– А что там у вас? – спросила Ноинская. – Что ночью так страшно ходили и болтали?
Кухарка покивала головой.
– Что? Моя пани мастерова, я уж не могу, не знаю, что говорить. Панна лежит, словно труп, больная, отец не ложился спать, ходит как безумный, Малуская стоит на коленях перед Богородицей, зажгла свет, рыдает и молится. Всё из-за того несчастья, что встретило пана Каликста.
– Но что же его встретило? Разве не знаете? Уж не преступление совершил?
– Прошу вас, кто может знать в наше время, что делается. Достаточно, что Безносый приказал его взять. А кого они возьмут, тому нескоро день увидеть. Я слушала за дверью, как отец разговаривал с панной – это не понять. Всё клялся Богом и святыми угодниками, что он невиновен – а панна Юлия на пол падала, а он её поднимал. Страх брал смотреть, потому что хотела из окна броситься, пока отец не схватил её и не встал перед ней на колени, и начал молить и просить, что он будет это стараться исправить… Разве я знаю, дорогая мастерова, человек как в роге. Жизнь замерла – ничего неизвестно, а только слышно, как стонут и плачут…
Они ещё между собой разговаривали, когда услышали на лестнице энергичную походку, они сразу замолчали, потому что тут же сошёл Бреннер, шапка натянута на глаза, как с креста снятый, ничего не видя, не глядя, добежал до ворот и исчез. Женщины посмотрели за ним, покивали головами – и кухарка пошла за булками, а Ноинская, разбирая, что слышала, вернулась в лоно семьи, потому что Фрицек уже колотил сестричку и ужасное рыдание слышалось у сапожника, а она была в страхе, как бы отец, пан Ноинский, не отмерил на сыне ремнём правосудие, поскольку имел ту плохую привычку, что Фриска немилосердно хлестал. Мать беднягу защищала, потому что был мальчиком больших надежд. Езек не давался, а ловкости имел больше чем роста.
Оставшаяся часть дня внизу каменицы прошла довольно нормально. Полиция уже не показывалась. Почти все ходили на верх смотреть печати на двери. Только Арамович не хотел таким любопытством компромитировать себя в отношении к правительству и даже челядника не пустил.
– Что ты туда нос будешь совать? Зачем? Что увидишь? Печати? Ну, что тогда? Потом готовы следствие вести, если их кто нарушит, в тюрьму посадят на хлеб и воду Посмотрите на него! Любопытство – первая ступень к аду.
Ноинская могла себе позволить взглянуть, потому что у неё было на чердаке висящее бельё, хоть подходящее ей место было на дворе, – кухарка довела её до самых дверей.
Обе печати были с орлами. С одной только немного лак сполз. Они плотно закрывали отверстие для ключа, но сквозь щели был виден беспорядок в квартире – и следы прихода «нечистой силы». Судьба несчастного Каликста пробуждала общее сострадание, Агатка аж плакала над ним.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























