Текст книги "Стена"
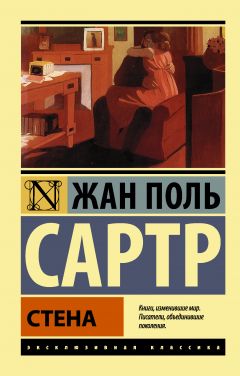
Автор книги: Жан-Поль Сартр
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Ты ошибаешься, – сказала она с усилием, – я хорошо знаю, что Пьер…
Ева осеклась. Держалась она очень прямо, положив руки на спинку кресла: снизу лицо ее казалось сухим и неприятным.
– А что дальше? – изумился месье Дарбеда.
– Дальше?
– Ты…
– Я его люблю таким, какой он есть, – раздраженно отрубила Ева.
– Но это неправда! – выкрикнул месье Дарбеда. – Это неправда: ты не любишь его, ты не можешь его любить! Такие чувства можно испытывать только к человеку здоровому и нормальному. К Пьеру ты испытываешь сострадание – я в этом не сомневаюсь, и, конечно, ты хранишь память о трех годах счастья, которыми ты ему обязана. Но не говори мне, что ты его любишь, все равно я тебе не поверю.
Ева продолжала молчать и с отсутствующим видом глядеть на ковер.
– Ты могла бы мне ответить, – холодно проронил месье Дарбеда. – Не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя.
– Но ты же мне не веришь.
– Ну хорошо, если ты его любишь, – в отчаянии воскликнул он, – это огромное несчастье и для тебя, и для меня, и для твоей бедной матери! Сейчас я скажу тебе то, что я предпочел бы скрыть: менее чем через три года Пьер впадет в состояние полного идиотизма, он будет как животное.
Месье Дарбеда сурово посмотрел на дочь: он сердился на нее за то, что она вынудила его своим упрямством сделать такое мучительное признание.
– Знаю. – Ева не моргнула, она даже не подняла глаз.
– Кто тебе это сказал? – ошеломленно спросил он.
– Франшо. Уже семь месяцев, как я знаю.
– А я-то рекомендовал ему пощадить тебя, – сказал он с горечью. – Но, в конце концов, может, так и лучше. Теперь-то ты должна понять, что было бы непростительно и дальше держать его дома. Борьба, которую ты ведешь, обречена на провал, его болезнь неизлечима. Если бы можно было что-то сделать, если бы его можно было спасти с помощью ухода, я не стал бы этому противиться. Но подумай сама: ведь ты красива, умна, жизнерадостна, а губишь себя упрямо и бесполезно. Ладно, допустим, ты достойна восхищения, но вот все кончено, ты выполнила свой долг, больше, чем долг, и теперь просто нелепо упорствовать. Ведь есть долг и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. Нужно, – повторил он, чеканя слова, – чтобы ты отправила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где была так несчастна, и вернешься к нам. Если у тебя есть желание быть полезной и облегчать чужие страдания, то у тебя есть мать. За бедной женщиной ухаживают сиделки, и она очень нуждается в заботе. А уж она сможет оценить то, что ты для нее сделаешь, и будет тебе за это бесконечно благодарна.
Наступило долгое молчание. Месье Дарбеда услышал пение Пьера в соседней комнате. Вообще-то это едва ли можно было назвать пением; скорее нечто вроде речитатива, пронзительного и торопливого. Месье Дарбеда поднял глаза на дочь:
– Ну как?
– Пьер останется здесь, – тихо ответила она, – мы хорошо понимаем друг друга.
– И вы будете предаваться своим каждодневным утехам?
Ева бросила на отца странный взгляд, насмешливый и почти веселый. «Значит, это правда, – подумал месье Дарбеда с яростью, – они только этим и занимаются! Они спят вместе!»
– Ты совершенно безумна, – сказал он, вставая.
Ева грустно улыбнулась и прошептала как бы для себя:
– Не совсем.
– Не совсем? Я могу тебе сказать только одно, дитя мое, ты меня пугаешь.
Он поцеловал ее и вышел. «Нужно было, – подумал он, спускаясь по лестнице, – послать сюда двоих здоровенных парней, которые силой увели бы этого бедного кретина и поставили бы его под душ, не спрашивая ни у кого согласия».
Был прекрасный осенний день, прозрачный и безмятежный, солнце золотило лица прохожих. Месье Дарбеда был поражен простотой и открытостью этих лиц; одни были обветренные, другие гладкие, но все они отражали бесхитростную радость и обыденные заботы. «Я точно знаю, в чем упрекаю Еву, – подумал он, выходя на бульвар Сен-Жермен. – Я ее упрекаю в том, что она живет вне всего человеческого. Ведь Пьер больше не человеческое существо: все заботы, всю любовь, которую она ему дает, она отнимает по крупицам у всех этих людей. Никто не имеет права отказываться от себе подобных, черт подери, все мы живем в одном мире».
Он рассматривал прохожих с симпатией; ему нравились их глаза, то серьезные, то лучезарные. На этих освещенных солнцем улицах, среди людей, чувствуешь себя в безопасности, как среди большой семьи.
Какая-то женщина с непокрытой головой остановилась перед витриной. За руку она держала маленькую девочку.
– Что это? – спросила девочка, показывая на радиоприемник.
– Это такой аппарат, – ответила мать, – он делает музыку.
Они немного постояли в молчаливом благоговении. Растроганный, месье Дарбеда нагнулся к девочке и улыбнулся ей.
II
«Он ушел». Входная дверь закрылась с сухим стуком. Ева осталась в гостиной одна. «Хоть бы он умер».
Она судорожно впилась руками в спинку кресла: вспомнила глаза отца. Месье Дарбеда склонился над Пьером с понимающим видом; он ему сказал: «Это хорошо!» Он на него посмотрел, как человек, умеющий говорить с больными, и Пьер отразился в глубине его больших живых глаз. «Я его ненавижу, когда он смотрит на Пьера, когда думаю, что он его видит».
Руки Евы соскользнули вдоль кресла, она повернулась к окну. Ее ослепило. Комната наполнилась солнцем, оно было везде: бледные пятна на ковре, сверкающая в воздухе пыль. Ева давно уже отвыкла от этого наглого проворного света, который шарил повсюду, проникал во все углы, очищая мебель, делая ее сияющей, как это делает хорошая хозяйка. Она подошла к окну и подняла муслиновую штору против стекла. В то же самое мгновение месье Дарбеда выходил из дома; Ева про себя отметила его широкие плечи. Он поднял голову и посмотрел на небо, моргая глазами, затем зашагал крупными шагами, как молодой человек. «Он делает над собой усилие, – подумала Ева, – сейчас у него заколет в боку». Она его больше не ненавидела: в этой голове было так мало содержимого, всего лишь малюсенькая забота казаться молодым.
Но гнев овладел ею снова, когда она увидела, что он повернул на углу бульвара Сен-Жермен и исчез. «Он сейчас думает о Пьере». Небольшая часть их жизни выскользнула из закрытой комнаты и волочилась по солнечным улицам, среди людей. «Ну разве нельзя, чтобы нас наконец забыли?»
Улица Бак была почти пустынной. Старая дама мелкими шажками переходила мостовую; прошли смеясь три девушки. А потом мужчины, мужчины сильные и серьезные, несущие свои портфели и разговаривающие между собой. «Нормальные люди», – подумала Ева, удивившись, что она обнаружила в себе такую силу ненависти. Миловидная толстушка побежала навстречу элегантному мужчине. Она обняла его и поцеловала в губы. Ева зло засмеялась и опустила штору.
Пьер больше не пел, но молодая женщина со второго этажа села за пианино: она играла этюд Шопена. Ева понемногу успокоилась: она шагнула по направлению к комнате Пьера, но тотчас же остановилась и с некоторой тревогой прислонилась к стене: как всегда, когда она покидала комнату, ее охватывала паника при мысли, что ей нужно туда вернуться. Однако она знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила эту комнату. С холодным любопытством оглядела она, чтобы выиграть время, это помещение без теней и запаха: она ждала, когда к ней вернется мужество. «Можно подумать, что это кабинет дантиста». Кресла из розового шелка, диван, табуретки были строги, скромны и выглядели как-то по-родственному: добрые друзья человека. Ева представила, как некие серьезные господа в светлых костюмах, похожие на тех, что она видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они даже не тратят времени, чтобы осмотреться; уверенными шагами они приближаются к середине комнаты; один из них, державший руку сзади, как кильватер, прикасается при проходе к диванным подушкам, к предметам на столах, даже не вздрагивая при прикосновении к ним. Когда на пути встречается какая-либо мебель, эти степенные люди не дают себе труда обогнуть ее, а спокойно ее передвигают. Наконец они рассаживаются, все еще погруженные в свою беседу. «Гостиная для нормальных людей», – подумала Ева. Она уставилась на круглую ручку закрытой комнаты, и тревога снова стиснула ей горло: «Нужно вернуться туда. Я никогда не оставляла его одного так долго». Нужно открыть эту дверь, затем она остановится на пороге, пытаясь приучить глаза к полумраку, и комната будет выталкивать ее изо всех сил. Необходимо преодолеть это сопротивление и углубиться в самое сердце комнаты. Внезапно Еву охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей хотелось посмеяться с ним над месье Дарбеда. Но Пьеру она была не нужна; она не могла предвидеть прием, который он ей уготовил. Внезапно с некоторой гордостью она подумала, что для нее не было больше места нигде. «Нормальные думают, что я одна из них. Но я не смогла бы оставаться с ними и часа. Мне необходимо жить там, по другую сторону стены. Но там меня не хотят тоже».
Все вокруг нее разом изменилось. Свет как бы постарел, он стал серым: потяжелел, как застоявшаяся вода в цветочной вазе. В этом постарелом свете Ева снова почувствовала меланхолию, о которой она уже давно забыла: меланхолию осеннего послеполудня на исходе. Она посмотрела вокруг, нерешительная, почти робкая: все прочее осталось так далеко. В комнате не было ни дня, ни ночи, ни времени года, ни меланхолии. Она смутно припомнила очень давние осени, осени своего детства, затем внезапно напряглась: она боялась воспоминаний. Тут она услышала голос Пьера:
– Агата, где ты?
– Иду, – отозвалась она.
Потом открыла дверь и вошла в комнату.
Пока она таращила глаза и простирала руки, густой запах ладана заполнил ее ноздри и рот – запах и полумрак были для нее уже давно одной стихией, едкой, поглощающей шум, такой же простой и привычной, как вода, воздух или огонь. Она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, парило в тумане. Это было лицо Пьера (с самого начала своей болезни он одевался во все черное), одежда его сливалась с темнотой. Пьер откинул голову назад и прикрыл глаза. Он был красив. Ева посмотрела на его длинные загнутые ресницы, затем присела рядом с ним на низкий стульчик. «У него страдающий вид», – подумала она. Мало-помалу ее глаза привыкали к полумраку. Первым всплыл письменный стол, потом кровать, затем его вещи: ножницы, пузырек с клеем, книги, гербарий, лежащие рядом на кресле.
– Агата?
Пьер открыл глаза и с улыбкой взглянул на нее.
– Насчет вилки, – сказал он. – Я это сделал, чтобы испугать того типа. В ней почти ничего не было.
Опасения Евы улетучились, и она легко засмеялась.
– Тебе это очень хорошо удалось, – сказала она, – ты его ошеломил.
Пьер улыбнулся.
– Ты видела? Он ее какое-то время вертел, зажав в кулаке. Они не умеют брать вещи, они всегда сжимают их в кулаке.
– Это верно, – согласилась она.
Пьер слегка ударил ладонь левой руки указательным пальцем правой.
– Вот этим они их берут. Они приближают свои пальцы, и когда они хватают предмет, то зажимают в ладони, чтобы его убить. – Он говорил быстро, кончиками губ, вид у него был озадаченный. – Я спрашиваю себя, чего они хотят, – сказал он наконец. – Этот тип уже приходил. Почему его снова ко мне подослали? Если они хотят знать, что я делаю, они могут увидеть это на экране, им даже не нужно никуда идти. Они совершают ошибки. Я же не ошибаюсь, это мой главный козырь. Оффка, – сказал он, – оффка, – длинными своими руками он пошевелил у лба. – Сволочь! Оффка, паффка, суффка. Хочешь еще?
– Это колокол? – спросила Ева.
– Да. Он ушел? – продолжал Пьер сурово. – Этот тип их сподручный. Ты его знаешь, ты ходила с ним в гостиную.
Ева не ответила.
– Что ему надо? – спросил Пьер. – Он должен был тебе это сказать.
Она на мгновение заколебалась, затем ответила без обиняков:
– Он хочет, чтобы тебя заперли.
Когда Пьеру говорили правду спокойно, он не верил, нужно было ее выпалить разом, чтобы оглушить его и парализовать сомнения. Ева предпочитала вранью грубую прямоту: когда она ему врала и он вроде бы ей верил, Ева не могла удержаться от легкого ощущения превосходства, а потом сама себе ужасалась.
– Меня запереть! – иронически процедил он. – Да они рехнулись. Стены передо мной бессильны. А эти болваны думают, что стены меня остановят. Мне кажется, что есть все-таки две банды. Банда негра – основная, но есть еще банда самозванцев, которая пытается вмешиваться в игру, но совершает ошибку за ошибкой. – Он вздернул руку на ручку кресла и стал ее разглядывать. – Стены я пройду легко. Что ты ему ответила? – спросил он с любопытством.
– Что тебя не запрут.
Он пожал плечами.
– Не нужно было этого говорить. Ты тоже совершила ошибку, хоть и невольную. Нужно их вынудить открыть свои карты.
Он замолчал. Ева грустно опустила голову. «“Они их сжимают в кулаке!” Каким презрительным тоном он это сказал, и как это было справедливо. Я тоже сжимаю предметы в кулаке? Напрасно я стараюсь за собой следить, по-моему, большинство моих жестов его раздражает, только он этого не говорит». Ева снова почувствовала себя жалкой, как тогда, когда ей было четырнадцать лет и мадам Дарбеда, легкая и подвижная, говорила ей: «Неужели ты не знаешь, что делать со своими руками?» Она не осмеливалась пошевельнуться, но именно в этот момент у нее возникло неодолимое желание сменить позу. Ева незаметно убрала ноги под стул, едва коснувшись ковра. Она взглянула на настольную лампу, цоколь которой Пьер покрасил в черный цвет, и на шахматы. Пьер оставил на доске только черные пешки. Иногда он вставал, подходил к столу, брал по одной пешке в руки. Он с ними разговаривал, называл их роботами, и, казалось, они понемногу оживали в его пальцах. Когда он их клал на место, Ева тоже их трогала (она понимала, что в эту минуту малость смешна): пешки снова становились маленькими фигурками из мертвого дерева, но в них оставалось что-то неопределенное и неуловимое – нечто живое, одухотворенное. «Это его предметы, – подумала она. – Моего в этой комнате ничего нет». Некогда у нее была какая-то мебель: зеркало, маленький трельяж с инкрустацией, перешедший к ней от бабушки. Пьер в шутку называл его «твой трельяж». Но теперь Пьер их присвоил: только ему одному открывали они сокровенную свою суть. Ева могла их рассматривать часами: они проявляли злобное и обескураживающее упрямство, обнаруживая свою видимость – доктору Франшо и месье Дарбеда. «Однако, – подумала она с волнением, – все же я вижу их не так, как отец. Невозможно, чтобы я их видела такими, как видит он».
Она немного пошевелила коленями: отсидела ноги. Тело ее было напряжено, сковано и причиняло ей боль; она ощущала его слишком живым и бесстыдным: «Я хотела бы быть невидимой и оставаться здесь; видеть его, но чтобы он меня не видел. Я ему не нужна; я лишняя в этой комнате». Она слегка повернула голову и посмотрела на стену поверх Пьера. На стене были написаны какие-то зловещие слова. Ева это знала, но не могла их прочесть. Она часто смотрела на большие красные розы на обоях, пока они не начинали плясать в ее глазах. Сейчас в полумраке розы пылали. Угрожающие письмена чаще всего были начертаны около потолка, слева над кроватью, но иногда они перемещались.
«Мне нужно встать, но я не могу и не могу сидеть дольше». На стене были также белые диски, похожие на ломтики лука. Диски вращались вокруг своей оси, и руки Евы начали дрожать. «Бывают моменты, когда я схожу с ума. Но нет, – подумала она с горечью, – я не могу сойти с ума. Это я просто нервничаю».
Вдруг она ощутила на своей руке руку Пьера.
– Агата, – с нежностью сказал он. Пьер улыбался, но держал ее руку кончиками пальцев с видимым отвращением, как если бы он взял за спинку краба и опасался его клешней. – Агата, – повторил он, – я так хотел бы тебе доверять.
Ева закрыла глаза и выдохнула. «Не нужно ничего отвечать, его недоверие возрастает, и он больше ничего мне не скажет».
Пьер отпустил ее руку.
– Я тебя люблю, Агата, – сказал он, – но не могу тебя понять. Почему ты все время в комнате? – Ева не ответила. – Скажи мне почему?
– Ты хорошо знаешь, что я тебя люблю, – ответила она сухо.
– Не верю, – сказал Пьер, – почему ты меня любишь? Я должен внушать тебе ужас: ведь я безумец. – Он улыбнулся, но вдруг стал серьезен. – Между тобой и мной стена. Я вижу тебя, я с тобой говорю, но ты по другую сторону. Что нам мешает любить друг друга? Мне кажется, что раньше все было проще. Например, в Гамбурге.
– Да, – сказала Ева грустно. «Все время Гамбург. Никогда он не говорит об их действительном прошлом». Ни Ева, ни он в Гамбурге не бывали.
– Мы гуляли вдоль каналов. Помнишь баржу? Черную баржу с собакой? – Пьер продолжал фантазировать. У него было странное выражение лица. – Я тебя держал за руку, но у тебя была тогда другая кожа. Я верил всему, что ты мне говорила. Молчать! – вдруг завопил он. Какое-то мгновение он прислушивался. – Сейчас они придут, – сказал он угрюмо.
Ева вздрогнула.
– Сейчас они придут? Я думала, они никогда больше не придут.
Уже три дня, как Пьер был спокоен: статуи не появлялись. Пьер испытывал ужасный страх перед ними, и когда они начинали с жужжанием летать по комнате, Ева опасалась худшего.
– Дай мне зиутру, – сказал Пьер.
Ева встала и взяла зиутру: сочлененные куски картона, которые Пьер склеил сам; он ею пользовался, чтобы заклинать статуи. Зиутра походила на паука. На одном из кусков картона Пьер написал: «Власть над кознями», а на другом: «Черный». На третьем нарисовал смеющееся лицо с прищуренными глазами, – это был Вольтер. Пьер схватил зиутру и стал ее мрачно разглядывать.
– Нет, она не может больше служить, – сказал он.
– Почему?
– Они изменили ее порядок.
– Ты сделаешь другую.
Он долго смотрел на нее.
– Ты этого хочешь? – спросил он сквозь зубы.
Ева разозлилась. «Каждый раз, когда они приходят, он знает заранее. Он никогда не ошибается. Как ему это удается?»
Зиутра жалко повисла на кончиках пальцев Пьера. «Он всегда находит причины, чтобы не пользоваться ею. В воскресенье, когда они пришли, он притворился, что потерял ее, но я видела ее за бутылочкой с клеем, и он не мог ее не заметить. Я себя спрашиваю, он ли их притягивает? Никогда нельзя понять, вполне ли он искренен». Иногда у Евы возникало впечатление, что Пьер помимо своей воли переполнен видениями. Но порой Пьер выглядел сознательным фантазером. «Да, он страдает. Но до какой степени он верит в статуи и негра? О статуях по крайней мере я знаю: он их не видит, он их только слышит, когда они проносятся, он отворачивает голову. Тем не менее он говорит, что видит их, он их описывает». Ева вспомнила багровое лицо доктора Франшо: «Дорогая мадам, все сумасшедшие – лгуны; вы только потеряете время, если захотите отличить то, что они ощущают реально, от того, что они воображают». Она вздрогнула. «При чем здесь Франшо? Я не хочу думать, как он».
Пьер встал, бросил зиутру в корзину для бумаг. «Я хочу думать, как ты», – прошептала она. Он ходил мелкими шажками, на цыпочках, прижав руки к бедрам, чтобы занимать по возможности меньше места. Потом он снова сел и отчужденно посмотрел на Еву.
– Нужно сделать черные обои, – сказал он, – в этой комнате слишком мало черного.
Он совсем утонул в кресле. Ева грустно смотрела на это скаредное тело, всегда готовое уйти, съежиться: руки, ноги, голова, казалось, могли сократиться до нуля. Пробило шесть часов; пианино смолкло. Ева вздохнула: статуи сразу не придут, им нужно время.
– Хочешь, я зажгу свет?
Она предпочитала ждать их не в темноте.
– Как знаешь, – сказал Пьер.
Ева зажгла маленькую лампу на письменном столе, и комнату заполнил красный туман. Пьер ждал тоже.
Он молчал, но губы его шевелились, в алом тумане они казались двумя темными пятнами. Ева любила губы Пьера. Прежде они были волнующими и чувственными, но теперь утратили свою плотоядность. Они размыкались, чуть подрагивая, и тут же смыкались. И все же только они жили на этом замурованном лице; они были подобны двум пугливым животным. Пьер мог бормотать вот так часами, но почти беззвучно. И тем не менее эти губы ее гипнотизировали. Ева про себя часто твердила: «Я люблю его рот». Пьер больше никогда не целовал ее. Казалось, ему стали отвратительны любые прикосновения: когда ночью она касалась его жадными сухими руками мужчины, впиваясь в его тело, ей чудилось, что в ответ ее мерзко ласкают женские руки с длинными ногтями. Часто он ложился одетым, и она понемногу стаскивала с него одежду. Однажды ему послышался чей-то хохот, и его припухшие губы панически прижались к ее рту. С той ночи он больше никогда ее не целовал.
– Агата, – попросил Пьер, – не смотри так на мой рот. – Ева опустила голову. – Я знаю, что можно научиться считывать с губ, – пояснил он заносчиво.
Его руки подрагивали на ручке кресла, указательный палец напрягся и стукнул трижды по большому, другие пальцы сжались: это было заклинание. «Сейчас начнется», – подумала она. Ей захотелось заключить Пьера в объятья.
Пьер начал громко говорить светским тоном:
– Ты помнишь Сан-Паули? – Не надо отвечать. Возможно, это могла быть ловушка. – Именно там я тебя узнал, – удовлетворенно сказал он. – Я тебя отнял у датского моряка. Мы чуть не подрались с ним, но я заплатил за выпивку, и он позволил тебя увести. Но все это было чистым фарсом.
«Он лжет, он не верит ни в одно слово. Он знает, что меня зовут не Агатой. Я ненавижу его, когда он лжет». Но она увидела его остановившиеся глаза, и гнев ее тут же растаял. «Он не лжет, – подумала она, – он на пределе. Он чувствует, что они приближаются: он говорит, чтобы помешать себе слышать». Пьер схватился за ручки кресла. Его лицо было мертвенно-бледным, но он улыбался.
– Такие встречи очень подозрительны, – сказал он, – но я не верю в случай. Я не спрашиваю, кто тебя подослал, я знаю, что ты не ответишь. Во всяком случае, ты исхитрилась вывалять меня в грязи. – Он говорил с трудом, голосом резким и торопливым. Были слова, которые он не мог произнести, вылетая из его рта, они казались вялой и аморфной субстанцией. – Ты увлекла меня в самый центр, где был манеж черных автомобилей, но за автомобилями скрывались мириады красных глаз, которые сверкали, как только я отворачивался. Уверен, что ты им подала знак, продолжая висеть на моей руке, но я ничего этого не видел. Я был слишком поглощен величественной церемонией коронации. – Пьер смотрел прямо перед собой широко раскрытыми глазами. Он быстро каким-то куцым жестом провел рукой по лбу, не переставая говорить: он не мог остановиться. – Это была Коронация Республики, – сказал он пронзительным голосом, – в своем роде впечатляющий спектакль из-за животных всех видов, которых прислали для этой церемонии из колоний. Ты боялась заблудиться среди обезьян. Я сказал: среди обезьян, – озираясь, повторил он высокомерно. – Я мог бы сказать: среди негров! Ублюдки, проскальзывающие под стол, в расчете, что их не заметят, были обнаружены и тут же пригвождены моим взглядом. Приказ: молчать! – закричал он. – Молчать! Ни с места! Стать смирно при входе статуй! Это приказ. Тра-ля-ля, – заорал он, поднося руки рожком ко рту, – тра-ля-ля, тра-ля-ля!
Он замолк, и Ева поняла, что статуи вступили в комнату. Пьер на глазах каменел, бледный, отрешенный. Ева замерла тоже, оба ждали в молчании. Кто-то прошагал по коридору: это была Мария, их прислуга, она, безусловно, только что пришла. «Нужно дать ей денег, чтоб она заплатила за газ!» И тут стали носиться статуи: они пролетали между Пьером и Евой.
Пьер ахнул и скрючился в кресле, подобрав под себя ноги. Он отвернул голову, время от времени он нервно усмехался, на его лбу блестели капли пота. Ева закрыла глаза, чтобы не видеть этой бледной щеки, этого рта, обезображенного дрожащей гримасой. На красном фоне ее век заплясали золотистые нити; она почувствовала себя старой и отяжелевшей. Где-то рядом шумно дышал Пьер. Статуи летали, жужжа, и склонялись над ним… Ева ощутила легкое щекотанье, стеснение в плече и в правом боку. Инстинктивно тело ее наклонилось влево, как бы для того, чтобы избежать опасности прикосновения и пропустить мимо себя какой-то тяжелый предмет. Вдруг скрипнул пол, и у нее возникло безумное желание открыть глаза и, разогнав воздух рукой, посмотреть направо. Но Ева этого не сделала; она не открыла глаз, и терпкая радость заставила ее вздрогнуть. «Мне тоже страшно», – подумала она. Вся ее жизнь затаилась в правом боку. Она нагнулась к Пьеру, не открывая глаз. Ей было достаточно совсем небольшого усилия, чтобы войти в первый раз вместе с ним в этот трагический мир.
«Я боюсь статуй», – подумала она. Это было яростное и слепое утверждение, почти заклятие: изо всех сил она хотела поверить в их присутствие. Волнение, парализовавшее ее правый бок, она попыталась преобразовать в нечто другое – в осязание. Своей рукой, боком, плечом она чувствовала, как пролетали статуи.
Они проносились низко, издавая легкое жужжанье. Ева знала, что у них угрожающий вид, что вокруг их глаз щетинистые каменные ресницы, и все же она плохо себе представляла этих истуканов. Она знала, что они еще не были вполне живыми, но местами камень уже превратился в плоть, кое-где зарождалась скользкая чешуя; на кончиках их пальцев камень шелушился, ладони их чесались, как у живых существ. Ева не могла видеть всего этого: она просто думала о том, что огромные женщины скользили совсем близко от нее, величавые и нелепые, с человеческим обличьем, но с косным бесстрастием мертвого камня. «Пролетая, они наклоняются над Пьером». Ева так напряглась, что руки ее задрожали. «Они склоняются надо мной…» Душераздирающий крик привел ее в остолбенение. «Они к нему прикоснулись». Ева открыла глаза: Пьер, тяжело дыша, обхватил голову руками. Она ощутила полное свое бессилие. «Все это игра, – подумала она со стыдом. – Все это только игра, я ни на мгновенье в это не верила. Но какая разница, если он действительно страдает!»
Пьер расслабился и прерывисто задышал. Но его зрачки оставались странно расширены, лицо было залито потом.
– Ты их видела? – спросил он.
– Я не могу их видеть.
– Для тебя так лучше, они бы тебя смертельно напугали. Я-то уже привык. – Руки Евы продолжали дрожать, кровь прилила к голове. Пьер вынул из кармана сигарету, поднес ее ко рту, но не зажег. – Это ничего, что я их вижу, – сказал он, – но я не хочу, чтобы они ко мне прикасались. Они мне наделают прыщей. – Он немного поразмыслил и спросил: – А ты их слышала?
– Да, – сказала Ева, – это как двигатель самолета (Пьер в прошлое воскресенье употребил именно это сравнение).
Пьер снисходительно улыбнулся.
– Ты преувеличиваешь, – сказал он. Лицо его оставалось по-прежнему бледным. Он посмотрел на руки Евы: «Твои руки дрожат. Вижу, тебя это потрясло, моя бедная Агата. Но не волнуйся: до завтра они не вернутся».
Ева не могла вымолвить ни слова, и она боялась, что Пьер это заметит. Пьер долго ее рассматривал.
– Ты изумительно красива, – сказал он, покачав головой. – Жаль, действительно жаль. – Он быстро вытянул руку и коснулся ее уха. – Мой прекрасный демон! Ты меня немного смущаешь, ты слишком красива: это меня отвлекает. Если бы только речь не шла о подведении итогов… – Он остановился и удивленно посмотрел на Еву. – Это не те слова… они пришли случайно… – отрешенно сказал он, улыбаясь. – У меня уже были на кончике языка другие… а эти… выскочили вместо них. Я забыл, о чем тебе говорил. – Он немного подумал и покачал головой. – Ну что ж, – сказал он, – я иду спать. – И добавил детским голосом: – Знаешь, Агата, я устал. Все мои мысли куда-то задевались. – Он бросил сигарету и озабоченно поглядел на ковер. Ева положила ему под голову подушку. – Ты тоже можешь спать, – сказал он, прикрывая глаза, – они не вернутся.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Пьер спал, на губах его застыла застенчивая полуулыбка, он склонил голову: казалось, он хотел погладить свою щеку о плечо. Ева не спала, она думала: «Подведение итогов». Лицо Пьера вдруг стало глуповатым, какое-то слово вытекло из его рта, длинное и мучнистое. Пьер удивленно смотрел перед собой, как будто он видел это слово, но не узнавал его; безвольный рот его был полуоткрыт, казалось, в Пьере что-то сломалось. «Он бормотал. Это с ним случилось в первый раз. Он сказал, что утратил все свои мысли». Пьер издал тихий сладострастный стон, его рука слегка пошевелилась. Ева сурово посмотрела на него: «Каким он проснется?» Это ее мучило. Всякий раз, когда Пьер засыпал, она думала об этом, она не могла об этом не думать. Она боялась, что он проснется с мутными глазами и начнет бессвязно лепетать. «Глупости, – подумала она, – это должно начаться не раньше, чем через год, так сказал Франшо». Но тревога не оставляла ее, один год: одна зима – одна весна – одно лето – начало следующей осени. Однажды его черты окончательно исказятся, у него отвиснет челюсть, из прищуренных глаз будет сочиться влага. Ева наклонилась над рукой Пьера и приникла к ней губами: «Нет, я убью тебя раньше».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































