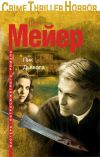Текст книги "Только двое"

Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Рассказы, Малая форма
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Зинаида Гиппиус
Женское
I
Я любил женщину…
Так же, как вы, читатель. И не только так же, как вы, но даже любил я ту же самую женщину… Не ревнуйте: ведь я вас не ревную. Ничего не поделаешь. Я, может быть, и сам не рад…
Впрочем, не то: я любил не одну, а двух, ровно двух женщин. Хотя опять как раз тех самых, которых и вы любили; я наверно знаю, что вы их любили, и даже до сих пор любите, как я любил – и люблю. Именно этих двух, обеих, – если, конечно, вы, мой читатель, такой же человек, как и я. Тоже человек, – притом не герой, не больной и не монах.
Таким образом, рассказывая свою историю любви, я рассказываю вам вашу. Вашу – все равно, кто бы вы там ни были по вашему бытовому положению: крестьянин или граф, октябрист или кадет, даже русский или иностранец. Это своего рода «suffrage universel»[1]1
Всеобщее избирательное право (фр).
[Закрыть], без различия состояния… хотя и не пола. Я разговариваю с читателем, а не с читательницей. Читательнице я могу сказать пока одно: что я ее люблю, всегда любил и никогда не разлюблю.
Ведь читательницей моей будет непременно одна из тех двух женщин, которым я отдал сердце (и вы, и вы!).
Начинаю с признания: было время в моей жизни, когда я любил только одну женщину, а вторую полюбил потом. Но эту первую я полюбил сразу навеки, так крепко и сильно, что когда пришла вторая, то я ничего не отнял у первой, и вторая нисколько не ревновала. Первая, может быть, и поревновала слегка, но тотчас же простила. Да ведь вы знаете ее; вы знаете, что сущность этой женщины, – первой любви нашей, – в том, что она все, всегда и тотчас же прощает.
Я любил пламенно ее руки, ее волосы, ее улыбку, ее глаза, – такие странные, такие милые, в которых я сам видел себя маленьким-маленьким, смешным. Часто засыпая, я плакал от любви к ней и от того, что я не умею этой любви высказать. Сначала я стремился в трудные минуты жизни броситься к ней на колени, спрятаться у нее на груди, целовать ее около ушка, где вьются теплые и мягкие волосы; плакать, а чтобы она качала, гладила, утешала и баюкала меня; так было сперва; а потом, когда я вырос, я шел, чтобы только голову положить к ней на колени, но чтобы так же гладила она мои волосы, баюкала меня и утешала.
И теперь иногда хочется, иногда нужно пойти к ней так, и я иду, ищу ее и кладу голову, и мне легче. Читатель, вы знаете ее; ну разве не легче?
Пришло, однако, время, и я открыл, что есть другая женщина, кроме той, первой, уже любимой. Открыв это, я открыл в существе моем запас любви именно к этой другой, к ней одной; к первой был он никак неприложим, отскакивал от нее.
Раздумывая post-factum, я должен заметить, что последовательность моих открытий была такая: сначала я почуял в себе запас этой «иной» любви, а уж потом понял, что есть для этой любви иная женщина.
И я тотчас же ее встретил…
Читатель, вам все равно или не все равно, какою и где именно я ее встретил? Не все равно? Ну, может быть, вы и правы. Только не по существу. По существу все равно. Она отлично умеет переодеваться и держит себя всегда по одежде, – отлично, – вот как барышня-крестьянка у Пушкина. Если вы французский конт, читатель (хотя это невероятно, но пусть будет для примера), то вы ее, конечно, встретили в соответствующем салоне или в ложе Comedie francaise; если вы петербургский чиновник – не увидели ли вы ее в первый раз где-нибудь на даче? А если, предположим, вы приказчик магазина в губернском городе – не улыбалась ли она вам из-под самодельной шляпки как-нибудь за всенощной, – хорошенькой поповной? Видите, по существу все равно. Но так как «существо», не облеченное телом и даже одеждою, превращается в отвлеченное рассуждение, мало кому нужное, и так как я стою за реализм, то не буду спорить в мелочах. Определю, где именно я ее, нашу с вами вторую любимую женщину, встретил.
Я был студентом, поехал летом на кондицию, в Новогородскую губернию, на Волхове, к помещику Палину (видите, как точно) и встретил там ее в виде дочки Палина, Оли. Она могла бы зваться и Лидой, это для меня ничего бы не изменило. Так же, как для вас, если бы, встретившись с вами в свое время, она сказала, что ее зовут не Верой, а Надей.
Не хочу скрывать: и раньше, прежде чем я увидел ее Олей, она уже мелькала предо мной то там, то здесь. Шумела шелковыми юбками гостьи, пришедшей к моей матери; улыбалась глазами вертлявой горничной Кати в коридоре; даже на Невском, случалось, под фонарем, я видел ее белое-белое лицо…
Но ни разу она не останавливалась, и я не останавливался. Я был свежий, простой, здоровый и хороший юноша, каких, право, больше на свете, чем думают. Ничего я тогда не решал, да и раздумывал мало, а вот чуялось же, что ко мне она придет такою, какою мне нужно сейчас, и выйдет все по хорошему, т. е. по-обычному, по-нормальному… Девочкой – к мальчику.
Белые ночи бывают и на Волхове. Сколько их провел я, шатаясь по берегу широко разлившейся, стальным холодом сверкающей реки! И такое же, точь-в-точь, небо над нею. Тот же стальной холод сверху. Весенние, северные, смеющиеся деревья. Незабвенные воды, крылатая и радостная грусть моя… Да ведь вам она знакома, читатель, ведь вы любили тоненькую, недостижимую, воздушную девочку? Ведь колыхался вокруг нее туман неизъяснимой, нездешней прелести? Ведь плакали вы без тоски, а просто от одного благоговейного восторга?
Оля была для меня недостижима по многим причинам: ей едва минуло 18 лет, она считалась богатой невестой, воспитана была, как барышня. Мне все в ней казалось совершенством, ослепительной силой. Я был бедный студент второго курса. Конечно, я решил, что я ее и сам по себе недостоин. А потому сказал себе твердо, что не могу и не буду искать ее любви. Тем более, что мне очень хорошо было и без ее любви. Недостижимость Оли как-то особенно красила и венчала во мне любовь.
Сам не знаю, почему случилось все наоборот, хотя я сознательно от моего решения и не отступал.
Когда я за кустами смородины, уж не в белый, а в чернеющий вечер, вдруг обнял ее, тоненькую, как веточка, и целовал ее холодные губки, а она говорила: «Нет… нет…» и это «нет» звучало как «да» – мне показалось, что новое, вдруг наступившее, – еще лучше прежнего. И хорошо, что оно само случилось, я бы никогда не решился.
Вот это самое «нет» ее, девочки тоненькой, «нет-да» – было сильнее меня. Что бы я там ни решал, а придет «она» со своим «нет», с отдающимися губами, с глазами, которые зовут и отталкивают, – и все мои решения полетят к черту, а только чтобы сейчас же это «нет» обратить, повернуть на «да»; и даже как бы не я это делаю, а она это со мной делает и еще какое-то «оно», которое в ней сидит и из глаз смотрит.
Может быть, вы скажете, читатель, что все это ужасно обыкновенно? Но чем же мы с вами виноваты, что любим одну и ту же, пусть обыкновенную, женщину? Кроме того, обыкновенной она нам кажется тогда, когда идет на свидание с другим. А когда в вашу собственную комнату приходит – она необыкновенна, изумительна, единственна, прекрасна. Разве вы этого не замечали?
II
Я женился на ней.
Не сейчас, через полтора года, и со всякими историями и борьбами, о которых распространяться скучно. Скажу только, что она, несмотря на свою молодость и невинность, боролась с отцом упорно, выказала много силы, хитрости и практичности. Я даже удивлялся. Я бы не сумел.
Недели за две до свадьбы случилась история, о которой следует упомянуть.
Был конец июля. Я жил в том же имении на Волхове, но уже на правах будущего мужа Оли. Мне был отведен целый флигель, где я старался заниматься (я переходил на четвертый курс), а больше мечтал об Оле, горел Олею, совсем, впрочем, по-иному, нежели в прошлое лето, потому что теперь мы с ней целовались каждый день везде, где только возможно, и мне этого, то есть поцелуев, было уже мало.
Я жаждал большего – и немного боялся, когда размышлял о нем: ведь я еще оставался девственником. Всю зиму я был так занят моей любовью и борьбой за нее, что по совершенно естественной психологии ни о чем другом и не помышлял. Теперь отпустило, и я горячо и трепетно ждал дня свадьбы.
Оля на два дня уехала с отцом в Петербург. Все для свадьбы. Первый день я шлялся по опустевшему дому и саду, на второй решил заняться.
Мухи жужжат на стеклах. Жара. Кто-то вдали поет на реке. Сил нет. Душное одиночество.
Дверь в сени стукнула. Ольга, наверное, – деревенская девушка, которая мне прислуживает. Хотя бы чаю, что ли, выпить.
Ольга, однако, принесла не чай, а свежее белье, которое она тут же стала, наклонившись, укладывать в комод.
Я смотрел молча на ее белокурый затылок, на нежную загорелую шею с капельками пота у волос. Смотрел, смотрел… и мне стало казаться, до уверенности, до убеждения, что это Оля пришла ко мне, что мы уже обвенчаны, что она пришла и кладет мое белье в комод.
Я встал и поцеловал Олю в затылок. Она вздрогнула, выронила белье, но какая-то рубашка еще осталась у нее в левой руке.
Я стал ее целовать крепче и грубее.
– Да нет… Что это… Да нет… – шептала Оля, слабо отстраняя меня. Я уже знал, что значит «нет».
И тут же, на некрашеном полу, у комода и совершилось все; и было просто, забвенно и безумно весело.
Она убежала, оставив на полу белье и незадвинутый комод, а я долго еще про себя смеялся, без единой мысли, и медленно успокаивался. Оля, милая, единственная Оля!
III
Жил я после свадьбы чрезвычайно бурно. Разные дела захватили меня еще в университете. Я метался, искал людей, сходился, расходился. Оле, которая меня чрезвычайно любила, я рассказывал все мои умственные этапы, и всегда выходило, что она было со мной. Даже необычайно, как скоро она из барышни превратилась в марксистку, а когда я стал разочаровываться в Марксе – я сам слышал, как она другу моему, музыканту Оайлю (об этом Оайле речь еще впереди), доказывала очень горячо, что Маркс лишен настоящей философской подосновы и не понимает роли личности в истории.
Меня выслали в Вятскую губернию. Оля, конечно, поехала со мной. В эти 20 месяцев одиночества я много читал, занимался, говорил Оле о прочитанном. И когда мы вернулись – она всецело была полна философскими вопросами.
Один раз только она меня удивила. Страшно вдруг заинтересовалась музыкой, посещала концерты и стала говорить о перевороте, который совершил Вагнер в искусстве… Откуда?
Я подивился, но не обратил внимания, очень был занят, а у Оли это ее увлечение скоро и внезапно прошло.
Так я был занят в то время делами и людьми, которые мне казались страшно важными, что даже не помню, говорил ли о чем тогда с Олей или нет. Может быть, и говорил, не замечая. Я ее любил по-прежнему, но как-то периодами. В эти периоды, конечно, мы не говорили, а только я ее любил.
Но вот я заметил в себе и в ней – неуловимую, но несомненную перемену. То, что прежде было остро, хорошо и безумно весело – стало тупо и даже как-то… нехорошо. Она молчала и покорялась, но в ее покорности не было прежнего зовущего «нет-да». Тело ее скучно говорило мне: «Ну, пусть…»
Я не понимал. И уходил от нее не то со стыдом, не то со страхом.
Я не понимал. И вдруг понял все.
Это случилось уж на десятый год нашего брака. Мы жили понемножку, я был частным поверенным, хотя брал дел мало, искал тех, которые мне подходили. У меня назревали другие планы. Было у нас уже двое детей.
Вернулся домой в белый весенний вечер. Особенно молодо и нежно чувствовал себя. Вспомнились почему-то светлые ночи на Волхове, светлые любовные слезы, новая радость… Я ведь был еще очень молод. Что же, тридцать один-два года…
Вошел в столовую. Никого. Слышу голоса тихие в детской. Незаметно отворил дверь. На большом зеленом кресле, – давно помню это кресло, – сидит Оля, а Павлушка, восьмилетний наш сын, забрался к ней на колени, обнял ее крепко за шею и тихонько всхлипывает.
– Полно, детка, полно, – говорит Оля. – Ну, поплакал и хорошо. Мама не сердится…
Мама! Я глядел на Олю, на ее нежные глаза, такие милые и странные, в которых Павлуша, наверно, видел себя маленьким, смешным… Я узнал ее. Это не Оля, – это она, первая любовь моя, первая любимая женщина. Вторая, которую я любил, как любовницу, ушла. Ее здесь нет. Ее надо опять искать. А сюда, к зеленому креслу, я буду приходить, когда мне будет горько, как Павлушке, когда мне захочется положить голову на милые колени, захочется ласковой руки, утешения и прощения, почти без слов…
IV
Еще две главы, читатель, – и наша с вами история кончена. Даже одна глава, потому что последняя к этой истории, собственно, не относится, а так, любопытный разговор, который я имел. Он меня, впрочем, ни в чем не убедил, я его запишу разве из добросовестности.
Итак – дальше. Когда мне стало ясно, что Оля меня покинула (буду для удобства называть вторую любимую женщину – Олей) – я понял и то, что я непременно буду ее искать. Я должен ее найти, я не могу жить без нее.
Читатель, вы романтик? Нет? Или немножко? Ну вот, я тоже немножко. Поэтому я испугался: а вдруг я ее не найду? Вдруг она от меня ушла навеки? Не захочет встретиться со мной?
Как я был наивен! Конечно, я встретил ее, и очень скоро. Тем более, что уже стал понимать, в чем дело. Она не встретилась со мною тоненькой девочкой, – да я этого и не хотел. Я человек с самыми обыкновенными чувствами, самыми нормальными, а так как я был уже не мальчик и не мог бы рыдать ночами на Волхове, то мне девочка была не нужна.
Я встретил ее такой, какой ждал, красивой, молодой и привлекательной женщиной. Она меня узнала, хотя делала вид, что не узнает. Ждала, чтоб я говорил ей о любви, хотя делала вид, что не ждет. Звала меня, хотя говорила: «Не приходите…» Если б она всего этого не делала – это была не она, и я бы ее не любил… Она все время лгала мне, то есть закрывала словами, движениями свое тело, как одеждой, а я без слов эту одежду срывал. Она создавала, не уставая, ложью – тайну, которую я все время раскрывал и которая опять и опять оказывалась тайной.
Я не помню всех имен, которыми звалась Оля с тех пор, как она стала приходить ко мне часто и часто уходить. Она меняла имена каждый раз, когда меняла тело. Любовь моя к ней не прекращалась, я не уставал от Оли никогда, но порою уставал от ее тела. Сидит в человеке влечение к новой форме. И вот мне иногда начинало хотеться… а что, если бы у нее были не рыжие, а длинные черные волосы? Что, если бы грудь Оли стала полной и смуглой, а ее маленькие привычки – не эти, другие, которые так весело узнавать?
И она чудесно менялась, покорная моему желанию, жаждущая угодить мне, сделать меня счастливым хотя бы ненадолго. Порою я сам не знал, какою я ее хочу. Тогда она являлась мучительницей, недоступной и тем более таинственной, – и я понимал, что хочу именно мучений.
Я плакал без слов у зеленого кресла на коленях той любимой, которая перестала быть Олей, а потом утешенный шел опять к Оле, искал ее и находил.
Иногда она гримасничала со мной. Приходила обманно, грубо, на одно мгновенье, смеялась мне из-под широкой шляпки ночью на Невском. Но я не сержусь на нее. Со всеми это бывало. Наверно и с вами, читатель. Это мимолетный ее каприз, а она добрая, она потом придет иначе, так, как вам самому будет хотеться и нравиться.
Ну, вот, любовная история, собственно, и кончена. История, а не жизнь любовная, потому что жизнь продолжается все так же. И если б даже моя кончилась – ваша, читатель, будет продолжаться все так же. Все так же…
Странно! Иногда, несмотря на мое счастье, на меня нападает какая-то грубая, глухонемая тоска, такая зловредная, что я сам себе становлюсь не мил. Нигде не мил: ни в той половине жизни, где я живу, – думаю, говорю, ненавижу, люблю, действую, страдаю, с людьми, – ни в другой, где я или молчу, или лгу, сладко плачу или весело смеюсь, где я люблю женщин: маму и Олю.
Тоска приходит полосой. Черт ее знает откуда. И ничем ее не возьмешь, нужно терпение. Сама приходит, сама уходит.
В полосу тоски и был у меня этот разговор, который запишу кстати.
V
Сидел я в старом, большом, немодном ресторане. Теперь ведь пошли этакие стиль-модерны, где новейшие декаденты собираются. Я их люблю, и с декадентами знаком, но когда на меня тоска нападает – я иду в старый трактир без модернов, со старой публикой, старыми занавесями и с органом, который чуть не Лючию жарит. Достоевский это верно подметил, что тоску нашу несем непременно к трактирной Лючии.
Сидел долго, один. Пил красное вино.
Красное вино – грузное, оно тоску еще утучняет, а нам того и нужно. Зуб болит – надави его. Пусть больнее.
Наконец, я встал и поплелся к выходу, глядя в паркет. Было уж часа два ночи.
– Постой, здравствуй! – сказал кто-то около меня. Я поднял глаза.
За ближайшим столиком сидел мой давний приятель, музыкант Оайль.
Мне было все равно, я подошел и сел к Оайлю. С ним сидел еще кто-то.
– Вы ведь знакомы? – сказал Оайль.
Я припомнил, что мы, точно, знакомы. Это был довольно молодой, титулованный земец, но уж очень какой-то сытый и ясный. Знал я его мало. Оайля я скорее любил, но в данную минуту они оба мне были равно безразличны.
Они тоже пили красное вино, но я тотчас же заметил, что на Оайля и на земца вино действует неодинаково. Земец был пьян, но ясен, Оайль угнетен до надрыва.
– Послушай, – заговорил Оайль, торопясь. – Это перст, что мы тебя встретили. Мне тебя-то и нужно было. Ты мне необходим, понимаешь? Я все скажу, я слишком страдаю… Есть такие минуты в человеческой жизни… Я пьян, но пусть. Пьяные слова – это правда, которую трезвый скрывает…
– Да в чем дело?
Хотя Оайль считался моим приятелем, я его видал нечасто, и жизненных признаний он мне никогда не делал. Но в ту минуту я вдруг вспомнил, что, кажется, земец этот играл в жизни моего приятеля большую роль. Он был первым мужем женщины, на которой после развода и не так давно женился Оайль. Слышал я, что Оайль вовсе не стремился к разводу и женитьбе, а случилось это как-то само собой.
– Извините, – сказал граф, подливая себе вина и сверкнув дорогими перстнями. – Друг наш очень огорчен, а я его утешаю. Может быть, вы мне поможете. Дело очень простое, раз уж пошло на откровенности. Лили… виноват, Ольга Александровна, супруга господина Оайля, его покинула.
Я спросил грубо:
– Это ваша бывшая супруга?
– Да-с, моя бывшая. Вот я и уверяю, как знающий человек, что господин Оайль совершенно напрасно огорчается. Когда она покинула меня, я совсем не огорчался, а поспешил дать ей развод, чтобы она устроилась, с кем ей желательно.
– Очень мне нужен был ваш развод! Я вовсе не хотел жениться! Оттого она меня и разлюбила, что женитьба – это… это…
– Видите, – продолжал граф, обращаясь ко мне, – я совершенно без предрассудков, имею собственные взгляды на вещи, но думаю, что со многими предрассудками общества я еще должен считаться. В свое время расположение моей жены к Оайлю стало слишком явно, и если б я не поспешил с разводом, это могло бы повредить мне… так или иначе…
Я понимал, что идет какая-то дичь, но мне эта дичь нравилась.
– Послушай, Оайль, да ты что, ты ее любишь, жену свою?
– Он вам наговорит, – вставил граф. – А просто самолюбие – один из предрассудков…
– Молчите вы! Вы циник! Я не понимал Лили, я сознаю, я виноват… Но как она могла…
Мне вдруг стал страшно близок… не Оайль, а сытый граф с перстнями. Я почувствовал в нем простого, нормального, обыкновенного человека, только более голого, чем другие.
– Послушайте меня, послушай, Оайль. Вот я вам обоим сказочку расскажу. Не стоило бы, но все равно, все мы пьяны… Послушайте, так ли?
И я рассказал им все, что написал здесь, рассказал про двух женщин, которых любил всю жизнь, и когда рассказывал про Олю, мне казалось, что я говорю про Лили, жену графа и Оайля.
Только о тоске моей не упомянуть, да и спряталась она куда-то на это время.
Граф слушал внимательно, и сытое лицо его расцветало. Оайль был страдальчески серьезен.
– В первый раз встречаюсь с таким трезвым взглядом на вещи, – сказал граф, окончательно расцветший, и подлил мне вина, сверкнув перстнями. – Я бы не сумел так поэтически… гм… формулировать… но… я совершенно, совершенно с вами согласен. Именно Оля… да… Оля… Лиля, Лида… именно Оля…
Оайль смотрел на нас бледными, пьяными, детскими глазами.
– О, циники! О, циники! – тихо сказал он. – Да пусть она – «оно», пусть нет женщины, а только «женское», пусть одно «женское» мы любим… Но надо обманывать себя, подло не обманывать, не верить, что у нее, у женщины, свое лицо, и люблю я именно это лицо… Что же это будет, если не обманывать? Как же тогда жить? Ведь обнажая это – вы мир от красоты его обнажаете! Духа, творчества лишаете его!
– Вздор! – крикнул я возбужденно. – К черту и творчество твое, и красота, и всякое искусство, если я должен, обязан себя до конца дней обманывать! Если оно так, и если мир навсегда таков, то пусть себе и будет без красоты. Скажите, пожалуйста! А не нравится – стреляйся. Мне ничего, нравится…
– Ой ли?
Я вспомнил на мгновение о моей странной тоске.
– Мне нравится, – сказал граф.
И так сказал, что я позавидовал. У него, наверное, тоски не бывает.
Тут случилось что-то странное. Оайль вдруг усмехнулся, пристально взглянул на меня, даже как-то подмигнул:
– Главное – врешь ты все, любитель правды! А знаешь ли, что твоя жена… давно, несколько лет тому назад, и недолго, но была моей любовницей?
Я этого не знал. Граф глядел на меня с любопытством. Я сам взглянул в себя с любопытством. И сейчас же ответил, искренно:
– Нет, не знал. То есть в том смысле, в каком ты спрашиваешь. Но, милый друг мой, не ждешь же ты, что я буду тебя ревновать? Ведь и я был любовником твоей Лили…
– Ты? – закричал Оайль и приподнялся. Граф бросился к нему.
– Да что вы, полноте… Ведь это он фигурально… Ведь для него везде одна и та же Оля… Нет, его не переспоришь, – с сожалением сказал он и взглянул на меня. – Художники, музыканты, – такой уже народ. Воображаемые скорби для них дороже всего.
Оайль сразу как-то ослаб и плакал, склонясь на стол, тихими, пьяными слезами. Вряд ли он уже понимал что-нибудь.
Я встал.
– Уходите? – сказал граф. – Ну, а я с ним поеду. Очень, очень приятно было встретиться. Именно «женское»… а уж как его зовут, Олей или Машей – это дело случая и времени. Прекрасно я вас понимаю…
Однако он ошибался. Чего-то он во мне не понимал. И вдруг сделался мне необыкновенно противен, – противнее лгущего себе Оайля.
Я молча пошел к выходу. Да, женское; да, только и есть на свете две женщины – мама и Оля. Да, мое человеческое, мои мысли, дела, моя работа, – все это мое, а им я отдаю – маме бессловную нежность, Оле – мужское вожделение. Да, это все так, и все так, самообман не изменяет ничего. Мы с графом не обманываемся; но разница между нами: у меня полосы тоски – у него их нет. Граф и я – оба знаем, что оно так; оба хотим, чтобы оно так и было; а тоска моя – не хочет. И не обман она зовет, нет, она хочет, чтобы действительно было не так, как действительно сейчас оно есть.
Я вышел на терпкий морозный воздух. Он сжал и отрезвил меня. Больно укусив душу в последний раз, тоска вдруг сникла. Мне стало вольно, ясно, опять легко. Я даже усмехнулся. Граф как-то груб, и это неприятно, но, в сущности, он неглупый человек.
Охота мне было пить столько красного вина! Этак, пожалуй, и до милого Оайля дойдешь. Нет, каков Оайль? Делает то же, что и все мы, грешные, мимоходом и мою Олю нашел, а тут же какая-то смесь наивности и цинизма; прикрасы, воспарения и пьяные слезы… Впрочем, я понимаю, случай ему не благоприятствовал. Бывает иногда, – и это очень досадно, – что намеченная Оля тут же повернется к другому. Все ведь вопрос времени и случая.
Нет, я доволен. Нет, пусть оно будет так, пусть будет.
Люблю вас, милая читательница, люблю пламенно и страстно, люблю так, как вы хотите быть любимой. И нисколько не ревную вас к вашему любовнику или мужу. Только не отдавайте им моего часа.
Когда же мы увидимся? Когда ты придешь ко мне, милая, близкая? Скоро? Завтра?