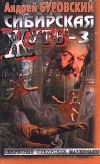Текст книги "Сибирская жуть-2"

Автор книги: Александр Бушков
Жанр: Ужасы и Мистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Рассказывают, – говорил моряк, – есть в далеком синем океан-море другая земля, на которой живут только двуглазые люди. Там, где у всех у нас глаз, у них просто гладкое место, а по обе стороны носа, где у нас щеки, у них красуются два совершенно одинаковых глаза. И самое смешное – они даже и не предполагают, не думают, что они странные люди. Наверное, потому, что никто из них никогда не видел одноглазого человека.
В душу лентяя запала странная повесть скитальца-моряка… Он часами лежал на берегу под чужой лодкой, а сам все думал и думал о чуде, которое есть на земле. Думал он вот так-то, думал да и решил: «Да ведь это же мне счастье привалило. Вот поеду-ка я в ту землю в синем океане-море, поймаю себе двуглазого человека, привезу его сюда и стану показывать за деньги. И сделаюсь я богатым и знатным. И буду я есть сало с салом, носить новые сапоги со скрипом и каждую ночь спать на свежей соломе».
Прошел год или два, а может быть, и больше прошло времени, но сделал себе лентяй-лежебока кое-какое судно и отправился на нем в далекое путешествие на поиски странного двуглазого существа.
Долго ли, коротко ли плавал лентяй по бурным волнам великого океан-моря, много ли, мало ли испытал он лишений и приключений в своих странствиях, только однажды свежий бриз пригнал его лодку к высокому берегу, на котором он увидел толпу людей, и каждый в этой толпе имел на лице два глаза!
«Вот счастье привалило! – подумал лентяй. Он подумал это вяло, без прежней радости. Ведь он, лентяй, за годы странствий, по правде говоря, перестал быть лентяем, он стал заправским моряком. – Сейчас я поймаю одного из этих людей и отправлюсь домой».
Однако мысль о том, что он, показывая двуглазого за деньги, станет богатым и знатным, тоже не доставила ему прежнего удовольствия, другой стал человек за годы труда, другой.
Когда моряк подошел на своем судне к самому берегу, одноглазый увидел, что все двуглазые показывают на него пальцами и кричат:
– Глядите! Глядите! Одноглазый человек! Вот нам счастье-то привалило! Сейчас мы поймаем его, посадим в клетку и станем показывать всем жителям за деньги. Мы станем богатыми и знатными!
Все так и получилось. И долго возили они по земле одноглазого человека и показывали его за деньги. Да ведь мало того, что они показывали бывшего лентяя, они еще и работать заставляли его в то время, когда он был свободен от посещения зевак. В неволе он всему научился: и сад посадит, и поле вспашет, и сапоги стачает, и дом срубит. И еще интересное дело: одноглазый очень любил детей, с ними он чувствовал себя свободным и раскованным.
Когда подневольные пути-дороги приводили одноглазого на берег синего океан-моря, он подолгу смотрел в лазурную даль, и из его единственного глаза капали и капали слезинки. Он тихо смахивал их и, наверное, думал: «Бедный я, бедный. Правду говорила мне в детстве моя бабушка: не рой яму другому, сам в нее попадешь».
Потом одноглазый исчез. Поговаривали, что он тайно, с помощью ребятишек восстановил свою лодку-корабль, а может и новый построил, он уже все умел, запасся продовольствием и водой и однажды темной, бурной ночью ушел один-одинешенек в свое синее-синее, бурное океан-море. Говорят, он сказал перед разлукой кому-то из своих юных друзей: «Лучше умереть под порывами бури в море, чем в темной каморке невольника». Он ничего не боялся, он умел делать все.
Меня помимо сюжета сказки поразило в легенде старого кочевника южных гор и то обстоятельство, что он назвал одноглазого «Ганса нюдэтэ», а предводителя племени, изловившего его на берегу моря, – «Баатор нойоном».
Разумеется, я привожу здесь не дословный рассказ пастуха коней в горных дархатских степях, а мой свободный пересказ того, что поведал он мне на солнечной поляне у родонового ключа в синих горах, похожих на сказку.
ДЕРЕВНЯ ТИШИНА
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
С.ЕСЕНИН
В один и тот же день я получил два письма: одно – тоненькое, два листка тетрадной бумаги в клеточку, исписанных правильным, почти ученическим почерком, другое – весомое, полное, оно распирало конверт, едва вмещаясь в него. Почерки на адресах были разные, а почта отправления одна и та же. Название сельца на конверте меня взволновало, было неожиданным, как молния в ночи. Я там жил в самом раннем детстве, года два-три, там глаза на мир открылись, там в первый класс пошел, красоту земли впервые увидел и на всю жизнь влюбился в нее…
На тоненьком письме стоял полный адрес отправителя и имя – Софья Ивановна Тишина. На полном конверте обратного адреса не было, только штампик на марке.
Никогда в жизни после отъезда из тех мест я ничего не слыхал о деревушке моего детства, хотя где-то в самой глубине души никогда и не забывал о ее существовании, собирался когда-нибудь съездить в те места, взглянуть взрослыми глазами на пейзажи детства, которые остались в памяти такими красивыми, прямо идеальными картинами земли.
С понятным волнением я открыл первый, тоненький конвертик…
«Уважаемый Михаил Федорович!
Я жена Павла Андреевича Тишина. (Слово «жена» было тоненько зачеркнуто и над ним так же тоненько надписано: «вдова»). Мой муж полагал, что вы должны бы помнить его. Вы вместе с ним пошли в первый класс и вроде бы даже дружили с моим Павлом. Он не раз рассказывал, как вы однажды, еще до школы, сбежали с ним из детского садика в тайгу, когда вас «ни за что» посадили в темную каморку… Потом вас дня два искали по лесам и еле нашли.
Не знаю, было ли это. Может, Паша все выдумал…
Так вот, мой Павел недавно умер. И я осталась одна… Правда, есть у нас дети, двое, да они теперь в других местах живут, редкие они гости в наших палестинах. Одна я теперь в деревне…
Мой Павел умер во второй раз. Первый раз у него случился инфаркт и наступила клиническая смерть. Нам повезло. Как раз в этот день и час прямо напротив нас у председателя колхоза стояла реанимационная машина из районной больницы, которая Прову Захарычу была уже не нужна. Он к той поре уже умер, минут за тридцать до того, как приехала эта машина.
А вот с Павлом Андреевичем врачи «справились», отводились – он ожил. Положили его в районную больницу, долго он там лежал, я ездила к нему каждый день, а потом привезла его домой. Было это страшное дело лет за пять, да, за пять, месяц в месяц до настоящей кончины Павла. Все никак не могу в это поверить, все в окошко выглядываю, Павла жду – вот придет.
После возвращения с того света, сам Павел так говорил, дома он довольно много писал, зачеркивал, переписывал, написал начисто, и все это запаковал в конверт, вы этот конверт скоро получите, если еще не получили. Мне он не дал читать то, что написал. Не надо, сказал, не для тебя это…
Он сам положил свое письмо в конверт, сам написал адрес (адрес он узнал в газете. Он все собирался вам письмо написать, не знаю, писал ли, наверно, не написал, все боялся, что вы не вспомните его. Жизнь у каждого своя, своими заботами полна, до чужих ли). Помню, когда-то Павел увидел в газете ваш рассказ о Саянах, мне его вслух прочитал, сказал, наверно-де это вы его написали. Потом стал все ваше из газет вырезать, хранил – вон у него какие папки лежат. Вырезал, а все же не уверен был, что вы это вы. А вот когда однажды вы по радио рассказали о своем детстве в нашей деревне, тут все сомнения кончились…
Что-то я заговорилась. Молчу больно много, вот и разговорилась. Жалко мне Пашу, мало сказать до слез. Рано он ушел от нас, слишком рано… Это и война виновата. И жизнь, может быть, не совсем так сложилась, как Паша хотел… Мы с ним всю жизнь в нашей деревне учительствовали, вдвоем, в младших классах. Павел-то, по правде говоря, всю жизнь две профессии совмещал: учителя и деревенского Дон-Кихота, все против всякой несправедливости в бой рвался, за всякого обиженного заступался… Потом мне работы в деревне не стало, наши, деревенские, все разбегались да разбегались. Никого почти тут не осталось…
Вы меня извините за многословие. Павел просил вам написать. Умру вот-де, напиши Мише, так вот я еще и волю Павла сполняю. Ну да и так – крик души. Простите меня. Пусть у вас будет здоровье и счастье… А если уж занесет вас судьба в наши края, милости просим, покормим и спать уложим.
Ваша Софья Ивановна Тишина».
Прочитал я письмо незнакомой мне Софьи Ивановны, и лавина теплых воспоминаний обрушилась на меня, и горечь – вот еще один мой друг умер, мой, хотя я его, можно сказать, почти что и не помнил. Вот письмо прочитал, вспомнил, вспомнил я Пашку, маленького, белобрысого, умного, надо лбом упрямый такой вихор торчит. Щеки у Пашки алые, лоб чистый, глаза, как небо весной в Саянах, – голубое-голубое.
Вспомнилась мне и история, когда сбежали мы, двое или трое крохотных ребятишек, из колхозного детского садика в тайгу, добрались до таежной избушки местного охотника Карпия Евдокимовича, ну и решили, что тут нас никто и никогда не найдет, тут и жить станем, раз на нас такую напраслину возвели, раз нас невиновных наказывают. Но вот что и Павел был тогда со мной, – этого я не помнил. Был, наверно, раз его супруга о том пишет. Пашка ей сам рассказывал.
Деревню в тайге основал кто-то из Пашкиных предков. У нее и название такое было – Тишина. Ее, правда, частенько по-другому называли – Тишина. Это ей очень подходило. Тишина тут была кондовая, первобытная, дальше этой деревни в тайге уже ничего не было, дороги на деревне кончались… Пашкин отец говорил, что его дед там первым поселился.
Молодая была земля. Все нетронутое: и ягоды, и черемша в весенней тайге, и белки, которых можно было увидеть прямо в огороде, и маралы, промчавшиеся однажды по главной улице деревни от заворины до заворины под оголтелый лай деревенских псов, и глухаря за частоколом огорода, и родник чистейшей воды, ручеек от которого протекал у самого крыльца нашего крестового дома…
Вот, значит, и Павел, Павел Андреевич, деревенский учитель, защитник отечества, свое дело все завершил. И как жаль, не встретились вот, не поговорили, о своей судьбе друг другу не рассказали, детство не вспомнили…
Я не мог тотчас же вскрыть письма Павла, не мог, и все тут. Я ушел в лес – потянуло неудержимо. Шел по пригородной тропе, шел и вспоминал, вспоминал… О тех двух годах тайги, которые мне дали так много. Пашка Тишин – тихий человек с белыми бровями над бездонной глубиной голубых очей… Вспомнил, нам с ним вместе какой-то прохожий деревенский колдун-знахарь бородавки сводил нашептом-наговором. И свел… Как купались мы в речке Тополинке, как мы в ней налимов ловили, которые запросто могли утащить нас под воду…
Из второго класса я уехал из Тишиной в родное село, в степь. И долго не вспоминал синих гор над тайгой, на которых все лето голубели чистые снега и жарки ниже линии снегов в горах так цвели, так пламенели, что их огонь видно было за двадцать верст в хорошую погоду… Мы хотели тогда, в детстве, сходить в синие горы – не получилось, не вышло… Как иного чего не получается у нас в жизни. Все откладываем на потом. А потом уже никогда не наступает.
Вечером я распечатал Павлово послание, большое письмо, писанное не за день-два, гляди, неделю на него Павел потратил. И всю жизнь.
«Дорогой мой и незнакомый Миша – Михаил Федорович!
Вот – решил я мое переживание, мой сон, мое что-то, чего я и сам не понимаю, тебе послать, больше, понимаешь, некому…
Что я о тебе знаю? Да ничего. В газетах тебя читал, читаю и верю, что это ты, тот самый мальчишка из деревни Тишиной. Я тебя хорошо по Тишиной помню. Думаю, не обсмеешь меня, не станешь изгаляться…
Жизнь прожить – не поле перейти. Много чего передумано и пережито. Всего не расскажешь. Да и кому это надо? Одно скажу: я пытался жить честно, чуть не сказал – по законам божеским, да не могу. Мое поколение не верит в бога, а если кто иногда и бросается в религию, то это скорей мода, а не вера в бога. Я не верю в их веру. Даже если бы и был бог, какое ему дело до конкретного меня. И еще: почему между мной и богом, богом и мной должна стоять какая-то церковь. Общественные системы, в том числе и церковь, непременно консервативны, они обязательно стремятся к сохранению существующего положения вещей, чтобы, значит, не оскудела церковная дароносица, чтобы всегда, во веки веков, кормили прихожане своих пастырей и не думали бы ни о каком прогрессе в истории.
Я это все потому пишу, что все это так или иначе связано с моим сном-явью… Впрочем, давай-ка по порядку…»
Прочитал я послание Павла ко мне. Раз прочитал и второй, отложил его на месяц и еще перечитал. Да так вот и почти пять лет прошло с ночи, когда во второй раз умер Павел, мой полузабытый приятель зоревых лет. Я нет-нет, да и возвращался к его письму, перечитывал и размышлял и не знал, что же мне с ним делать.
А вот совсем недавно понял я и решил, что надо бы довести до сведения людей письмо деревенского мыслителя, – тех людей, которым оно покажется интересным. Вот я и отдаю его в печать, ничего в нем не меняя по сути, разве что кое-где запятые поставил. Напомню, оно Павлом было написано в начале восьмидесятых годов, когда он вернулся домой из больницы после тяжелого инфаркта. Вот оно – это письмо.
«Это, выходит, я умирал и умер. Таков был диагноз районных врачей: клиническая смерть от инфаркта миокарда… Я умирал, а мне снился сон, яркий и волшебный, не сон – явь, настолько все было взаправдашним, красочным, чувственным и реальным.
Мне снилось, будто лечу я над Атлантическим океаном. Высоко-высоко. Я лежу неизвестно на чем, удобном, неощутимом и очень комфортном. Я гляжу с высоты вниз на голубой, лазурный океан, на юг в сторону экватора. Между мной и океанским простором нет никаких преград, ни стекла, ни пленки. И тихо-тихо. Ни ветерка, ни дуновения. И никакого страха. Наоборот, – восторг свободного полета, счастье и воля, какой никогда не было прежде. Удобно, легко и радостно, как в детстве. Полное освобождение от всего на свете – ни долгов, ни обязанностей и никаких желаний. Лечу – и мне удивительно хорошо, блаженно.
Подо мной бирюзовый океан. Над ним редкие-редкие голубовато-перламутровые облака, кудрявые пушинки, не закрывающие вида на водную гладь. Они мягко освещены сбоку теплым розовато-желтым, золотистым светом. Весь океан покрыт тонкой сетью ряби, по которой кое-где видны следы проходящих кораблей, хотя самих судов мне отсюда не видно – слишком малы…
Я лечу с запада на восток, от Америк к Африке и Европе. Вижу, как справа и позади медленно уплывают в туман, за горизонт северо-восточные берега Южной Америки, Антильские острова, Гаити и Куба. Я вижу даже мутные шлейфы выносов Амазонки в лазури океанических вод. Там, в Америке, все изумрудно-зеленое: влажные тропики. А море между мной и Кубой тоже не голубое, а зеленое, наверное, Саргассово море…
Слева от меня, там, куда я лечу, иссушенная жарой и бешеным солнцем, желто-красная земля Африки – Марокко. Я откуда-то знаю, что тут за десять последних лет только один раз выпадал дождь. На кирпичном фоне Африканского материка видна в мареве расплывшаяся белая точка – город Касабланка.
Сквозь прозрачный туман проглядывает Гибралтарский пролив, левее – Пиринеи, тоже желтые и выжженные солнцем. Только долины немногочисленных речек, протянувшихся с полуострова к Атлантике, еще заметно зелены. Хорошо вижу западный мыс Пиринеев – Финис терре – земле предел…
Я с интересом, внимательно оглядываю громадную картину, так широко раскинувшуюся подо мной. Я захвачен удивительным зрелищем до такой степени, что не сразу и замечаю, что слева от меня, где сердце, лежит женщина. Она молодая и незамутненно чистая. И хотя женщина совершенно нагая, меня нисколечко не волнует ее обнаженность. Она тепла, нежна, она согревает меня, я чувствую это. Нет во мне никаких мужских устремлений, будто бы не женщина она, а… ангел, что ли…
– Ты кто? – спрашиваю я. Нет, не так. Вот так: – Ты… кто?
Я просто так спрашиваю, чтобы что-то спросить, чтобы не показать свою невежливость, уж слишком меня захватывает и картина земли внизу, и чувство моей полной свободы и счастья.
– Я… твоя… жизнь, – тихо отвечает она. И эта неожиданная весть не очень удивляет меня, ну, жизнь так жизнь… Я еще какое-то время смотрю на океан, на приближающиеся Атласские горы и Гибралтар, потом только спрашиваю:
– Почему я не видел тебя никогда раньше?
Она молчит, вроде бы соображает, отвечать ли мне. Потом говорит:
– Люди видят свои жизни раз, пока живут, только тогда, когда они разлучаются с ними. Нам с тобой предстоит расстаться… Надолго…
– Как… надолго?.. Разве мы свидимся когда-нибудь?
– Кто знает… – вздыхает она. В том, как она произнесла все это, читается сожаление и чуточку тоска. Ей не хочется разлучаться со мной…
А мне вольно и хорошо. Безмерное счастье переполняет меня, оно не исчезает даже от вести, от скорой разлуки с жизнью. Я смотрю на океан. Мне кажется, я вижу все-таки точечки кораблей в вершинах светлых треугольников, там и сям нарисованных в океанской водной лазури. Они движутся по предписанным им путям. Я удивляюсь остроте обретенного мною зрения… Как в детстве…
Потом я гляжу на женщину:
– Я не знал, что ты у меня… такая… красивая…
И снова она довольно долго молчит, прежде чем ответить на мои слова, которые, кажется, и не требуют никакого ответа…
– Мы, жизни, у всех рождаемся красивыми… Никогда не появляется на свет изначально уродливая или безобразная жизнь… Это уже потом вы, люди, делаете все, чтобы обезобразить нас… Вы ленитесь, лжете, переедаете и перепиваете, деретесь, воюете, наносите нам увечья и травмы, уродуете нас физически и духовно… Ты и сам знаешь об этом, ты размышлял…
Мы вновь молчим. Я чувствую, что соседка уже занимает меня как собеседница не меньше, чем простор океана подо мною.
– Ты у меня такая молодая… А ведь мне скоро – шестьдесят. Отчего так? Ведь мы ровесники…
– Жизни человеческие рассчитаны не на года… У нас в запасе – столетия… У тебя детский возраст… Шестьдесят! Ты же только начинаешь жить… Ты еще не кончил своих университетов… Ты все еще учился и учился, ты с каждым днем становился мудрее. Разве ты не чувствуешь этого?
Она говорит неспешно, раздумчиво. И все же я улавливаю в ее словах укоризну, вот-де я… от тебя завишу… а ты… Ее слова заставляют меня размышлять, давать самому себе отчет за прожитую жизнь… И ей…
– Не мы – жизни, вы – живущие, ты – виноваты в наших преждевременных разлуках…
Я смотрю на приближающиеся Пиринеи, вижу португальский мыс Рока, долину реки Тэжу, Лиссабон и сухие горы вдали, так похожие на нашу Хакасию. Стрелы корабельных трасс нацелены на Лиссабон, как магнитные линии на полюс Земли…
– Ты сказала, мы расстаемся надолго… Разве мы встретимся когда-нибудь? – Я повторно задаю ей этот вопрос, я повторяюсь, но она ведь не ответила мне на него, и это, должно быть, чуточку больше интересует меня, чем все другое сейчас. Это же что-то вроде «быть или не быть?»
– Ведь если мы встретимся, значит, есть Бог?
Она отвечает сразу, будто ждала этого вопроса и будто заранее приготовила ответ на него:
– Скажи мне, чем идея Бога лучше, выше, оригинальнее, чем идея Человека? – Она умолкла, дает мне время на размышления… – Ты мыслишь. Ты познаешь мир. Ты преобразуешь его, да еще как! Вон – земная природа уже страждет от тебя… Чего тебе еще надо? Чем ты не Бог? Тем, что бесконечно глуп? Дай-ка человеку за плечи бесконечность во времени…
Мы летим над землей, над океаном, летим медленно, очень медленно, но мне так хорошо, что этот неспешный полет совсем не докука, а глубокая, совершенная, абсолютная радость, какой у меня никогда прежде в помине не было. Наш разговор для меня, как и его смысл, не безусловная цель, не нечто, без чего я не смогу лететь сейчас… Мне, пожалуй, интереснее, чем наша беседа, Средиземное море, которое проглядывает в легкой затуманенности за Атласскими горами, за Гибралтарской вершиной, за древними Столбами Геракла. Сквозь серебристую кудельку перистых облаков далеко на юге вздымается острый вулканический пик – Тенериф…
– Вулкан Тейде, – говорит жизнь. – Ты не знал…
– Знал…
– Ты много знал. Жаль, ты все хранил в себе. Ты был скрытен и ленив. Ты бы мог больше рассказывать людям. Не сумел, не захотел. Все откладывал на потом…
Меня чувствительно укололо прошедшее время глаголов: «был», «не сумел». Однако боль укола проходит сразу же. И я молчу, не знаю, что тут ей сказать. Да к тому же – мне так славно, так ладно – мирово, говорили мои ребятишки… Должно быть, отпустила головная боль, порожденная гипертонией, мучившая меня с вечера… Мне легко и безмятежно, как в детских снах, в далеких, в которых тоже летал, но не так, как теперь, а приземленнее, ниже, над самой травой, по-над домами, над улицей…
– Ты спросил о Боге, – кажется, жизнь впервые взяла из моих рук нить разговора. – Ты подумай, если бы вы, люди, были гуманны, если бы вы не уничтожали друг друга в бесчисленных войнах писаной и неписаной истории, не сжигали бы друг друга на кострах – вот тут, в Испании, в печах концлагерей – вон там, в Германии, не морозили бы насмерть в тундрах Колымы и Таймыра, что было бы? И ведь заметь себе, всегда – всегда! – самых лучших, самых талантливых: даровитейших людей планеты, пресекая генетические нити развития мысли на Земле, мысли и инициативы. Что было бы? Как вы нетерпеливы, завистливы, враждебны друг к другу!
Она вновь смолкает. Я смотрю на нее, но не могу поймать ни выражения ее лица, ни облика, она как бы абстрактна… На кого она похожа?.. Не знаю… Я никогда не видел ее раньше. Никогда. Я не знал ее. Странно, ведь это же моя жизнь!
– Если бы вы не уничтожали друг друга, вам бы уже давно открылись звездные миры. И жить бы вам, человечеству, миллиарды лет… О Боге? А что, может быть, и есть во Вселенной состоявшиеся цивилизации. И им – уже миллиарды лет. Как они могущественны! Они сами могут создавать миры и населять их продуктами своего ума и своих рук…
Первый раз за весь разговор жизнь говорит со страстью, даже заторопилась… «Учит, жизнь учит, – подумал я. – Говорят же, жизнь научит. Должно быть, так, жизнь, она всегда умнее самого человека. Жизнь, она навроде матери, а мы дети ее, неразумные даже в зрелые годы, нам бы все вместо хлеба – конфеты, вместо молока – коньяк… Поздно ты меня учишь, жизнь, поздно… Если бы всему этому учили нас с детства, всех – доброте, самоотверженности, умению радоваться чужому успеху, как своему, воинственному неприятию эгоизма… Эх-ма! Я опять толкую о воинственном, в крови это у нас, в мозгах костей…»
– Люди давно стали бы богами, если бы жили заветно и чисто, как… Хосе Марти, – она кивает на затерявшуюся в тумане, уплывшую за круглый горизонт Америку. – Или вот – Риего, Рафаэль Риего-и-Нуньес, – снова жест, на этот раз вниз, в сторону Испании…
– Странно, ты называешь воинов…
– Зло нельзя ниспровергнуть даже самыми лучшими словами доброты. Зло – деятельно, добро – созерцательно. Зло, исходящее от кучки негодяев, распространяется чуть ли не на все человечество. Люди, воюющие со злом, достойны памяти человечества, как и личности, дарующие миру добро. Слава человеку, изобретшему колесо. Слава человеку, рассказавшему людям о природе вещей.
– Тит Лукреций Кар?
– Не только. И Сократ, и Платон, и Леонардо, и Кант. Человек, давший основы познаваемости мира, тоже достоин памяти людской…
И опять долгая-долгая пауза… Интересно, хоть какие-нибудь станции засекли мой пролет в космическом пространстве? Вот – летит искорка. Чего? Жаль. Жаль.
– Я… Не хочу… расставаться с тобой… Я люблю тебя, жизнь…
– Поздно, Паша, поздно… У тебя остановилось сердце… Ты сам виноват в этом… А утверждаешь, что любишь меня… – Она горько и больно улыбнулась, отчего горько и больно стало и мне. – Ты всегда слишком сильно болел за всех, все норовил головой прошибить стенку, а стенка-то стена, а стена-то – китайская…
– Но ведь я не мог по-другому…
– Не мог…
Она вновь смолкает, и пауза длится долго, мне время предоставлено все вспомнить, все, что ставится мне вот сейчас в вину, в упрек, в заслугу…
– Люди сами виноваты в своих несчастьях…
Сами виноваты. Мы сами виноваты во всех наших бедах… Жизнь снова смолкает. Молчу и я. Под нами лазоревые светятся туманы. Земля теряется в них. И уже уплывают Пиринеи за размытое полукружие горизонта…
Где-то впереди, далеко-далеко, на востоке, может быть, там, где мой Енисей, я вижу черную стену. Там – граница света и тьмы. Над беспросветностью тьмы, высоко, горят знойные звезды – чьи-то маяки во Вселенной…»
Вот и весь рассказ учителя-пенсионера из глухой деревеньки Тишина таежного района. Сколько раз я перечитывал Павлово письмо, перелистывал, пересматривал, и каждый раз слышался мне в рассказе Павла Андреевича тихий укор в мой адрес: он, сельский мыслитель, всю жизнь помнил обо мне, ибо мы вместе с ним встретили утро жизни, а вот я о нем напрочь забыл. Что мы когда-то с кем-то из детского садика в тайгу сбежали из чувства протеста за содеянную по отношению к нам несправедливость, – это я помнил, а вот что со мной был еще и Пашка Тишин, голову на отсечение – не помню, забыл. Тоскливо…
И еще. К письму Павла на отдельном листке приложены были стихи. Мне определенно показалось, что они прямое продолжение его рассказа. Наверно, именно поэтому я и решил приложить их тут, к тишинскому посланию. Вот они.
Окончен бал…
Все выпито и спето…
Теперь в полет!
Иные ждут края.
Там нет ни зим, ни весен —
Вечно лето,
И вечно юность,
Молодость моя.
Окончен бал…
Трезвея, вижу ясно:
Дни зла. Дни радостей —
Все были хороши…
И кажется, что
Не невероятно
Безумное бессмертие души…
Что предо мною?
Что за мною?
Вечность?
А я в ней лишь единственный фотон,
Бессмысленно попавший в бесконечность?
Что было до?
И что придет потом?
Неведомо, незнаемо, незримо…
Как метеор в ночи,
Мелькнул – и нет!
Немое время мчит неудержимо,
Ткет кружева орбитами планет…
Зачем?
Зачем подарено мне это:
Крик при рождении,
Опиум зари,
Уколом в сердце – лес,
Тропинка в лето —
Мгновенья жизни и…
Предсмертный хрип.
Что это было?
Дар ли?
Наказанье?
Ответа нет…
Ответа нет…
И вот —
Росисто-радужно мерцает мирозданье…
И знаешь, мне…
Желанен мой полет…
Куда лечу?
Зачем лечу?
Не знаю.
Свободен, словно ласточка в полях…
Прости, Земля…
Прости меня, родная…
О, Боже, как…
Галактики…
Пылят…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?