Текст книги "Белый шум"
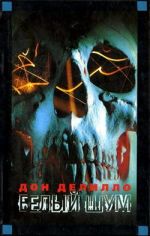
Автор книги: Дон Делилло
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он сожрал новую порцию пилюль, высыпав половину на свои бадвайзерские шорты. Я продвинулся еще на шаг. По всему огнеупорному ковру были разбросаны треснувшие таблетки дилара. Раздавленные, растоптанные. Несколько таблеток Минк швырнул в экран. Телевизор был серебристый, отделан ореховым шпоном. Картинка непрерывно скакала.
– А теперь я беру металлический тюбик золотой краски, – сказал он. – При помощи мастихина и непахучего скипидара сгущаю краску на своей палитре.
Мне вспомнился рассказ Бабетты о побочных эффектах препарата. Я сказал, для проверки:
– Самолет падает!
Он посмотрел на меня, схватившись за подлокотники кресла, и в глазах у него появились первые признаки паники.
– Самолет резко теряет высоту! – сказал я, твердо, властно.
Он сбросил сандалеты и согнулся, приняв позу, которую рекомендуют принимать при авиакатастрофах – низко опустив голову и сцепив пальцы рук под коленями. Этот маневр он проделал машинально, с ловкостью феноменально гибкого акробата, самозабвенно, как ребенок или мим. Интересно. Препарат не только заставляет человека путать слова с явлениями, которые они обозначают; человек и действовать начинает утрированно. Я смотрел, как он сидит, согнувшись и дрожа. Таков мой план. Заглядывая в окна, осмотреть комнаты по периметру, войти без доклада, довести его до дрожи, выстрелить в него максимум три раза, свернуть на дорогу вдоль берега реки, закрыть дверь гаража.
Я сделал еще один шаг к середине комнаты. Картинка на экране дрыгалась, дрожала, запутывалась, а Минк представлялся мне все яснее. Самая суть явлений. Фактическое положение вещей. В конце концов, он с трудом разогнулся и удачно поднялся с кресла, выделившись четким контуром в насыщенном воздухе. Повсюду белый шум.
– Содержит препарат железа, никотиновую кислоту и рибофлавин. Английский я выучил в самолетах. Это международный язык авиации. Зачем вы пришли, белый человек?
– Хочу купить.
– Вы совсем белый, знаете?
– Это потому что я умираю.
– Лекарство быстро восстановит ваши силы.
– Я все равно умру.
– Но это уже не будет иметь значения, то есть будет не так уж важно. Некоторые из этих игривых дельфинов снабжены радиопередатчиками. Возможно, благодаря их дальним странствиям мы узнаем много интересного.
Мое сознание продолжало проясняться. Предметы светились, дышали тайной жизнью. Вода барабанила по крыше удлиненными сферами, каплями, которые разлетались брызгами. Я впервые понял, что представляет собой дождь на самом деле. Понял, что значит вымокнуть. Постиг биохимические процессы, происходящие в моем мозге, постиг смысл сновидений (отработанного материала предчувствий). Повсюду интереснейшие данные, быстро заполняющие комнату – быстро, но не сразу. Насыщенность, плотность. Я верил всему. Я был буддистом, джайнистом, баптистом реки Дак. Единственная печаль – Бабетта, которой приходилось целовать типа со впадиной на физиономии.
– Она приходила в лыжной маске, чтобы не целоваться со мной, говорила, это не по-американски. Я объяснял ей, что комнаты находятся внутри. Нельзя входить в комнату, не согласившись с этим. В этом же вся суть, в отличие от новообразовавшихся береговых линий, континентальных плато. А можно есть натуральную крупу, овощи, яйца без рыбы, без фруктов. Или фрукты, овощи, животные белки без крупы, без молока. Или пить много соевого молока ради витамина В-12 и есть много овощей, чтобы регулировать выделение инсулина, но не есть ни мяса, ни рыбы, ни фруктов. Или есть белое мясо, но не есть черного. Или потреблять В-12, но никаких яиц. Или яйца, но никакой крупы. Существует бесчисленное множество полезных сочетаний.
Я уже готов был убить его. Но не хотелось ставить под угрозу выполнение плана. План был тщательно продуман. Проехать мимо места несколько раз, пешком подойти к мотелю и, поворачивая голову, осмотреть комнаты по периметру, установить местонахождение мистера Грея под его настоящим именем, войти без доклада, завоевать его доверие, постепенно продвинуться вперед, довести его до дрожи, усыпить бдительность, выхватить автоматический пистолет «Цумвальт» двадцать пятого калибра, выпустить три пули ему в живот, чтобы боль длилась максимально долго, сильно и нестерпимо, стереть с оружия все отпечатки, вложить оружие в руку жертвы для создания правдоподобной картины банального и вполне предсказуемого самоубийства не покидавшего мотель затворника, кровью жертвы намалевать на стенах грубые слова как свидетельство последнего припадка безумия, связанного с неким культовым ритуалом, забрать весь запас дилара, незаметно вернуться к машине, выехать на скоростную автостраду, ведущую в Блэксмит, оставить машину Стовера в гараже Тридуэлла и под дождем, в тумане, пойти пешком домой. Стараясь выглядеть внушительно и грозно, я вышел из полумрака вперед, в зону мерцающего света. Сунул руку в карман, сжал пистолет. Минк смотрел на экран. Я тихо сказал:
– Град пуль. – Держа руку в кармане.
Доверчивый, как ребенок, он бросился на пол и пополз к ванной комнате, оглядываясь через плечо, разыгрывая целую пантомиму, действуя в высшей степени обдуманно, но в то же время не скрывая объявшего его ужаса, дивного раболепного страха. Я направился следом, пройдя мимо большого зеркала, перед которым они с Бабеттой, без сомнения, принимали разнообразные позы, а его жалкий член висел при этом, как у жвачного животного.
– Расстрел, – прошептал я.
Закрыв голову обеими руками и плотно сдвинув ноги, он попытался заползти за унитаз. Я угрожающе маячил в дверях, сознавая угрозу, видя себя глазами Mинка – огромным, опасным. Настала пора сообщить ему, кто я такой. Это входило в мой план. План был следующий: сообщить ему, кто я такой, объяснить, по какой причине его ждет медленная и мучительная смерть. Я назвал себя, сказал, кем приходится мне женщина в лыжной маске.
Закрыв ладонями промежность, он попытался влезть под туалетный бачок, за унитаз. Насыщенность шума в комнате одинакова на всех частотах. Звук отовсюду. Я достал «Цумвальт». Меня обуревали сильные, невыразимые чувства. Мне стало ясно, кто я такой в этом хитросплетении смыслов. Вода падала на землю каплями, благодаря чему поверхности отражали свет. Я все видел по-новому.
Минк убрал одну руку с промежности, поспешно достал из кармана очередную пригоршню таблеток, швырнул их себе в открытый рот. На фоне дальней белой стены, на фоне белого жужжания, белело его лицо – внутренняя поверхность сферы. Он приподнялся и, разорвав карман рубашки, нашарил еще пилюли. Его страх был прекрасен. Он сказал мне:
– Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему из всех тридцати двух зубов именно эти четыре причиняют столько беспокойства? Я вернусь с ответом через минуту.
Я выстрелил из пистолета, из пушки, из ствола, из автоматического огнестрельного оружия. Звук выстрела, и без того оглушительный, усиливался волнами, отраженными от белых стен. Я смотрел, как из живота жертвы слабой струей бьет кровь. Изящной дугой. Я любовался ярким цветом, ощущал цветообразующее действие клеток, лишенных ядер. Струя превратилась в тонкую струйку, растеклась по кафельному полу. Я видел то, чего не передать словами. Я знал, что такое красный цвет, смотрел на него с точки зрения длины преобладающей волны, силы света, частоты. Боль Минка была прекрасной, сильной.
Я выстрелил второй раз – просто для того чтобы выстрелить, вновь пережить то же ощущение, услышать, как наслаиваются друг на друга звуковые волны, почувствовать, как сила резкого толчка поднимается по руке к плечу. Пуля вонзилась ему прямо в правую тазовую кость. На шортах и рубашке появилось темно-красное пятно. Я сделал паузу, чтобы уделить Минку внимание. Он сидел, втиснувшись в пространство между унитазом и стеной, в одном сандалете, глаза – сплошные белки. Я попытался увидеть себя с точки зрения Минка. Внушительный и грозный, способный подчинять людей своей воле, обретающий жизненную силу, накапливающий кредит на жизнь. Но он зашел слишком далеко, чтобы иметь точку зрения.
Все шло хорошо. Приятно сознавать, как хорошо все идет. Грузовики грохотали над головой. Занавеска душа пахла заплесневелым винилом. Насыщенность, плотность, сила разящего удара. Я подошел к скорчившейся на полу фигуре, стараясь не ступать в кровь, не оставлять разоблачительных следов. Достал свой носовой платок, тщательно вытер оружие, вложил его в руку Минка, осторожно убрав платок, аккуратно, один за другим, согнув его костлявые пальцы так, чтобы они обхватили рукоятку, и виртуозно просунув указательный палец в рамку спускового крючка. На губах у него выступила пена, совсем немного. Я отступил назад, чтобы взглянуть на последствия роковой минуты, окинуть взором место гнусного насилия и одинокой смерти на мрачных задворках общества. Таков был мой план. Отступить назад, внимательно взглянуть на все это убожество, убедиться, что не допущено ни единой ошибки.
Глаза Mинка вылезли из орбит. На миг в них отразился свет. Он поднял руку, спустил курок и ранил меня в запястье.
Весь мир схлопнулся, все эти живые, четкие структуры и связи оказались погребенными под могильными холмами обыденности. Я был разочарован. Уязвлен, ошеломлен и разочарован. Что случилось с высшим энергетическим уровнем, на котором я осуществлял свой замысел? Боль была жгучей. Вся рука от кисти до локтя была в крови. Я застонал и шатаясь попятился назад, глядя, как кровь капает с кончиков пальцев. Я был ошарашен, встревожен. На краю моего поля зрения появились цветные пятнышки. Знакомые пляшущие крапинки. Новые измерения, сверхъестественная способность к тонким наблюдениям – все свелось к визуальному хаосу, кружащемуся месиву, лишенному смысла.
– А это, возможно, представляет собой переднюю границу чуть более теплого воздуха, – сказал Минк.
Я посмотрел на него. Жив. Колени залиты кровью. Восстановился порядок вещей и нормальное восприятие, я осознал, что впервые вижу в нем личность. В голове вновь возникла путаница, причуды и выверты, издревле свойственные человеку. Сострадание, угрызения совести, милосердие. Но я не мог помочь Минку, не оказав сначала первую помощь себе. Снова достав платок, я ухитрился правой рукой и зубами крепко перетянуть запястье прямо над пулевым отверстием, то есть между раной и сердцем. Потом, сам толком не зная зачем, высосал из раны немного крови с пульпой и все это выплюнул. Пуля, не успев проникнуть глубоко, отклонилась от траектории и прошла навылет. Здоровой рукой я схватил Минка за босую ногу и поволок по заляпанному кровью кафелю. Пистолет был по-прежнему зажат у него в руке. Во всем этом виделось какое-то искупление. Я тащу его вперед ногами по кафелю, по усыпанному таблетками ковру, тащу за дверь, в ночную тьму. Нечто очень важное, возвышенное и театральное. Неужели лучше совершать злодеяния и пытаться искупить их, чем жить стоически спокойной, серой жизнью? Помню, я чувствовал себя добродетельным. Волок тяжелораненого по пустынной, темной улице и чувствовал себя запятнанным кровью и исполненным достоинства.
Дождь уже кончился. Потрясающе, как много крови мы за собой оставляем. Большей частью – крови Минка. Весь тротуар в полосах. Интересные культурные отложения. Минк с трудом поднял руку и высыпал себе в глотку очередную порцию дилара. Рука, в которой был пистолет, волочилась по земле.
Мы добрались до машины. Минк непроизвольно дернул ногой и принялся биться и вертеться, немного напоминая рыбу на берегу. От недостатка кислорода он задыхался и прерывисто хрипел. Я решил попробовать искусственное дыхание «изо рта в рот». Наклонившись, зажал ему нос двумя пальцами, как прищепкой для белья, попытался прильнуть к его губам своими. Из-за неловкости и отталкивающей интимности поступок этот казался еще более благородным – в данных обстоятельствах. Еще более значимым, более великодушным. Я все пытался добраться до рта M инка, чтобы мощными струями вдохнуть воздух ему в легкие. Уже стиснул губы, готовясь вытянуть их трубочкой. Минк смотрел, как я наклоняюсь. Возможно, думал, что я хочу его поцеловать. В этом крылась ирония, и я ее смаковал.
Рот его был забит диларовой пеной, недожеванными таблетками, крошками полимера. Я чувствовал себя великодушным и самоотверженным, я не унижался до мелочных обид. Мой поступок был ключом к бескорыстию, а может, так лишь казалось на захламленной улице под автодорожной эстакадой, когда я стоял над раненым на коленях и ритмично выдыхал воздух. Преодолеть отвращение. Простить подлеца. Принять его таким, какой есть. Через несколько минут я почувствовал, что он приходит в себя, начинает размеренно дышать. Я так и не выпрямился, наши губы почти соприкасались.
– Кто меня ранил? – спросил он.
– Вы.
– Кто ранил вас?
– Вы. Пистолет у вас в руке.
– Что я пытался доказать?
– Вы не владели собой. Не отвечали за свои поступки. Я вас прощаю.
– Кто вы, собственно, такой?
– Прохожий. Друг. Не важно.
– У одних многоножек есть глаза, а у других нет.
С большим трудом, после множества неудачных попыток, я наконец затащил его на заднее сиденье, где он и растянулся, застонав. Уже невозможно было определить, чья кровь у меня на руках и одежде – его или моя. Мое человеколюбие не знало границ. Я завел мотор. Боль в руке запульсировала, стала менее жгучей. Взявшись за руль одной рукой, я поехал по пустынным улицам Айрон-Сити искать больницу. Городской родильный дом. Дом Матери милосердной. Сочувствия и Гармонии. Я был согласен на все, даже на травмпункт в самой отвратительной части города. Ведь именно туда мы обычно попадаем со множественными ножевыми ранениями, входными и выходными отверстиями, ранами, нанесенными тупыми предметами, с травмами, передозировкой, острым бредом. За все время по улицам проехали только молочный фургон, хлебный фургон да несколько больших грузовиков. Небо начинало светлеть. Мы подъехали к трехэтажному зданию с неоновым крестом над входом. Оно вполне могло оказаться церковью пятидесятников, детским садом, штаб-квартирой какого-нибудь международного движения молодежных организаций.
Там был пандус для инвалидных колясок, а значит, я мог дотащить Минка до главного входа, не заставляя биться головой о бетонные ступеньки. Я выволок его из машины, схватил за гладкую босую ногу и начал подниматься. Одну руку он прижимал к животу, пытаясь остановить кровотечение. Рука, в которой он держал пистолет, волочилась сзади. Светало. То была великолепная минута – минута жалости, героического сострадания. Ранив его, убедив его в том, что он сам себя ранил, я, как мне казалось, поступил благородно по отношению к нам обоим, ко всем нам – ведь, деля с ним судьбу, я фактически спасал ему жизнь. Медленно, шаг за шагом, я тащил за собой его тяжелое тело. Мне и в голову не приходило, что попытки человека обелить себя могут продлевать его душевный подъем при совершении преступления, которое он затем стремится оправдать.
Я позвонил в дверь. Всего через несколько секунд кто-то открыл. Старуха, монахиня в черной рясе с черным покрывалом, опирается на клюку.
– Мы ранены, – сказал я, показав ей запястье.
– Мы тут и не такого насмотрелись, – подчеркнуто сухо ответила она и, повернувшись, направилась в глубь помещения.
Я поволок Минка через вестибюль. Судя по всему, то была какая-то клиника: приемные, перегороженные ширмами кабинеты, двери с табличками «Рентген», «Окулист». Старая монахиня привела нас в травматологическое отделение. Появились двое санитаров – здоровенные коренастые мужики, сложенные, как борцы сумо. Они перенесли Mинка на стол и привычными быстрыми движениями ловко сорвали с него одежду.
– Реальные доходы с учетом инфляции, – сказал он.
Переговариваясь по-немецки, вошли другие монахини, энергичные старушки. Принесли капельницы, прикатили тележки с блестящими инструментами. Первая монахиня подошла к Минку и взяла из его руки пистолет. Я смотрел, как она бросает его в ящик стола, где уже лежало с десяток других пистолетов и с полдюжины ножей. На стене висела картина: Джек Кеннеди и Папа Иоанн XXIII держатся за руки в раю. В раю было довольно облачно.
Вошел врач – пожилой человек в поношенном костюме с жилетом. Поговорил по-немецки с монахинями и осмотрел Минка, уже частично накрытого простынями.
– Никто не знает, почему морские птицы прилетают в Сан-Мигель, – сказал Вилли.
Он уже начинал мне нравиться. Первая монахиня отвела меня в палату и принялась обрабатывать рану. Я хотел было поведать ей свою версию событий, но она не проявила интереса. Я сказал, что это старый пистолет со слабыми пулями.
– В этой стране кругом насилие.
– Вы давно живете в Немецком квартале? – спросил я.
– Мы последние из немцев.
– А кто теперь здесь живет, большей частью?
– Большей частью – никто, – сказала она.
Мимо прошли другие монахини – с крупными четками на поясах. Вид этих женщин немного развеселил меня: именно такая однотипная внешность вызывает у людей улыбку в аэропортах.
Я спросил у своей монахини, как ее зовут. Сестра Герман-Мари. Я сказал, что немного знаю немецкий, – пытался так снискать ее расположение, как всегда поступал, общаясь с медицинским персоналом любого уровня, по крайней мере на ранних стадиях, пока собственные страх и подозрительность не лишали меня всякой надежды на успешность маневра.
– Гут, бессер, бест, – сказал я.
На ее изрытом морщинами лице появилась улыбка. Я похвастался умением считать, показал на некоторые предметы и сказал, как они называются. Монахиня довольно кивала, промывая мне рану и перевязывая запястье стерильным бинтом. Сказала, что шину накладывать не нужно, а доктор выпишет рецепт на антибиотики. Мы вместе сосчитали до десяти.
Появились еще две монахини, дряхлые, худые и морщинистые. Моя монахиня что-то сказала им, и вскоре мы, все вчетвером, повели приятный разговор, скорее напоминающий детскую игру. Мы перечисляли цвета, предметы одежды, части тела. В компании этих говорящих по-немецки старух я чувствовал куда непринужденнее, чем среди гитлероведов. Быть может, перечисление названий – занятие настолько невинное, что оно угодно Богу?
Сестра Герман-Мари в последний раз проверила, хорошо ли наложена повязка. Я сидел лицом к изображению Кеннеди и Папы Римского в раю. Втайне я восхищался этой картиной. Она поднимала настроение, помогала воспрянуть духом. Президент и после смерти бодр. Папа так и лучится добродушием. А вдруг все это правда? Вдруг они действительно встретились где-нибудь в заранее назначенном месте, на фоне пушистых кучевых облаков, – встретились и пожали друг другу руки? Вдруг все мы встретимся, словно в какой-нибудь эпической поэме о меняющих облик богах и простых смертных, встретимся на небесах, окрепшие и просветленные?
Я спросил у своей монахини:
– Каково в наши дни мнение Церкви о рае? Тот ли это рай, как здесь, на небесах?
Она обернулась и взглянула на картину.
– Вы что, за дурочек нас держите?
Столь резкий ответ меня удивил.
– Тогда что же такое рай, по мнению Церкви, если не обиталище Бога, ангелов и душ тех, кто спасен?
– Спасен? Что значит спасен? Только круглый дурак придет сюда болтать об ангелах. Покажите-ка мне ангела. Сделайте милость. Я хочу посмотреть.
– Но вы же монахиня. А монахини во все это верят. Когда мы видим монахиню, у нас поднимается настроение. Забавно и приятно вспомнить о том, что кто-то еще верит в ангелов, в святых, во все эти предания.
– Неужели вы во все это верите, дурья голова?
– Не важно, во что я верю. Главное – во что верите вы.
– Это правда, – сказала она. – Неверующим нужны верующие. Им ужасно хочется, чтобы кто-то верил. Но покажите мне святого. Дайте хоть один волосок с тела святого.
Она наклонилась ко мне – каменное лицо, обрамленное черным покрывалом. Мне стало немного не по себе.
– Мы здесь для того, чтобы заботиться о больных и раненых. И только. А если хотите поболтать о рае, лучше найдите другое место.
– Другие монахини ходят в платьях, – рассудительно сказал я. – А вы здесь по-прежнему носите старую форму. Рясу, покрывало, старомодные башмаки. Вы должны верить в древние предания. В привычные рай и ад, в католическую мессу. В то, что Папа Римский непогрешим, а Бог создал мир за шесть дней. В великие древние догматы. В то, что ад – это пылающие озера, крылатые демоны.
– Неужели непременно надо приходить сюда с улицы, истекая кровью, и рассказывать мне о сотворении мира за шесть дней?
– На седьмой Он отдыхал.
– Неужели непременно надо болтать об ангелах? Здесь?
– Конечно здесь. Где же еще?
Озадаченный, обескураженный, я чуть не сорвался на крик.
– А почему не о воинствах небесных, что пойдут в бой, когда наступит конец света?
– Почему бы и нет? Зачем же вы тогда стали монахиней? Зачем у вас висит эта картина?
– Это для других. Не для нас.
– Но это же курам на смех! Что еще за другие?
– Все остальные. Все, кто всю жизнь верит, будто по-прежнему верим мы. Наша главная обязанность – верить в то, чего больше никто не принимает всерьез. Если полностью отказаться от подобных верований, род человеческий погибнет. Вот зачем нужны мы. Ничтожное меньшинство. Чтобы олицетворять привычные вещи, старые догмы. Веру в дьявола, ангелов, рай, ад. Весь мир рухнет, если мы перестанем притворяться, будто во все это верим.
– Притворяться?
– Конечно притворяться. Вы что, за дурочек нас принимаете? Убирайтесь отсюда.
– Вы не верите в рай? Вы – монахиня?
– Если не верите вы, с какой стати должна верить я?
– Если бы верили вы, может, и я бы поверил.
– Если бы верила я, вам бы не пришлось.
– Вся эта путаница мыслей, привычные причуды и выверты, – сказал я. – Вера, религия, вечная жизнь. Великие заблуждения, издревле свойственные человеку. Вы хотите сказать, что не принимаете их всерьез? Ваше самопожертвование – это лишь притворство?
– Наше притворство – настоящее самопожертвование. Кто-то должен делать вид, что верит. Даже исповедуй мы истинную веру, истинную религию, наша жизнь отнюдь не была бы глубже и осмысленнее. Мир утрачивает веру, и потому именно сейчас людям очень нужно, чтобы верил хоть кто-нибудь. Мужчины с безумным взором, живущие в пещерах. Монахини в черных одеяниях. Монахи, давшие обет молчания. Верить вынуждены мы. Глупцы, дети. А те, кто отказался от веры, просто не могут не верить в нас. Они убеждены, что отказ от веры – правильный поступок, но в то же время понимают, что вера не должна исчезнуть бесследно. Ад – это место, где никто не верит. Всегда должны быть верующие. Глупцы, слабоумные, те, кто слышит голоса, кто говорит на языках всякую околесицу. Мы – ваши безумцы. Мы посвящаем свою жизнь тому, чтобы сделать возможным ваше безверие. Вы убеждены, что поступаете правильно, но в то же время не хотите, чтобы все были с вами согласны. Без глупцов нет истины. Мы – ваши дуры, ваши сумасшедшие, которые встают чуть свет читать молитвы, зажигают свечи, просят у изваяний крепкого здоровья, долгой жизни.
– Вы прожили долгую жизнь. Возможно, это помогает.
Она оглушительно расхохоталась, показав зубы, истлевшие почти до прозрачности.
– Скоро все это кончится. Вы лишитесь своих верующих.
– Выходит, все эти годы вы молились неизвестно за что?
– За весь мир, тупица.
– И ничто не уцелеет? Смерть – это конец?
– Вы хотите знать, во что я верю или какого рода верующей притворяюсь?
– Не желаю этого слышать. Это ужасно.
– Зато чистая правда.
– Вы же монахиня. Вот и ведите себя соответственно.
– Мы даем монашеские обеты. Нищеты, безбрачия, послушания. Осмысленные обеты. Осмысленная жизнь. Без нас вам не выжить.
– Наверняка, среди вас есть такие, кто не притворяется, кто искренне верит. Я знаю, что есть. Вековая вера не улетучивается просто так, за считанные годы. Изучению этих предметов посвящались целые науки. Ангеловедение. Раздел теологии, трактующий исключительно об ангелах. Наука об ангелах. Над этими проблемами размышляли великие умы. Есть великие умы и в наше время. Они по-прежнему размышляют, по-прежнему верят.
– Надо же, пришли сюда с улицы, приволокли за ногу какого-то беднягу, и еще рассуждаете об ангелах, которые живут на небесах. Убирайтесь вон.
Она что-то сказала по-немецки. Я не разобрал. Она вновь заговорила – и говорила долго, наклоняясь ко мне все ближе. В речи ее слышалось все больше резких, гортанных, булькающих звуков. В глазах отражалось неописуемое наслаждение, которое я доставлял ей своим непониманием. Она поливала меня свинцом немецкой речи. Градом слов. Говоря без умолку, она все больше распалялась. В ее голосе появились нотки веселого азарта. Она заговорила быстрее, экспрессивнее. Набухли кровеносные сосуды в глазах и на лице. Я начал улавливать некую модуляцию, размеренный ритм. Она что-то декламирует, решил я. Литании, церковные гимны, катехизисы. А может, молится, размышляя о священных таинствах, подымая меня на смех презрительной молитвой.
Как ни странно, все это показалось мне прекрасным.
Когда ее голос стал слабеть, я вышел из палаты, побродил по клинике и в конце концов нашел старого доктора. «Герр доктор!» – крикнул я, чувствуя себя персонажем какого-то фильма. Он включил слуховой аппарат. Я получил рецепт и спросил, поправится ли Вилли Минк. Нет, не поправится, по крайней мере, в ближайшее время. Но и не умрет. Тут он меня, кажется, обставил.
Домой я доехал без приключений. Машину оставил на дорожке Стоверов. Заднее сиденье было залито кровью. Кровь осталась на руле, на приборном щитке и дверных ручках. Наука, изучающая поведение и развитие человека в культурном контексте – антропология.
Я поднялся наверх и немного понаблюдал за детьми. Все спали, ощупью пробираясь через свои сны, и закрытые глаза быстро двигались под веками. Я лег в постель рядом с Бабеттой, сняв только башмаки – почему-то зная, что это не покажется ей странным. Но в голове по-прежнему мелькали беспокойные мысли, и заснуть я не мог. Через некоторое время спустился на кухню – посидеть с чашечкой кофе, ощутить боль в руке, проверить учащенный пульс.
Не оставалось ничего другого – только дожидаться следующего заката, когда небо окрасится в тона звенящей бронзы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?

































