Текст книги "Белый шум"
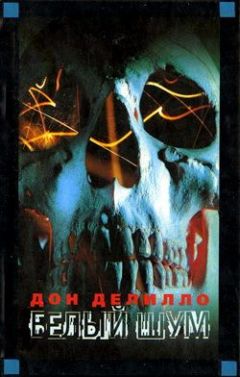
Автор книги: Дон Делилло
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
4
Стоит настать тяжелым временам, как у людей обнаруживается склонность к перееданию. В Блэксмите полным-полно тучных взрослых и детей – коротконогие, они ходят вразвалку, в брюках с пузырями на коленках. Они с трудом вылезают из тесных машин; облачаются в тренировочные костюмы и совершают семейные пробежки, трусцой пересекая ландшафт; ходят по улицам, повсюду видя еду; едят в магазинах, в машинах, на автостоянках, в очередях на автобус и в кинотеатр, под величественными деревьями.
Только пожилые люди, похоже, не помешаны на еде. Хотя им порой не удается контролировать собственные слова и жесты, они при этом отличаются стройными фигурами и здоровым видом. В очереди у входа в супермаркет, где они выбирают тележки для покупок, женщины тщательно ухожены, мужчины решительны и хорошо одеты.
Я пересек лужайку перед школой, обошел здание и направился к небольшому открытому стадиону. По ступенькам стадиона бегом поднималась Бабетта. Я сел в первом ряду каменной трибуны, по другую сторону поля. Небо затянуло слоистыми облаками. Взбежав на самый верх и остановившись передохнуть, Бабетта уперлась руками на высокий парапет и наклонилась. Потом повернулась и стала спускаться. Грудь у нее мерно колыхалась. Слишком просторный спортивный костюм трепетал на ветру. Она шла подбоченясь и растопырив пальцы. Лицо обращено кверху, навстречу свежему ветерку, меня она не видела. Дойдя до нижней ступеньки, обернулась лицом к трибуне и повертела головой, разминая шею. Потом снова побежала наверх.
Три раза Бабетта поднялась по ступенькам и медленно спустилась. Вокруг не было ни души. Она трудилась не жалея сил – непрерывно двигались ноги и плечи, развевались волосы. Добежав до верха, она каждый раз опиралась на парапет и опускала голову, дрожа всем телом. Когда она спустилась в последний раз, я встретил ее на краю поля и обнял, сунув руки под резинку ее серых хлопчатобумажных штанов. Над деревьями появился маленький самолет. Бабетта, потная и теплая, заурчала по-кошачьи.
Она бегает трусцой, разгребает лопатой снег, заделывает трещины в раковине и ванне. Играет с Уайлдером в слова, а ночью, в постели, читает вслух эротическую классику. А что делаю я? Кручу и завязываю мусорные мешки, плаваю взад и вперед в бассейне колледжа. Когда я хожу пешком, сзади бесшумно приближаются бегуны и, обгоняя, вынуждают меня отшатываться в идиотском испуге. Бабетта разговаривает с собаками и кошками. Я вижу цветные пятнышки уголком правого глаза. Бабетта планирует лыжные походы, которые мы никогда не предпринимаем, и при этом сияет от возбуждения. Я пешком поднимаюсь в гору по пути в колледж и замечаю побеленные камни вдоль подъездных аллей новых домов.
Кто умрет раньше?
Этот вопрос возникает время от времени – подобно вопросу о том, где ключи от машины. Он заставляет нас обрывать фразы на полуслове и долго смотреть друг на друга. Быть может, сама эта мысль – часть природы плотской любви, этакий дарвинизм наоборот, согласно которому уцелевшему достаются печаль и страх. А может, некий инертный элемент в воздухе, которым мы дышим, редкость наподобие неона, со своей точкой плавления, своим атомным весом? Я стискивал Бабетту в объятиях на гаревой дорожке. К нам бежали дети – тридцать девчонок в ярких спортивных трусах, невообразимая подпрыгивающая масса. Энергичное дыхание, ритм шагов почти совпадает. Порой наша любовь кажется мне наивной. Вопрос о смерти превращается в прозрачный намек. Он помогает освободиться от иллюзий насчет будущего. Простодушные обречены – или это предрассудок? Мы смотрели, как девчонки пробегают еще один круг, уже растянувшись вереницей, каждая со своим лицом и походкой, почти невесомые в стремлении к финишу, способные приземлиться на нем без особых усилий.
«Марриотт» в аэропорту, «Даунтаун Травелодж», «Шератон», «Конференц-центр».
По дороге домой я сказал:
– Би хочет приехать на Рождество. Можно устроить ее в комнате Стеффи.
– А они знакомы?
– Познакомились в «Диснейуорлде». Все будет нормально.
– Когда это вы были в Лос-Анджелесе?
– Ты хочешь сказать, в Анахайме.
– Когда вы были в Анахайме?
– Ты хочешь сказать, в Орландо. Почти три года назад.
– А я где была? – спросила она.
Моя дочь Би – от брака с Твиди Браунер – в пригороде Вашингтона как раз начинала учиться в седьмом классе и с трудом приспосабливалась к жизни в Штатах после двух лет в Южной Корее. Она ездила в школу на такси, звонила подругам в Сеул и Токио. За границей ей недоставало сандвичей с эскалопом «Трикс» и кетчупом. Ныне же, монополизировав плиту Твиди, ни в чем не уступающую ресторанной, она готовила обжигающие блюда из зеленого лука и мелких креветок.
В тот вечер, в пятницу, мы заказали на дом китайскую еду и все вместе, вшестером, уселись смотреть телевизор. Бабетта взяла это за правило. Видимо, она решила, что если дети будут раз в неделю смотреть телевизор в обществе отца или отчима с матерью или мачехой, то в результате это средство массовой информации лишится в их глазах своего романтического ореола и превратится в полезное семейное развлечение. Будут постепенно ослаблены его подспудное наркотическое воздействие и жуткая, болезненная, отупляющая способность отсасывать мозги. Слушая эти рассуждения, я чувствовал себя ущемленным. Вечер, по существу, превратился для всех в изощренную пытку. Генрих сидел молча и ел блинчики с овощами. Стеффи расстраивалась всякий раз, если казалось, что с кем-нибудь на экране может случиться нечто постыдное или унизительное. Из-за непомерной впечатлительности ей постоянно бывало неловко за других людей. Она то и дело выходила из комнаты и ждала, когда Дениза подаст ей сигнал, что эпизод закончился. При этом Дениза на правах старшей пользовалась случаем, чтобы поговорить с нею о стойкости духа и необходимости всегда быть бесчувственной, толстокожей.
По пятницам, проведя вечер перед телевизором, я, по укоренившейся профессиональной привычке, до поздней ночи вдумчиво изучал литературу о Гитлере.
В одну из таких ночей я лег в постель рядом с Бабеттой и сообщил ей, что еще в шестьдесят восьмом году ректор посоветовал мне как-то изменить имя и внешность, если я хочу, чтобы меня всерьез считали новатором в гитлероведении. «Джек Глэдни» не годится, сказал он и спросил, какими еще именами я мог бы воспользоваться. В конце концов мы сошлись на том, что мне следует выдумать дополнительную букву для инициалов и назваться Дж. Е. К. Глэдни – и этот ярлык я ношу с тех пор, словно костюм с чужого плеча.
Ректор предостерег меня против того, что он назвал моим хроническим неумением себя подать. Настоятельно посоветовал прибавить в весе. Ему хотелось, чтобы я «дорос» до Гитлера. Сам он был человеком высокого роста, с брюшком, румянцем на щеках, двойным подбородком, большими ногами – и к тому же тупицей. Устрашающее сочетание. Я тоже отличался немалым ростом, большими руками и ногами, но, по крайней мере, в его глазах, крайне нуждался в дородности, в облике, говорящем о нездоровой невоздержанности в еде, о многословии и склонности преувеличивать, о неуклюжести и солидности. Похоже, он намекал, что сумей я стать более уродливым, это очень помогло бы мне сделать карьеру.
Таким образом, благодаря Гитлеру, я узнал, каким мне следует стать и к чему стремиться, хотя в этих стараниях я порой решаюсь на эксперименты. Темные очки в массивной черной оправе появились по моему предложению как альтернатива густой, косматой бороде, отпустить которую не позволила мне тогдашняя жена. Бабетта сказала, что ей нравятся инициалы «Дж. Е. К.» и она не считает их признакам погони за дешевой популярностью. По ее мнению, они наводят на мысль о достоинстве, важности и престиже.
Я – лживый тип, старающийся во всем соответствовать имени.
5
Давайте наслаждаться бессмысленными деньками, пока у нас есть такая возможность, сказал я себе, опасаясь, как бы кто-нибудь не начал ловко торопить события.
За завтраком Бабетта вслух, с выражением, прочла все наши гороскопы. Дошла до моего, и я постарался не слушать, хотя, наверное, слушать хотел – стремился, наверное, получить какие-то сведения.
После ужина, поднимаясь наверх, я услышал, как по телевизору сказали: «Давайте сядем в позу полулотоса и подумаем о наших позвоночниках».
В ту ночь, едва я уснул, мне показалось, будто я проваливаюсь сквозь самого себя, с замиранием сердца погружаюсь на небольшую глубину. Я проснулся весь дрожа и вперил взор в темноту, осознав, что у меня произошло более или менее нормальное сокращение мышц, известное как миоклонический спазм. Неужели это так и происходит – внезапно, окончательно и бесповоротно? Разве смерть, подумал я, не должна быть сродни прыжку ласточкой, грациозному, с раскинутыми, как крылья, руками и плавным входом в воду, чья поверхность остается гладкой?
В сушилке кувыркались синие джинсы.
В супермаркете мы случайно встретили Марри Джея Зискинда. В его корзинке были однотипные продукты и напитки, низкосортные товары в простой белой упаковке с незатейливыми этикетками. На белой жестянке значилось: «КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПЕРСИКИ». На белой пачке копченой грудинки отсутствовал целлофановый квадратик, в котором должен виднеться образец. На белой обертке баночки поджаренных орешков имелась надпись «АРАХИС НЕСОРТОВОЙ». Марри то и дело кивал Бабетте, пока я их знакомил.
– Это новый аскетизм, – сказал он. – Бесцветная упаковка. Меня она привлекает. Я чувствую, что не только экономлю деньги, но и способствую некоему духовному единению. Такое впечатление, будто идет Третья мировая война. Все кругом белое. У нас отняли яркие цвета и бросили их на борьбу с врагом.
Глядя в глаза Бабетте, он брал покупки из нашей тележки и обнюхивал их.
– Я раньше покупал эти орешки. Это шарики и кубики с трещинками и щербинками. Многие рассыпались. На дне баночки полно крошек. Зато вкусные. Но больше всего мне нравится сама упаковка. Вы были правы, Джек. Это последний всплеск авангардизма. Новые смелые формы. Способность потрясать.
Неподалеку от входа, прямо на прилавок с дешевыми книжками, упала женщина. Из кабинки на возвышении в дальнем углу, вышел грузный мужчина и, вытянув шею, чтобы лучше видеть, осторожно двинулся к ней. Одна из кассирш сказала: «Леон, петрушка», – а он, приближаясь к упавшей женщине, ответил: «Семьдесят девять». Нагрудный карман его пиджака был набит фломастерами.
– Выходит, вы готовите пищу в пансионе, – сказала Бабетта.
– У меня в комнате разрешено пользоваться небольшой плиткой. Там я просто счастлив. Я читаю программу телевидения. Читаю объявления в «Современном уфологе». Мне хочется окунуться в магию и ужас Америки. Мой семинар пользуется успехом. Студенты сообразительны и активны. Они задают вопросы, а я отвечаю. Они конспектируют мои лекции. Я и сам такого не ожидал, честное слово.
Он взял наш пузырек сильного болеутоляющего и обнюхал ободок защитного колпачка. Понюхал наши мускатные дыни, бутылки газировки и имбирного эля. Бабетта направилась в отдел замороженных продуктов – часть магазина, куда не советовал мне заходить врач.
– Волосы вашей жены – настоящее чудо, – сказал Марри, пристально вглядываясь в мое лицо как бы выражая мне свое глубокое уважение, основанное на этой новой информации.
– Да, это верно, – сказал я.
– Ее волосы имеют большое значение.
– Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду.
– Надеюсь, вы цените эту женщину.
– Само собой.
– Ведь такие женщины на дороге не валяются.
– Знаю.
– Наверняка она проявляет доброту к детям. Мало того, бьюсь об заклад, что она просто незаменима в случае семейной трагедии. Женщины такого типа владеют собой, способны проявлять стойкость и оказывать поддержку.
– На самом-то деле, она сходит с ума. Чуть с ума не сошла, когда умерла ее мать.
– Что же тут удивительного?
– Она чуть с ума не сошла, когда Стеффи позвонила из лагеря и сказала, что сломала руку. Нам пришлось всю ночь гнать машину. Я случайно заехал на просеку лесозаготовительной компании. Бабетта рыдала.
– Ее дочь страдает вдали от дома, среди посторонних людей. Что ж тут удивительного?
– Не ее дочь. Моя.
– Даже не родная дочь!
– Да.
– Поразительно! Должен признать, я восхищен.
Выходили мы все втроем, пытаясь лавировать среди разбросанных у входа книжек своими тележками. Марри вкатил одну на автостоянку, помог нам забросить и запихнуть все наши двойные пакеты с покупками в «универсал». Въезжали и выезжали машины. Женщина-полицейский в своей наглухо закрытой малолитражке объезжала участок, разыскивая красные флажки на счетчиках стоянки. Мы добавили к нашему грузу единственный легкий пакет Марри с белыми предметами и через Элм-стрит направились к его пансиону. Мне казалось, что мыс Бабеттой – при такой массе разнообразных покупок, при том несказанном изобилии, о котором свидетельствовали набитые до отказа пакеты, их вес, величина и количество, привычные рисунки и яркие надписи на упаковках, их гигантские размеры, флюоресцентные этикетки купленных со скидкой товаров для многодетных семей, при том ощущении достатка, что мы испытывали, при ощущении благополучия, уверенности и довольства, возникавшем где-то в глубине души благодаря этим продуктам, – казалось, что мы достигли полноты жизни, неведомой тем, кто нуждается в меньшем, на меньшее рассчитывает, тем, кто строит планы на будущее вокруг вечерних прогулок в одиночестве.
Прощаясь, Марри взял Бабетту за руку: – Я бы пригласил вас к себе, да комната слишком тесна для двоих, если они не готовы к интимной связи.
Марри способен смотреть трусливо и в то же время открыто. Взгляд этот равным образом говорит как о предчувствии краха, так и о вере в торжество сладострастия. По словам Марри, когда-то, во времена запутанных городских связей, он полагал, что женщину можно соблазнить только одним способом – при помощи явного, открытого вожделения. Он всячески старался избегать самоуничижения, насмешек над собой, двусмысленности, иронии, утонченности, ранимости, утраты вкуса к жизни в цивилизованном мире и восприятия истории как трагедии – именно того, что, по его словам, ему больше всего присуще. Из всех этих элементов в свою программу откровенной похоти он постепенно включает лишь один – ранимость. Он старается выработать в себе такую ранимость, которую женщины сочтут привлекательной. Над этим он трудится сознательно, как человек, поднимающий тяжести в спортзале с зеркалом. Но пока что его усилия вылились только в этот полутрусливый взгляд, робкий и вкрадчивый.
Марри поблагодарил нас за то, что мы его подвезли. Мы наблюдали, как он идет к покосившейся, подпертой шлакоблоками веранде, где невидящим взглядом смотрит прямо перед собой человек в кресле-качалке.
6
У Генриха появились залысины. Это заставляет задуматься. Не употребляла ли его мать при беременности какое-либо вещество, изменяющее наследственность? А может, это я в чем-то виноват? Вдруг я, сам того не зная, растил его близ свалки химикатов, на пути перемещения воздушных потоков, в которых содержатся промышленные отходы, способные вызывать выпадение волос. Великолепные закаты? (Говорят, лет тридцать-сорок тому назад закаты в здешних краях были совсем не так чудесны.) Вину человека перед историей и перед множеством его сородичей усугубляет развитие технологии, вероломное убийство, совершаемое изо дня вдень.
Мальчику четырнадцать. Он склонен к уверткам и подвержен переменам настроения, но порой бывает пугающе покладист. У меня такое чувство, что его готовность уступать нашим просьбам и требованиям – тайное средство осуждения. Бабетта боится, что в конце концов он забаррикадируется в комнате и будет поливать свинцом из автомата безлюдную аллею, покуда не примчатся по его душу целые команды бойцов спецназа в бронежилетах, со своими утолщенными стволами и мегафонами.
– Вечером будет дождь.
– Он уже идет, – сказал я.
– По радио сказали, вечером.
Я вез его в школу в первый раз после того, как у него перестало болеть горло и спала температура. Движение остановила женщина в желтом плаще, и дорогу перешли несколько детей. Я представил, как она рекламирует по телевидению суп: снимает клеенчатую шапочку и входит в светлую кухню, где над дымящейся кастрюлей похлебки из омаров стоит ее муженек – коротышка, жить которому осталось месяца полтора.
– Посмотри на лобовое стекло, – сказал я. – Дождь это или нет?
– Я говорю только о том, что передали по радио.
– Радио не может заставить нас перестать верить нашим ощущениям.
– Нашим ощущениям? Да наши ощущения сплошь и рядом нас обманывают. Это доказано лабораторными испытаниями. Неужели тебе ничего не известно обо всех теоремах, согласно которым ничто не является тем, чем кажется? За пределами нашего разума не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Так называемые законы движения – сплошная мистификация. Даже звук может ввести человеческий разум в заблуждение. Если звука не слышно, это не значит, что его нет. Его слышат собаки, и другие животные. А я уверен, что есть звуки, которых даже собаки не слышат. Но они существуют в воздухе, в виде волн. Возможно, они никогда не затихают. Резкие, высокие, очень высокие. Исходят неизвестно откуда.
– Так идет дождь, – спросил я, – или нет?
– Мне бы не хотелось отвечать.
– А если бы кто-нибудь приставил к твоему виску пистолет?
– Кто? Ты, что ли?
– Кто-нибудь. Человек в шинели и дымчатых очках. Приставляет к твоему виску пистолет и говорит: «Идет дождь или нет? Ты всего лишь должен сказать правду, и тогда я уберу пушку и улечу отсюда первым же рейсом».
– Какая правда ему нужна? Правда какого-нибудь типа, летающего по другой галактике почти со скоростью света? Или правда того, кто движется по орбите вокруг нейтронной звезды? Возможно, сумей эти существа увидеть нас в телескоп, им показалось бы, что наш рост – шестьдесят пять сантиметров и что дождь идет не сегодня, а вчера.
– Он же к твоему виску пистолет приставил. Ему нужна твоя правда.
– Да какой смысл в моей правде? Моя правда ничего не значит. Что если этот парень с пушкой родом с планеты совсем в другой солнечной системе? То, что мы зовем дождем, он называет мылом. То, что мы зовем яблоками, он называет дождем. Что же я в таком случае должен ему сказать?
– Его зовут Фрэнк Дж. Смолли, и родом он из Сент-Луиса.
– Он хочет знать, идет ли дождь сейчас, в данную минуту?
– Здесь и сейчас. Совершенно верно.
– А существует ли такое понятие как «сейчас»? «Сейчас» настает и проходит, едва успеешь произнести это слово. Как я могу утверждать, что сейчас идет дождь, если стоит мне об этом сказать, и так называемое «сейчас» превратится в «тогда»?
– Ты же сам сказал, что не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
– Они есть только в наших глаголах. Больше нигде мы их не найдем.
– Дождь – существительное. Так идет ли дождь здесь, в этом самом месте, в момент времени, растянутый на ближайшие две минуты, в течение которых ты соблаговолишь ответить на вопрос?
– Если ты намерен говорить об этом самом месте, сидя в автомобиле, который явно движется, тогда именно это, по-моему, и мешает нам вести дискуссию.
– Просто ответь на вопрос, ладно, Генрих?
– Самое большее, что я могу сделать, – высказать предположение.
– Либо дождь идет, либо нет, – сказал я.
– Вот именно. К этому я и клоню. Приходится строить догадки. А в результате – что в лоб, что по лбу.
– Но ты же видишь, что дождь идет.
– А ты видишь, что солнце движется по небу. Но движется ли солнце по небу на самом деле, или это земля вращается?
– Эта аналогия не годится.
– Ты так уверен, что это дождь. Откуда ты знаешь, что это не серная кислота с заводов на другом берегу реки? Откуда ты знаешь, что это не радиоактивные осадки от какой-нибудь войны в Китае? Ты хочешь получить ответ здесь и сейчас. А ты сумеешь доказать – причем здесь и сейчас, – что это именно дождь? Откуда мне знать: может, то, что ты называешь дождем, на самом деле – вовсе не дождь. Да и вообще – что такое дождь?
– Это то, что льется с неба и от чего ты становишься, что называется, мокрым.
– Я не мокрый. А ты?
– Отлично, – сказал я. – Достаточно.
– Нет, серьезно, ты мокрый?
– Превосходно! – сказал я ему. – Торжество неопределенности, сумбура и хаоса. Звездный час науки.
– Издевайся, издевайся.
– Софисты и казуисты переживают свой звездный час.
– Давай, издевайся, мне все равно.
Родительница Генриха нынче живет в ашраме. Взяв себе имя Мать Деви, она занимается коммерческой стороной дела. Ашрам расположен на окраине Табба, штат Монтана, бывшего городка медеплавильщиков, именуемого теперь Дхарамсалапур. Как обычно, ходят слухи о сексуальной свободе, сексуальном рабстве, наркотиках, нудизме, промывке мозгов, скверной гигиене, уклонении от уплаты налогов, культе обезьян, пытках, долгой и мучительной смерти.
Я смотрел, как Генрих под проливным дождем идет к дверям школы. Движения его были нарочито замедленными, а ярдов за десять до входа он снял свою камуфляжную кепку. В такие минуты во мне просыпается животное чувство безоглядной любви, желание набросить на него свой пиджак, крепко прижать к груди и ни на шаг от себя не отпускать, защищать его. Похоже, он притягивает к себе опасность – она носится в воздухе, следует за Генрихом по пятам из комнаты в комнату. Бабетта печет его любимое печенье. Мы смотрим, как он сидит за своим некрашеным письменным столом, заваленным книгами и журналами. Он трудится до глубокой ночи, обдумывая ходы в шахматной партии, которую играет по переписке с убийцей, сидящим в тюрьме.
Следующий день выдался теплым и светлым, и студенты Колледжа-на-Холме сидели на газонах и в окнах общежития, слушали свои магнитофоны и принимали солнечные ванны. В воздухе витают грустные проводы лета, истома последнего дня, когда можно еще разок пройтись босиком и вдохнуть запах скошенного клевера. Я вошел в «Дуплекс Искусств», наше новейшее здание, цепляющее облака сооружение цвета морской волны, с фасадом из анодированного алюминия и флигелями. На первом этаже располагался кинозал, помещение с наклонным полом, застланным темными коврами, и с двумя сотнями плюшевых кресел. Я сел на слабо освещенное крайнее место в первом ряду и стал дожидаться своих старшекурсников.
Все они специализировались по Гитлеру, входили в единственную группу, которой я еще преподавал, три часа в неделю вел занятия по истории нацизма, рассчитанные только на продвинутых студентов последнего курса и имевшие целью глубокое проникновение – с исторической точки зрения и на строго научной основе – в сущность неослабевающего массового влечения к фашистской тирании, с особым акцентом на парадах, митингах и мундирах; три зачета, письменные работы.
В каждом семестре я устраивал просмотр учебного киноматериала: пропагандистских фильмов, кадров партийных съездов, фрагментов мистических киноэпопей с парадами альпинистов и гимнастов. Из всего этого я смонтировал восемьдесят минут импрессионистской документалки. В ней преобладали массовые сцены. Крупные планы, дрожащие кадры: тысячи людей выходят со стадиона после выступления Геббельса, люди собираются в толпы, прорываются сквозь движущийся транспорт. Залы, увешанные флагами со свастикой, похоронные венки, знаки различия с черепом и костями. Стройные многотысячные шеренги знаменосцев перед неподвижными вертикальными лучами ста тридцати зенитных прожекторов – геометрическая похоть, официозная партитура мощного массового желания. Дикторского голоса не было. Только лозунги, песни, арии, речи, выкрики, аплодисменты, обвинения, вопли.
Я поднялся, встал перед центральным проходом между рядами и повернулся лицом к входной двери.
Они появились в залитом солнцем дверном проеме – вошли в своих шортах и майках с номерами, в своих немнущихся рубашках, своих водолазках и полосатых футболках. Пока они занимали места, я обратил внимание на их затаенное благоговение, неопределенное ожидание. У одних были тетради и маленькие фонарики, другие принесли конспекты лекций в ярких папках. Один за другим студенты усаживались, со стуком опуская сиденья, перешептываясь и шелестя бумагами. Я прислонился к краю авансцены, дожидаясь, когда войдут последние несколько человек и кто-нибудь плотно закроет двери, чтобы оградить нас от соблазнов жаркого летнего дня.
Вскоре наступило молчание. Пора произносить вступительное слово. Дождавшись, когда тишина на минуту сделалась более напряженной, я, чтобы легче было жестикулировать, высвободил руки из складок профессорской мантии.
После просмотра кто-то задал вопрос о заговоре с целью убийства Гитлера. В завязавшейся дискуссии зашла речь о заговорах вообще. Неожиданно для себя я сказал собравшемуся поголовью:
– Целью всех заговоров, как правило, является смерть. Такова сущность заговоров. Политических, террористических, тех интриг, что плетут влюбленные, сюжетных интриг в художественной прозе, интриг, составляющих часть детских игр. Мы понемногу приближаемся к смерти всякий раз, когда плетем интриги. Это сродни договору, который должны подписать все – как заговорщики, так и те, кому предстоит стать мишенями заговора.
Неужели это правда? Зачем я это сказал? Что это значит?









































