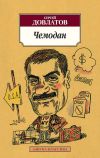Текст книги "Новый американец"

Автор книги: Григорий Рыскин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Григорий Рыскин
Новый американец
Записки массажиста
То не работа, а битва на Курской дуге. Когда нужно в обеденный перерыв поспеть в салон красоты на Eastwood Cliff.
И вот летишь на белом «форде»-скакуне. И каждая заминка под красным светом – как предчувствие поражения. Идешь от светофора к светофору, потом рывок, взмыв на крутизну. Некороткий путь. Разворачиваешься на стоянке так, чтоб сразу в танк и обратно. Идешь этаким бодрым Швейком мимо хозяйки за конторкой, фальшивоулыбчатой, раскрашенной куклы. Потом выходишь из массажного кабинета: белая футболка в обтяжку, мощные руки. Стоишь подбоченясь, этаким вальяжным приказчиком. А его все нет, клиента, запаздывает.
Вошел весь корявый, шелудивый, гаденький.
– Totally nude? – спросил.
– Yes, totally nude, абсолютно голый, – повторил я, поражаясь изяществу фразы в его неизящных устах.
Вышел из раздевалки к столу с вздернутым к небу роскошным фаллосом. Румяный, стройный подосиновик-красноголовик. Он как бы весь ушел в него. Лег на стол, гордясь. Я накинул полотенце на его диво.
Когда массировал шелудивые вогнутые ступни с уродливо большим подъемом, полотенце двигалось, как мохнатый зверь, а он дышал и постанывал, видимо принимая мою тяжелую одышку за то, что происходило с ним. Его широкие, как у негра, ноздри раздувались, под выпуклыми птичьими веками перекатывались глаза-шары.
– Перевернитесь, – сказал я, не скрывая отвращения.
Бежевая щель меж выпуклых ягодиц была явным влагалищем гея. Ниже цвело розовое, глянцевитое яйцо. Я накинул полотенце на это безобразие.
– Зачем вы прикрыли меня полотенцем? – возмутился он.
И все стонал и дышал, покуда я, преодолевая отвращение, массировал его мослаки, обтянутые грязно-желтой кожей.
…Выходишь в поту, готовый к рывку назад. Время истекает. Хорошо, если Франк не донесет. Но могут заметить другие. Хозяйка уже протягивает из-за конторки четвертной. Понимает. Теперь в машину и назад.
На дороге – авария. Пожарка-мигалка перегородила путь. Там дальше «скорая помощь». Это судьба. Гляди, уволить могут. Потом пойдешь по кругу работу искать. Но пробка быстро рассосалась. Франк не заметил.
Франк… Франческо. Похож на Данте. Только Франческо маленький. Нос – турецкий стальной ятаган над тонкими сжатыми губами. Когда Франческо массирует Пазимано, то вдохновенно смежает глаза, как будто пишет «Божественную комедию». Франческо смазывает Пазимано особым ароматическим маслом, потом снимает подогретым спиртом. Пазимано – правильный американский человек итальянского происхождения. Рельефная мускулатура, флоридский загар. Белейшие следы от плавок. Красивый розовый фаллос. Пазимано приходит в клуб к часу, вдумчиво работает над своим торсом. Гантели, штанга, велосипедный станок. Вся стальная механика гимнастического зала с пружинами, противовесами, рычагами потеет и скрипит вместе с Пазимано. Потом Пазимано потеет в сауне, выходит весь в мохнатых полотенцах. Ложится на массажный стол к Франческо. Итальянцы идут к итальянцу. Евреи предпочитают меня.
Пазимано дает хорошие чаевые. Я начищаю до блеска его ботинки фирмы «Аристокрафт» на специальном станке с дисковыми щетками. И мне перепадает доллар. Пазимано щедр, но неразговорчив. Удостаивает меня лишь «хай» и «бай». Пазимано – лойер, Джеймс Бонд американской юстиции. Вот он сушит бронзовый шлем своих волос под феном у зеркала. Его сорочка и сьют от Диора. Каждый день новый сьют. Новая бабочка под цвет сьюта. Шевелит у зеркала атласными крылами.
Какой диапазон человеческих особей! Взять, к примеру, Пазимано и Педро. Все равно что благородный сенбернар и шершавая дворняга. Но тот и другой почему-то человеки. Педро – стиральщик полотенец, мужик-прачка. Безгуб и беззуб, ключи и цепи на бабьих бедрах, кривые ноги вывернуты вовнутрь. Не говорит, а лает и визжит. Педро – «nut», идиот, одинокий, несчастный квазимодо. Звенит ключами, подбирается ко мне сзади, щекочет затылок холодными мокрыми пальцами…
Икры и ляжки легионеров. Только что сняли с них бронзовые поножи. Грудные клетки, на которых можно формовать латы. У всех итальянские фамилии. Они и взаправду римляне. Массаж римских легионеров.
– Сильнее, Грегори, сильнее. Делай глубокий массаж.
Кряхтят, ловят кайф, засыпают. Я хороший, сильный массажист. У меня отличная репутация. Легионеры идут к моему массажному столу и шелестят чаевыми.
А потом шелестение дубовых листьев в моем уголке земли. Я стою меж стволами дерев и задыхаюсь и хватаюсь за сердце. И Ангел Смерти стоит меж дубовых стволов.
* * *
Есть притча об Ангеле Смерти. Будто весь он покрыт глазами. Если передумает брать душу, то оставляет ей один из своих глаз. Чтоб по-другому смотрел человек на дар жизни.
Вот брожу я меж толстых курьих ног американских дерев и тоскую и задыхаюсь. Жирные наглые белки резвятся, как котята, шуршат сухой листвой. Осень на Виндзорской дороге. И это сияние, и это свечение листвы, как в лицейских пушкинских парках, в Павловске, в имении Бенкендорфов под Таллином. Вран каркает и кричит, совсем как в козельских кладбищенских соснах. Роскошь и свет американского индейского лета. Желтые школьные автобусы…
Вот сейчас вздрогну, проснусь, начну собирать книги, укладывать в учительский портфель, пить чай, думать: какой странный, однако, приснился сон… Потом буду идти к электричке. Надо будет рассказать ребятам в девятом «Б». Подойти к широкому школьному окну и начать рассказывать: осень на Виндзорской дороге. А там, за школьным окном, – екатерининские липы, а дальше, за холмами, – лицейские пушкинские парки.
Ангел Смерти прилетает к Марку прямо на работу. Встанет и глядит из-за компьютера.
– Иногда кажется, вот сейчас умру, сердце остановится. Одышка. Молю Бога: ну дай продохнуть, ну хотя бы один легкий вздох. Какая уж тут перспектива!
– А ты плюнь, иди на велфер[1]1
Велфер – социальная программа помощи нуждающимся. – Здесь и далее примеч. автора.
[Закрыть].
– Велфер хуже смерти. Жалкие гроши, а сколько унижений. Да и свой брат эмигрант за человека не считает. Нет уж, лучше умереть на работе.
Работа… только и разговоров, что о работе. Но ведь работа характеризует человека только как раба. Нет, здесь что-то не то.
Синюшное лицо с отблеском былой красоты. Обвислые щеки, глаза в прожилках. Одно плечо выше другого. Идет по улице, остановится вдруг, присядет, положит ладони на колени, мучительно пытается продохнуть. Мы гуляем с ним по вечерам. У меня одышка после моих легионеров, у Марка – всегда. По вечерам ему чаще удается продохнуть.
– Все вокруг оптимисты, – говорит Марк, – а у меня что-то и нет оптимизма. Зашел к Х. Анекдоты, смефуечки. Может, оттого что хорошо получает. А по мне, хоть сто тысяч получай – тоска.
– Это оттого, что семьи нет. Вон у Зямы. Зажгли ханукальные свечи, годовалая внучка прямо на столе, среди блюд, бутылок.
– Это оттого, что безмозглы они. Чтобы жить, надо быть глупым. Может, глупость и есть мудрость. А может, не унывать мне, включить японский приемник, по эфиру пройтись?
– Все равно затоскуешь…
* * *
Утром все по новой. Вот лойер снимает свой сьют и оставляет атласную бабочку в железном ящике. Католический священник ложится на мой массажный стол: живот с Эверест, фаллос с пупок. Усталый плейбой приходит после ночной оргии со стюардессой и рассказывает своему массажисту о тонкостях современной любви. Мультимиллионер, владелец тысячи мощных траков, подставляет мне свою обвислую плоть и жалуется на артрит.
Здесь все голые, без эполетов. Здесь не употребляют эвфемизмов. Здесь детородный орган – «как» здесь соитие – «фак». Интеллектуал здесь переходит на сленг. Язык улицы и толпы. Так ближе к обнаженной сути.
Я накладываю резиновый рукав на загорелую руку миллионера и слышу биение его сердца. Стрелка на циферблате прибора скажет мне о нем больше, чем его «мерседес» и банковский счет.
Покуда человек копит деньги, скупает дома, тешит тщеславие и плоть, в каждой его клетке работает маленький компьютер, крохотная бомба с часовым механизмом. Это там записана его судьба, а не на небесах. Вот он входит, затянутый в смокинг, дымя сигарой, а некая сила сжимает его сосуды, и никак не отделаться от тяжести в голове. Если эта страна благоденствует, то почему каждый четвертый страдает здесь от повышенного кровяного давления и не может жить без таблеток?..
Но все это не относится к Нилу Гилтону. Нил – девяностолетний гигант. Величав и неподвижен. Лежит, как в гробу, на моем массажном столе. Его щеки и лоб пылают румянцем неопасного кожного рака. Седые, растущие из ноздрей усы слегка шевелятся. Когда массирую эти слякотные мышцы, этот закаменелый скелет, то наклоняюсь к Нилову лицу: не отдал ли концов старик, не врезал ли дуба? О чем он думает сейчас? Скорее всего, ни о чем. Все уже продумано за него в Екклезиасте. Все уже сказано там о его жизни.
Когда я массирую его затылок, слуховой аппарат в большом заросшем волосами ухе начинает петь. Главное – не задеть железную коробочку, вшитую под кожу над самым Ниловым сердцем. Когда я говорю «Перевернитесь», он стремительно вскакивает, поворачивается как волчок на левой ягодице, ложится на живот. Он уже наполовину железный и пластмассовый, этот девяностолетний фабрикант и миллионер.
Пятьдесят лет Нил делает гимнастику и массаж. Вот его скелет, до мельчайших костей, хрящей, сухожилий, весь на виду. У Нила герлфренд с пластмассовой ногой, ждет в «кадиллаке».
– Кому пойдут его миллионы?
– Детям, конечно, детям.
Нила массировать легко, на Ниле не заработать одышки, Нил почти бесплотен. Это все равно что массировать привидение. Одышка появится после мистера Лифа, вице-президента банка с громадными, загнутыми, как лыжи, ступнями. Промассировать такого от гребенок до ног – галерная работа. Трещат в суставах руки. Вначале обрабатываются фаланги пальцев, затем метровые жилистые конечности-рычаги.
Но откуда у меня эти сильные, ловкие движения двумя сдвинутыми в виде лопаты ладонями? Из моего спортивного детства. Когда-то я делал жим двумя на турнике и держал прямой угол на кольцах. Кто бы мог подумать, что это поможет мне выстоять в эмиграции? Мне помогает выстоять детство. В детстве мы совсем близко от эдемских садов, из которых только что вышли. Пот заливает глаза. Вот она уже появилась, одышка, вместе с болью в сердце. Почему-то всегда именно в этот момент мне вспоминаются оптинские заливные луга, изрезанные ручьями. Вязовая старинная аллея к Оптину монастырю, по которой в крестьянской телеге едет русский мужик с косой бородой. Лет Толстой.
Мистер Лиф дает обычно на чай один доллар. Если бы удалось увильнуть от большого Лифа, я потерял бы всего один доллар и не заработал одышки. Но как увильнуть? На копчике вице-президента Лифа – маленький хвост. Постанывая от удовольствия, большой Лиф повиливает хвостом.
* * *
Нью-Джерси-тернпайк, штатная дорога, по которой я мчусь в сумраке на работу, напоминает завод «Азовсталь». Навстречу, с холма, стекает раскаленная стальная лава: фары, фары, фары. Я в струе остывающего шлака: хвостовые рубиновые огни. Туда и сюда, туда и сюда… Ежечасно, ежедневно. Из года в год. Стояние на месте со скоростью шестьдесят миль в час. Куда и зачем все это движение? Куда и зачем? Человека мчат сто пятьдесят лошадей. Одного. Я сжигаю громадное количество бензина, отравляю воздух канцерогеном. Каждый автомобиль в этой безумной лаве мог бы перевозить шестерых. Но в каждом только по одному. В каждом запряжено сто пятьдесят лошадей, пожирающих кислород, отнимающих вздох у сердца.
Но почему тогда мне нравится это движение? Верно, так любил своего черного Карагеза лермонтовский Казбич, как я люблю мой белый «форд». Теплый и живой. Светит глазами, урчит. У него повышается температура от летнего перегрева, он замерзает и не заводится зимой. Когда он выходит из строя, выхожу из строя и я. Ломается привычный строй жизни. Выглянешь в окно: его нет на стоянке, – затоскует душа. Ты весь зависишь от него. Спустит колесо в ночном переулке Манхэттена, и ты, гремя железяками, меняешь его, сжимаешь в руке стальной ломик при малейшем шорохе за спиной. Ты моешь и чистишь его, поишь горючим, потчуешь маслом. Лечишь. В зимние метели и летние ливни ты чувствуешь его душу рядом с твоей. В минуту одиночества включишь приемник и слушаешь Моцарта. Он уносит меня из шумного грязного гетто на Виндзорскую дорогу. «В минуты сомнений, в минуты тягостных раздумий ты один мне надежда и опора…»
В восемь утра я заруливаю на стоянку клуба здоровья. Впереди, в белом «мерседесе», ранняя птичка Ансио исполняет на автомобильном клаксоне пассаж из оперы «Паяцы».
Квадратный шоколадный медведь с жуковатым монгольским прищуром, Ансио целый день потеет в сауне. Сауна – его офис. Он намерен провести в сауну белый телефон. Уйдет домой часа на два, высосет дюжину пива «Хайнекен», потом блаженно потеет. Ансио алкоголик и саунаголик. Чтобы не разбухнуть от пива, он выпаривает его. Ансио любит рассказывать о своей таверне:
– Я малограмотный, у меня все здесь, в котелке. Мне такой ум от Бога дан, чтоб запросто доллар в два превращать. Гляди, пачка сигарет. Ее можно за доллар продать, за семьдесят центов. Я отдаю за пятьдесят. Но я продам в три раза больше. Смекай. У меня всегда в таверне народ, потому как я «дринк» дешевле подаю и пиво.
Ансио на заслуженном отдыхе. За стойкой его таверны наемный бармен. Всем детям дал образование. Все трое – доктора. Ансио разъезжает по блошиным рынкам на собственном грузовике.
– Берешь Нью-Джерси-тернпайк. Идешь на север к девятому выходу. Увидишь большую площадь. Пять долларов стол. Тысячи столов. Я делаю сто пятьдесят баксов в день. У меня куртки, рубашки, обувь. Есть еще одно неплохое местечко. Берешь один-девять, идешь на юг…
Ансио в Америке в своем элементе, я не в своем. Это как рыба, которую ты сейчас разделываешь на столе. Может, в далекой глубине та рыба была рыба-доктор, рыба-скрипач, рыба-поэт. А здесь она просто «фуд», жратва.
Вот отчего я, человек с двумя университетскими дипломами, делаю массаж Джо Нойеру. На его пальце золотой дивный перстень в виде обнаженной женщины, с бриллиантами вместо глаз и сосцов. На детородном месте у нее тоже большой бриллиант. Его кожа вся в бородавках, родинках, наростах, спина искривлена наподобие спины автомобиля «фольксваген-биттл». Серебряная жесткая щетка усов. Когда я делаю ему массаж, ноги и руки Джо дергаются, как у паяца на веревочке, все не могут успокоиться. Он затихает лишь через сорок пять минут и засыпает, мелодично попердывая. Но поначалу Джо любит пообщаться.
– У меня фабрика. Сто пятьдесят рабочих. Слишком много забот, Грегори, психически больная жена, дочка тоже с приветом.
– С кем встречаешься сегодня, Джо? – спрашивает кто-то с соседнего стола.
– У меня свидание с Рози.
– Какую машину ты ей купил?
– «Шевроле-шевет».
– Старый сквалыга. Мог бы и подороже.
– Заткнись, сукин ты сын.
Зачем ему миллионы, когда нельзя есть-пить: диабет и диета, – когда возможна лишь французская любовь за деньги. Зато Ансио в свои шестьдесят хоть куда. Вот он тихой сапой прокрадывается из сауны к сонному Джо и кладет в его раскрытую ладонь свой вялый, но внушительный фаллос с хитрым свисающим хоботком.
– Ах ты, ублюдок, – полугневливо возмущается Джо.
– Это вместо рукопожатия, Джо. Ты больше у меня не заслужил.
– Сукин ты сын, Анс, пьяница, урод, монстр. Только мать может любить такое тело.
– Посмотрите на эту обезьяну, жабу, крокодила. Ты жалкий, отвратительный голландец.
– Он голландец? – спрашиваю Ансио.
– А почем я знаю?
– Ты воняешь, – обличает Джо. – Я образованный, вежливый джентльмен. Ты же гнусный сицилиец.
– Он в самом деле сицилиец? – спрашиваю Джо.
– А почем я знаю?
– Ты хорошо сложен, Джо, – не унимается Ансио. – Только вот задница великовата.
– А это для твоего носа, Ансио.
По-моему, это они от скуки. У Ансио только недвижимости на миллион. Дома, собаки, три автомобиля. У него все от скуки: сауна, пиво, блошиный рынок, диалоги с Джо. Это они от скуки устраивают свои турниры, от потребности в творчестве. Для них это как «Илиада» для Гомера.
– Перевернитесь, – говорю я Джо. И он демонстрирует мне сморщенную, жесткую, как у гамадрила, задницу.
Гоголь, изображая Собакевича, описывает его дом, упористый, без пошатки, медвежий сюртук. Ну а ежели мои герои являются без сюртуков? Сплошные ягодицы, и каждая отличается «лица необщим выраженьем».
Розовые и женственные, с симпатичными ямочками, ягодицы доктора электронных наук Джона Кука. Каменные, сотворенные для анатомических демонстраций «максимус глютеус», – мистера Пазимано. Розовая, симпатичная, покрытая хасидскими кудряшками задница Майкла Тевела, истерзанная знойными когтями стюардесс.
Когда я массирую икры и ляжки, ягодицы напрягаются, расслабляются, улыбаются, хмурятся, виляют хвостиками, если таковые имеются. По выражению ягодицы я определяю, насколько успешен мой массаж, каковы будут чаевые.
Однажды мне приснился сон: будто по весеннему небу летят косяком ягодицы, уподобившись журавлям. Это как телевизионный экран, на котором показывают фильм. Я ухожу в этот фильм, уставившись в очередную задницу.
* * *
Мое роковое число – тринадцать. В детстве, в День Победы, стояли мы с матерью у железной дороги. И она всматривалась, всматривалась в поющие, орущие, счастливые теплушки воинского эшелона, из которых летели к нам букеты с записками «Давайте переписываться», немецкие трофейные конфеты, белые сухарики.
Вдруг мать сорвалась с места, ринулась через мост вслед за эшелоном, сходя на бегу с ума. Она узнала отца. За мостом поезд круто поворачивал к станции, я механически стал считать вагоны. Их было тринадцать. Мать обозналась: отец не вернулся. Через полгода вместо него пришел другой… с мешком обувных колодок, трофейным зеленым ящиком сапожных припасов. Он весь был черный. Схватил сильными сапожными ручищами, прижал к жесткой проволочной щеке. От него пахло варом. Я отбивался:
– Ты как татарин.
Тогда я все читал о татарском нашествии. Татаромонгольское иго моего детства. Сызмальства оно придавило меня, сломило волю. И как Русь не может оправиться от него по сей день, так и я никогда уж, видно, не изживу последствий того многолетнего угнетения.
Он был свиреп и непредсказуем. Во хмелю валился с порога на пол. Из расстегнутой ширинки по желтому чистому полу журчала моча. С шести лет я был вплотную прижат к нему, к его ремеслу, в коммунальной пятнадцатиметровке. Засыпал и просыпался под стук его сапожного молотка, под шорох дратвы со щетинками, коей он подшивал худые мужицкие валенки под шебуршение рашпиля, наводящего марафет на спиртовую офицерскую подошву.
Из сумрака моего детства проступают лишь отдельные связанные с ним сцены. Вот он выгоняет меня на мороз с жестяным тазом, полным золы, заставляет посыпать ледяную гору перед домом.
– Бухтрамей! – тонко и резко кричит он с крыльца. Черный, небритый микроцефал с лакированной лысиной.
Слово это было мне непонятно. Вызывало ненависть и тоску. Как и другое: «булыга», – которым он почему-то обзывал меня.
Самым унизительным были избиения. Я был робок, придавлен, напуган войной и просто неспособен на серьезные проступки. Он нападал неожиданно, рубил с плеча тяжелым ремнем:
– Я давно на тебя зубы точу.
Вспоминаю его в редкие минуты просветления. Вот сидит он за верстаком, подшивает валенки, тачает сапоги, забивает деревянные гвоздики в спиртовую офицерскую подошву. Блестит лакированной лысиной. Пожалуй, он был красив. Тонкий, с горбинкой нос, черные иудейские глаза.
Он был работник. Ничего, кроме сапожного ремесла, не ведал. С трудом умел написать свое имя. Какие мысли копошились в узкой его голове? Какими он был обуреваем чувствами?
Вот они на пару с сапожником Мефодием, таким же лысым, в гимнастерке и галифе, взялись сработать за день полковничьи сапоги.
– А Волкоедов вон генералу Кариде из трофейного шевро тачаеть, – с завистью говорит Мефодий.
– А клóпа тебе?
– Все ж обидно.
– Насрать богачу, свой сноп молочу.
– Так-то оно так, а жаль…
– Да гори оно гáром…
Дома я бывать не любил. Летом пропадал в ивняках над речкой Другузкой. Уходил с книгой далеко в леса, чаще один. На земляничные светлые поляны, в грибные березняки. За Оптину пустынь.
Приносил полуведерный чайник малины, корзину лисичек. К ягодам и грибам не прикасался. То была моя дань ему, для умягчения его души.
Великое это горе – такое вот детство. В настороженной ненависти, в постоянной борьбе со злым, глупым угнетателем. Где-то году на шестнадцатом, благодаря усиленной гимнастике, обрел я могучие мышцы. Однажды по старой привычке он попытался избить меня. Боевая кровь ударила мне в голову. Я захватил его лысый череп правой, провел бросок через бедро. От могучего сотрясения поразбивались рюмки в буфете.
– Старика бить!..
Я выскочил в чем был на мороз. С той поры он не трогал меня. Да и жить мне с ним оставалось всего до лета.
Потом, через годы, навещая родные места, я встречал его уже больного, размягченного. Провожая меня, он плакал, выходил на крыльцо, долго смотрел вслед.
До самой своей последней минуты все стучал молотком, тачал, подшивал. За день до смерти работал за верстаком в сапожной мастерской. В полдень пошел на обед, опустился посреди лужи и заплакал. Я приехал, когда он уже обмытый лежал на столе, на том самом, с которого стащил во хмелю тридцать лет назад скатерть, вместе с хрустальной вазой, оставшейся после отца. Ваза не поддалась. Тогда он схватил ее и грохнул с размаху об пол.
Я прикоснулся пальцем к его лысине. Она была костяной, холодной. Жалости не было. Отвращение, страх.
– Прости уж ему, – сказала мать.
Зачем он явился в этот мир семьдесят лет назад в жалком еврейском местечке? Семимесячный недоносок, возросший в страданиях бесконечных революций и войн. Его первую жену и пятерых малых детей расстреляли немцы. Но семью он никогда не вспоминал.
– Прости уж ему, он был сумасшедший.
Скорее всего, так оно и было. Вероятно, он вернулся с войны душевнобольным. Где свершает теперь свой засмертный полет его душа? И почему в моих снах о родине все видится мне этот старик на нашем желтом чистом крыльце? Положив руки, изрезанные дратвой, на колени, он поджидает меня. Пух от нашего тополя летит вкруг его лакированной лысины, и в ней стоит маленькое солнце.
* * *
Я проживаю свою жизнь вспять, прокручиваю наоборот. Пленка рвется, приостанавливается, идет рывками. Все разорвано, фрагментарно, непостижимо. В зале хохочут, издеваются, курят марихуану. Порвалась дней связующая нить… Я сижу на раскладном стуле на берегу Атлантического океана, поставив пишущую машинку на ящик, выброшенный волной. Вдали застыл корабль, похожий на силуэт Таллина. В трех шагах на раскладном стуле спит Марк. Здесь нам дышится легко, и Ангел Смерти отлетает присматривать за другими. У меня за спиной, под грохочущей эстакадой сабвея, – Брайтон-Бич, русско-еврейское гетто. Софы и Эллы, Бэлы и Нателлы, отставив мизинчики с алыми коготками, копаются в плодах у входа в лавки. Губы бантиком, обширные бюсты направлены прямо к эпицентру земли.
Эдики и Алики, Толики и Натанчики делают зелененькие в бизнесах под грохочущей эстакадой и по всему мегаполису. Верткие и крутые, Семики и Нолики, голыми руками не возьмешь.
– Сабиночка, кушать иди, кушать.
– Мама, я не хочу кушать.
Это слово шелестит над всем Брайтоном, распростерло свои крыла до самого океана.
– Софа, кушать готовь, кушать, – звонит Натанчик из своего скорняжного бизнеса.
– Приходите вкусно покушать в наш ресторан. Для вас играют Эдик и Толик Куперманы.
– Погоди, я куплю Юрику дыньку.
– Ты его уже очень балуешь.
– После обеда он любит покушать дыньку.
Весь Брайтон-Бич – обширная, изобильная лавка под ржавой эстакадой. Сосиски и колбасы свисают лианами с потолков. Балыки и сыры, сугробы мехов, горы бижутерии.
Моня дымит сигаретиной «Мальборо» посреди русской бакалеи. Огурчики, сельди, маринованные оливки. Медленно и строго деревянным пинцетом накладывает всего. Энергичным щелчком отправляет «Мальборо» на пол, расплющивает окурок каблуком техасского сапожка с серебряной шпоркой.
– Сегодня у вас нет ряженки, Риточка? – вопрошает жена Софочка, складывая губы сердечком.
– Сегодня у нас не ряженка, а мацони.
Здесь изъясняются не словами, а цифрами. Диалог у мясной лавки:
– Зачем тебе мучиться, Эдик? Дышать ржавчиной? Живи с процента. Сейчас двенадцать с четвертью.
– Ты говоришь, чтоб я положил на си-ди?
– Предположим, забудь о двенадцати с половиной. Пусть будет десять. Все равно ты в профите.
Но почему они так серьезно занимаются копанием во всей этой снеди? Копание в помидорах как отправление религиозного обряда.
– Как ты думаешь, отчего вокруг так много дебилов? – спрашиваю проснувшегося Марка. – А у так называемых нормальных людей лица воинственных дебилов?
Марк, потянувшись и сделав полный вздох, усаживается на любимого конька:
– Потому что это больное общество. Оно безумно. Безумна его основная цель – непрерывное воспроизводство денежной массы. Производство во имя производства. Ты посмотри, как хорошо здесь неразмышляющему обывателю из Союза: токарю, слесарю, механику, торгашу, ювелиру. Он вписался с колес. Это его стихия. А человек с умом и сердцем страдает. Он здесь не нужен. Бездушная машина непрерывного воспроизводства отвергает его.
– Но ведь выехали диссиденты, поборники идеи.
– Не говори мне о них. Это или идиоты, или полууголовники. Люди со всякими извращениями. Ну сам рассуди, по силам ли человеку бороться со сложившейся системой жизни? Если у него хоть капля ума есть, он должен сообразить: нужно или приспособиться, или погибнуть. Ну представь себе, идет стадо, а один баран возникает, бодается с пастухом, блеет и сопротивляется. Здесь ведь тоже особенно не позволят тебе идти против течения. Все эти демонстрации, марши протеста – игра. Все решает элита. В ее руках рычаги и там, и здесь. Все эти диссиденты сами не знают, чего хотят. Диссидентство есть форма самоутверждения дегенератов, уголовников, выродков.
Его веки обведены синевой. Синяки сходятся у переносицы. Как будто человек долго носил синие очки, а потом снял, но очки пропечатались.
– В былые времени изгнание было страшным наказанием. Человека исторгало племя, изгонял народ, и он как бы умирал. Его больше не было, потому что как же он без родного языка, преданий, без людей своего психологического склада, общей с ним судьбы.
– Но ведь уезжают итальянцы, латиноамериканцы, поляки…
– На время, чтобы потом вернуться. Они остаются со своей страной. Важно сознание, что это не утрачено: язык, культура, могилы предков.
– Евреи уехали от антисемитизма, ведь был же там государственный антисемитизм.
– Да евреи в Союзе больше успели, чем в Америке. Разве не были мы там директорами, учеными, музыкантами, писателями, журналистами, разве все мы не закончили вузов?
– Но все равно ты там был еврей.
– Да не еврей я вовсе, русский я. Есть такое понятие – русский еврей. Потому что для меня Ваня с кружкой пива понятней и ближе, чем вся эта сионистская п…добратия. Я с ним на одном языке говорю, кости наших отцов лежат в одной братской могиле. Я родился и вырос в стране великой культуры. Я впитал ее в себя. Она несоизмеримо выше всего того, что меня здесь окружает. Я попал в дикую, нецивилизованную страну. Ты думаешь, американцы не понимают, кто едет? Если человек покидает свою страну, родной язык, народ, с которым у него психофизическое сродство, единая судьба, и едет неизвестно куда, не имея точной информации, этот человек или идиот, или сумасшедший, или агент КГБ. Покинуть страну белых людей, чтобы жить среди дикарей. Где она, Америка? Вокруг меня грязные, дикие, вопящие, обкуренные марихуаной, расслабленные, развращенные, неграмотные, жрущие, е…щиеся, мастурбирующие ублюдки, переступающие через горы мусора. Десятки миллионов ублюдков, и ничего святого. Жизнь под знаком доллара, построенная на конкуренции, борьбе за выживание. А у меня совсем другая ментальность. Мне внушали: жизнь должна быть основана на единении людей, кооперировании, взаимопомощи. Ведь по сути их тамошние лозунги верны.
– Но ведь каждый ехал добровольно.
– Это только так кажется. Была создана соответствующая обстановка: самолетное дело, шум вокруг диссидентов, антиизраильская кампания. Евреев перестали принимать на работу. Нужно было создать давление, припугнуть стадо баранов, предназначенных на продажу. И вот когда соответствующее давление возникло, открыли загон. Это ведь не эмиграция, а скототорговля. Это преступление тех и этих перед всеми нами. Одна элита договорилась с другой. Вы нам компьютеры, оборудование, займы, мы вам евреев. Двести тысяч баранов… Диссиденты, самолетное дело, государственный антисемитизм – туфта, прикрытие, а суть в другом. Израилю необходим миллион евреев. Израиль – геополитический форпост, плацдарм у Персидского залива. Необходим миллион евреев.
– Но ведь в Израиль едут сегодня немногие.
– Главное, чтоб стадо двинулось. Неважно куда. Пусть в Бруклин, Джерси-Сити, Квинс. Чтоб реанимировать черные, умирающие районы. И здесь они пригодятся, эти бараны. Чтоб белым песком посыпать черное дно. Обыкновенная скототорговля. Раньше, чтобы забросить резидента, его нужно было долго готовить, придумывать версию, внедрять. А сейчас можно вместе со стадом запустить сотни, тысячи, десятки тысяч. Пойми, и та и другая системы – дерьмо. И там и здесь все определяет элита. Обыкновенные элитарные системы. Только там разрушается экономика. Они не могут бесконечно наращивать вооружение. За Америкой не угнаться. Дайте передохнуть. Запад отваливает миллиарды долларов: поставки, кредиты… А в обмен всего лишь миллион евреев, миллион обывателей, человеческого дерьма, мутителей воды, идиотов с отбитыми мозгами.
– Отчего они все время копаются в помидорах? – спрашиваю я. – Копание в помидорах как отправление религиозного обряда.
– Потому что это и в самом деле обряд. Ради этого покинута родина, естественная среда обитания. Эти роскошные лавки Снайдерса есть реванш за разнузданных негров по соседству, грохот над головой, тяжкий труд, ад и преступность сабвея. У одного писателя герои живут в кастрюле с супом. Поплавают, нырнут, откусят от гигантской клецки, вынырнут опять. Эти люди живут в кастрюле с супом. Жить, чтобы есть свой суп.
– Мне пора, – говорю я, – мои клиенты поджидают меня.
Я проживаю среди ягодиц. Нужно забрасывать пишущую машинку в багажник и ехать. Мои бабочки слетаются к часу дня.
* * *
Майкл Тевел, двухметроворостый двадцатидвухлетний гвардеец с великолепным розовым фаллосом, не знающим проблем и застоев. Маленькая голова. Маленькие ступни придают всей фигуре ощущение неустойчивости.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?