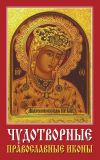Текст книги "Голая пионерка"

Автор книги: Михаил Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Нож скребнул по обнажившейся золотой кости.
Маша закричала. Чайку обдало морозным ветром – он пронзил ее, как тысяча ножей.
Мигнул на столе огонек коптилки. Старушка подняла голову.
Холодная боль во всем ее трепещущем незримом теле перемежалась охватывающим жаром стыда. Она поняла, что ее разыграли. Но вот кто? Кто, бляха-муха?!
У замотанной в платок горбатой бабули были густые рыжие молодые усы и оранжевая щетина на небритых щеках. Пока лицо ее было в тени, усов Чайка не видела. Бабушка воззрилась на невидимую Чайку или сквозь нее – затянутыми мутной зеленью впадинами голодных и тусклых глаз, с дрожащим лезвием в руке, и красными пальцами гладила свои усы, поводя с трудом обмотанной головой и прислушиваясь. Понюхала свои пальцы, облизала их и причмокнула. Потом сказала тонким и хриплым голосом, на самом деле старушечьим: «Крысы…»
Чайка метнулась к окну, в щель между подушкой и рамой форточки, уже поняв, что ее провели жестоко и насмешливо, и хохоча во все горло, которого у нее, впрочем, не было, ввиду абсолютной невидимости всего стратегического организма. Обдурили идиотку доверчивую – как в ленинградском ТЮЗе, на Моховой улице: и тут тоже дядьку переодетого за старуху приняла, за настоящую Бабу-Ягу. Пока она, костяная нога, чуть не два часа по сцене за пацанятами гонялась, как враг народа, сожрать их грозилась, Муха вместе со всеми ребятишками-зрителями извелась, буквально. Молодая была, зеленая: в третьем классе всего. Ну и, конечно, от возмущения заревела, на сцену бросилась, еле-еле папочка удержал: не бойся, мол, все хорошо будет, милиция в курсе дела. До конца последнего действия так и продрожала: а вдруг милиционеры не подоспеют? Ведь вон какой нож у Яги! И сабля! И пистолет!… А когда ее, бандитку деклассированную, схватили, когда опустился занавес и артисты кланяться вышли, Баба-Яга вдруг свой косматый парик как сдернет – а там лысина! Муха чуть в обморок не упала. Это до какой же степени кровожадным надо быть на самом деле артисту, да притом и бесстыжим – в людоедку старую играть у всех на виду! Лысый, солидный мужчина на первый взгляд. А на поверку выходит – что? Замаскируй его париком, дай в руки нож – и готов диверсант отпетый!… Вот и тут, на кухне ледяной, тоже сцену диверсанты устроили. Нарочно – доверчивых дурить, если кто из соседей поинтересоваться зайдет, почему все-таки котлетами жареными в блокаде запахло. Просто дал ихний художественный руководитель нож в руки первому же попавшемуся гансу, а под нож в аккурат подложили ему девочку гуттаперчевую, вроде манекена, красной краской измазанную, – и давай себе комедию ломать. Специально для слабонервных: вот, мол, до чего озверели в блокаде сыны и дочери города Ленина, полюбуйтесь, товарищи зрители, распространяйте теперь во все стороны вражескую нашу клевету и дезинформацию, если вы такие неустойчивые морально, что в двух шагах даже не разглядеть вам усов у Бабы-Яги под носом. И ведь поверила же, а? Поверила! Одно и спасло: забыл все-таки гитлеровский худрук своему главному артисту усы сбрить, чем и обнаружил коварный свой замысел курам на смех. Тут уж и не захочешь, а засмеешься так, что голова кругом пойдет, а с ней вместе и вся их лживая пропаганда с ледяными стенами и тощими трупами в бантиках голубых, вшами обсиженных. Вот и захохотала-закатилась Чайка, глаза свои вытаращенные руками прозрачными прикрывая от ужаса все-таки непонятного, юлой вертясь вокруг себя самой и проваливаясь все глубже, пробивая вязкое дно фашистского сна и возвращаясь в родное свое бытие. А когда пришла в себя на топчане, дрожащая возвращенным телом, как будто пронзавший ее во сне мороз застрял в костях, долго не могла унять колотивший ее смех, и утирала дурацкие детские слезы.
Надо же так опозориться, а! В чужой сон залетела! Все правильно, идешь на задание – нечего отвлекаться. Не заглядывала бы в чужие окна, как невоспитанная какая чудачка, не влезала бы в кухни по ночам, – так и не сбилась бы с маршрута. Сны-то ведь у людей не нумерованные, не вытравлена на них фамилия твоя хлоркой, как на брюках либо гимнастерке, – на каждом-то сне, положенном тебе для просмотра согласно штатного расписания, – самой надо ухо держать востро, не зевать, прицеливаться не в молоко, а в десятку. А загуляла, сунулась вместо своей родной форточки в чужую, – свет, видишь ли, домашний потянул ее, бабочку безмозглую, – ну и не хнычь теперь, если решила тебя использовать в своих подрывных целях вражеская пропаганда, поймала птичку в мышеловку. Не бывает, товарищ? Еще как бывает, бляха-муха! Это у старух ленинградских усы под носами не растут рыжие, действительно не бывает, а с тобой во сне все что угодно может случиться, не забывай, имей в виду. Учат, учат вас, трепачей, – бдительность и еще раз бдительность днем и ночью! Ведь оглянуться не успеешь, росомаха, как завербуют и станешь предателем. И не захочешь а все-таки будешь тогда слухи распространять для паники, подрывать боеспособность изнутри. А все начинается с обыкновенного, на первый взгляд, сна: подумаешь, бабушка внучку режет, да когда заболеешь, то в бреду и не такое привидеться может, сон есть сон, бляха-муха! И с каждым может подобное дерьмо иметь место, со всеми поголовно. А почему? А потому что не только друзьям-товарищам – в первую очередь и себе самой доверять не имеешь права – ни на грош! Даже собственным глазам и ушам. Убедилась теперь. Еще бы минута – и поверила бы в самом деле, что в Ленинграде уже чуть ли не внучек собственных бабушки усатые жрут. Вовремя приоткрыла «бабуся» волчье свое лицо диверсанта усатого, на всю жизнь урок дала дуре. И что характерно, при подобной расхлябанности, что-то в этом предательском духе и должно было с Чайкой случиться рано или поздно. Все теперь – амба! К окнам чужим, к дверям, к щелям, к форточкам, к трубам, к огонькам свечек за шторами – ни-ни, ни под каким видом, пусть хоть гори они синим огнем, вплоть до того. Мировой получила урок. И хотя сразу же сделала для себя оргвыводы, учла, как положено, и осознала, два часа еще, минимум, вертелась на топчане, переворачивалась с боку на бок: стыдно же!
Главное, то стыдно, тот самый факт, что все же поверила на минуту, приняла эту пропагандистскую фальшивку, шитую белыми нитками, за настоящий правдивый советский сон. Нет бы мозгами туда-сюда раскинуть, сопоставить кое-какие факты, – ведь сразу же раскусила бы всю ихнюю подставную комедию на месте. Во-первых, уж если начистоту, могли бы и поправдивей они подмастерить это свое кино про резаную девочку, тогда бы уж точно попухла Чайка окончательно, клюнула бы на удочку и приманку проглотила, – а то ведь и девочка у них какая-то была подложена безжизненная, и главному герою даже усы сбрить не догадались для конспирации. А во-вторых, стоило только вспомнить Чайке не теперь, уже Мухой обратно будучи, а там, на промороженной несоветской кухне с обледенелыми, как у Северного полюса, стенами, – всего-то и припомнить, что и у тебя, идиотка дурацкая, точно такой же был бантик в косичке, еще в сороковом году, когда к бабушке Александре в деревню отправляли. Запасную ленту еще мама в чемодан сунула тебе – точно такую же, голубенькую, в белый горошек. Вот и выходит, что если бы не ты заболела в сороковом году туберкулезом, вошь тифозная, а, к примеру, Верка Митляева или ее пухленькая, с вечным своим бутербродом, сестра Любка, – вполне могла заразиться от тебя в первую очередь, тьфу-тьфу, конечно, не сглазить, в одной ведь квартире жили, общей почти что семьей, за исключением, конечно, сервелата, – то и в деревню бы вместо тебя Верка с Любкой уехали, а ты бы осталась, как дурочка, в блокаде с бантом своим дурацким. Так? Так. То есть на место той бабушкиной внучки очень запросто и попала бы зимой сорок первого, теперь, – в аккурат на кухонный стол. Уже плоховато что-то верится, верно? Погоди, это еще только цветочки. А теперь давай попробуем представить, что ты лежишь на столе, хотя бы даже и мертвая, пускай, а какая-нибудь замотанная в платок Веркина с Любкой бабушка Лизавета Родионовна хватает вдруг ни с того ни с сего первый попавшийся колун и начинает тебе задницу разрубать на огузки – за неимением под рукой у тебя собственной бабушки Александры (она в деревне по-прежнему, ты не теряй нить, росомаха, она Верку с Любкой молоком отпаивает от туберкулеза, ведь ты-то здоровая, они вместо тебя как бы заболели, а ты здоровая, просто в данный момент умерла с голоду и лежишь перед Лизаветой Родионовной на кухонном столе – вместо Верки с Любкой и той незнакомой девочки с твоим собственным бантиком в горошек). Чушь получается, верно? Но и это тоже пока еще цветочки, мы сейчас глубже копнем, где самая собака-то и зарыта. Хотя уже и так ясно, что концы с концами не сходятся, не может тебя простая советская старушка сознательная рубить и резать в качестве говядины, – что она, психическая, что ли? Ведь в школе училась, объясняли ей, что положено делать, а что не положено. К тому же, сколько раз ты для нее в булочную за халвой бегала! А если и съела на обратном пути кусочек, пока на пятый этаж поднималась, – так она бы и сама всегда рада была угостить ребенка, если бы не забывала регулярно по причине сильной слабости мозговой памяти в голове. И в библиотеку ты для нее бегала за романами Дюма, – любительница ведь она, книгочейка завзятая, прямо зачитывалась запоем… А может все-таки замечала она, что воруешь ты потихоньку халву из кулька, объедаешь ее старость заслуженную? Для нее же халва – это святое, буквально, а ты ее – зубами… Но неужели же безотказность твоя дисциплинированная не важнее кусочка халвы? Ведь редкий же день не бегала для Лизаветы Родионовны в библиотеку, редкий день, буквально! Ей книжку прочесть – пять минут, даже без очков шпарит… А там, кстати, на кухне у старушки, что характерно, потому печка и шуровала на всю катушку: книгами она ее топила, как раз «Три мушкетера» валялись, уже разорванные пополам, чтоб лучше горели и дыму поменьше… Снова концы с концами не сходятся, чувствуешь? Это чтоб Лизавета Родионовна книги жгла? Да вы в своем ли уме, товарищи дорогие? Врите, да знайте меру, бляха-муха!
Нет, мы с вами сейчас еще дальше пойдем. Мы вот сейчас представим, что это и не соседка была, с ножом-то, не Лизавета Родионовна с вечной своей халвой над романом, а собственная твоя мама. А? Почему бы тогда и нет, раз уж так у нас все смешалось в кучу? И пускай все знают, что мамочка – самая добрая, самая лучшая. Вообще мать – святое самое, сразу же после Родины для каждого следует, то есть, конечно, после Родины и коллектива, это понятно, – на третьем месте аккурат, как согласно всех штатских правил и даже на фронтовые условия распространяется, несмотря на единоличные чувства. Святое-то оно святое, – а как ему быть, если с голоду вот-вот помрет, даже по усы по самые завязалась в платок – и не согреться на пустой желудок? А ты сама при этом уже фактически умерла, ты не теряй нить, причем мама в этом твоем неживом положении убедилась не только когда резать тебя стала, а ты молчишь, но раньше, конечно, заблаговременно. Так можно тогда ей от тебя чуть-чуть мяска отрезать все-таки? Или нет? Но почему же нет, если всем вокруг уже все можно – и немцам позволено бомбить город Ленина, и ленинградцам никто не препятствует книги самые лучшие жечь – даже «Трех мушкетеров», которые, между прочим, всегда были «один за всех, а все за одного», как положено? И причем не только книги любимые жечь можно, но и соседских девочек на мясо пускать, пока они еще не захолодели от смерти, не задубели, тепленькие еще, как мы только что на примере чужой старушки Лизаветы Родионовны и получили подтверждение по всем пунктам. Как девочка бабулю-то обнимала ручкой, когда та ее – ножом, помнишь? Ведь век не забудешь, верно? А бантик-то, между прочим, – твой личный, голубенький, – значит, и мамочка твоя могла бы в ту минуту быть замотана, как старушка, в точно такой же платок по самые усы. Логично? Абсолютно железно. Так, бывало, Вальтер Иванович скажет, в хорошем настроении улыбаясь всему классу: «Если на клетке с тигром написано: «лев», – не верь глазам своим. Логично, товарищи красные гимназисты? Железно! Так и запишем!» И все мальчишки вечно присловье его повторяли: «За контрольную завтра ты, Муха, опять неуд получишь. Логично? Железно!» – или еще там что-нибудь в подобном же роде – жеребцы. Так что не верь глазам своим – это главное. Иначе запутаешься, заплутаешь в трех соснах и не поймешь никогда, что у тебя под самым носом творится на самом деле. А там уже и усы выросли, как у заправского шпиона, – вот что на свете-то делается, бляха-муха! Но если, кстати, у мамочки никогда усов не было, то это еще не значит, что и нож в руки она никогда бы не взяла; усы одно, а нож – совершенно, извините, другое; «где имение – а где вода!» – сама же мамочка и любила повторять, если Муха чего-то не понимала и путала между собой две какие-нибудь большие разницы. А значит, все же могла, вполне она могла быть на кухне вместо той старушки – в точно таком же платке даже; у нее как раз и был один старенький, серо-коричневый, почти точь-в-точь такой же. Почему нет – если уж мы решили правде в глаза смотреть?…
Что – не нравится, бляха-муха?! Задрожала опять? А ты сопоставляй, сопоставляй, прикидывай. Если такая дура. Если во сне поверила в дурь такую – то и теперь верь в эти свои жуткие выдумки. Что же ты дрожишь-то, что ты трясешься-то вся, задница твоя недорезанная? Завсхлипывала опять? Страшно? Не может быть, говоришь? Правильно, не может. Тем более, мамочка с папой погибли под бомбежкой. И вообще – просто невозможно – и точка! Не может сознательный советский человек соседа своего по коммунальной дружной квартире сожрать – и не поперхнуться, а тем более – ребенка родного, – бред!
Так как же ты посмела в подобный кошмар-то поверить? Как у тебя хватило совести в жуть-то такую поверить – с бантиком голубеньким, не виноватым ни в чем, кроме кусочка халвы арахисовой? Почему сразу же не поняла все как есть, бантик-то свой милый увидев, горошинки белые, вшами нагло обсиженные? Где при этом была твоя голова садовая? Плачь вот теперь, кусай себе руку. В другой раз умнее будешь. Давно бы уж, между прочим, в твоем возрасте разобраться пора, во что следует верить безоговорочно, если и в газетах написано, и любой командир подтвердит, а в каких случаях ты просто обязана закрыть глаза, плюнуть во всю эту вражескую ложь и перелететь спокойненько в два счета из чужого шпионского сна – в свой, сознательный и политически грамотный на все сто процентов, даже больше. Вот и перед мамой теперь вдобавок стыдно, что думала про нее так, представляла ее на старухи усатой месте. Уж только бы не услышала она, мертвая, ненароком таких о себе нечеловеческих мыслей архиглупых, не заглянула бы в эту минуту в Мухину голову, в дурную башку, – обидится ведь на всю жизнь, а что может человек с того света оставшимся здесь сделать в наказание, – это ведь еще наука точно не установила, как раз бьются ученые, один капитан говорил одноглазый, его из-за зрения только, между прочим, и не демобилизовали с фронта: за версту комара видит и очень способствует проверке данных, разведанных путем визуального наблюдения за передовыми траншеями гансов почти круглосуточно, потому его и ценят, ничего даже не сделали, когда он у Мухи на топчане неделю прожил, от начальства схоронившись, – пришлось, правда, ему после соврать, что он всю неделю второй свой глаз стеклянный искал на нейтральной полосе, поскольку без него вести наблюдение не может: он у него как бы вроде противовеса для максимальной остроты взгляда…
Уснула Муха в слезах, но отчасти уже успокоенная. И приснилась ей мама – Зинаида Владимировна. Впервые приснилась после того дня, когда бабушка Александра молча дала ей теткино письмо и Муха узнала, что ни мамы, ни папы больше на свете нет и не будет.
…Прямо к ней на топчан опустилось густое, искрящееся молочное облако нежной радости, – разом утешая Муху во всех ее терзаньях болящего тела и души ее, в миг успокоенной и прежде тела прильнувшей к облаку счастья. Муха, сладко вздохнув, прижалась к маминой груди, обняла ее, плача и вытирая щеки о теплое облако. Она отлично понимала, что находится сейчас во сне, но сон вокруг какой-то особый, не простой и не стратегический, а как бы иная некая жизнь, – меж сном и явью мреет она, как летнее полдневное марево, что размывает плоть видимой жизни, не обращая бодрствующее вещество в проницаемый невесомый сгусток смешанного с тенями света.
Мама смотрела в потолок землянки, лицо у нее было темное, и взгляд неподвижен, как у мертвой. И Муха почувствовала вдруг, что никакая она не Чайка и никогда не была ею, что только лишь этого родного тепла она и искала в своих полетах, к маме рвалась, домой, понежиться так вот, поплакать всласть, уже спокойно, уже зная наверняка заново: это тепло, и нежность к тебе, и обнимающий, лелеющий покой – это все твое, твое собственное, и никуда не уйдет, не исчезнет никогда, навсегда тебе принадлежит по самому прямому праву и будет вечно тебя утешать, согревать и любить, а разлука коротка, скоро снова мамочка будет рядом каждый день, каждое воскресенье выходное, да и по будням тоже. И только от лица мамы, запрокинутого в глухой тоске, шла тревога, неизвестная Мухе, чуждая ей неким неизведанным, нежитейским смыслом.
– Мамочка! Когда же ты заберешь меня к себе? Мамулечка! Мамуля моя родненькая…
Муха зарывалась в молочное облако, млела в нем, пронизанная разом всею памятью мира семьи, общим с мамой дыханьем. Как можно жить без этого? Ведь без этого – не жизнь, а смерть!
– Когда, мам? Я так соскучилась за тобой!…
– Не спрашивай! – не глядя на нее, коротко махнув рукой, сказала мама.
Муха заплакала сильней, понимая, что никогда не узнает того, о чем должна почему-то молчать мама, знающая, разумеется, все.
– Никого, никого у меня нет! – почти крикнула Муха, рыдая и задыхаясь, приходя в ужас оттого, что кричит на маму и требует недозволенного с укором – словно бы та в чем-то виновата. – Ни одного человека живого не осталось! Зачем ты так, мамочка? Что я сделала?!.
Облако колыхнулось, и Муха увидела с ужасом, что и мама плачет, плачет беззвучно и глубоко, как умеют только взрослые, – не нуждаясь в утешении, ведь невозможно маленькой девочке утешить такую непомерную, такую непостижимую пугающую тайну далеких огромных тягостей совершенно иного естества.
– Мама Люся у тебя, – сказала мама, горестно улыбаясь, и не было понятно, в утешение ли, в насмешку ли Мухе говорит она эти странные слова, ободряет ли, предупреждает ли о грозящей опасности – или просто шутит над своей глупенькой Мушкой.
– Солнце еще ребенок, – добавила она со вздохом, вовсе уж непонятно, едва ли не с отчаяньем – и вновь колыхнулось и как бы вскипать изнутри стало молочное облако, началось в нем неспешное подспудное броженье – как в закипающей кастрюльке с манной кашей, – и еще, еще теплей, еще слаще с мамочкой стало Мухе, вновь и еще глубже успокоенной теплыми токами, омывающими ее существо со всех сторон, прогревающими насквозь, оживляющими какие-то забытые, давно, думала, утраченные ею глубины надежды и дочерней нежности к жизни.
Однако облако стало растекаться и таять. Муха почуяла со страхом, как вся ее суть и жизненность, успокоенные только что и слившиеся со светозарным облаком, стали сжиматься, удобно и стыдливо умещаясь друг в друге, и холодеть, вновь погружаясь в ознобные волны одинокого, пространного и опустелого сна. Рассеялись под потолком землянки серебряные искры, Муха осталась, тяжелая, чужая, на жестком топчане. И почти тотчас же проснулась, захватив все же из сна, как выстиранный чулок из лоханки, мамины странные слова о Люсе и о солнце. С ней еще оставались каким-то чудом принесенные мамой тепло и уверенность, что в конце концов все будет очень хорошо – там, у мамы, вместе с мамой, под ее защитой и по ее воле. Но сейчас главное было – осознать, что означают мамины слова, о чем они в самом деле, а не во сне, и что необходимо теперь делать, чтобы не упустить что-то важное и одновременно не растерять подаренное теплым облаком утешение и прощенье. Жаль только, что почему-то про Вальтера Ивановича не сказала ничего мамочка, а ведь, наверное, знает хоть что-то, уж это наверняка…
Одно было ясно уже сразу: Люсе следует, конечно, уделять гораздо больше внимания, а то вот и мама как будто сердится, что редковато Муха заглядывает на Суворовский. Оттого, наверное, и напомнила о Люсе мама, что в последнем рейде Муха так ведь и не попала домой, сразу же и проснулась после позорной истории с усатой старухой. Кто знает? Факт то, что Люся голодает на Суворовском одна-одинешенька, и, значит, следует, как только появится возможность, уделять Люсе, как полагается.
И в этой связи очень, конечно, мирово получилось, что генерал Зуков поручил своей Чайке именно Ленинград, потому что этот город носит имя великого Ленина, почему фактически и попал в пиковое, как говорится, положение, – из-за ненависти гансов к этому ненавистному имени. По сути дела тут, конечно, радоваться особо нечему, тем более, если ты патриот и переживаешь на этом основании за родину, как и полагается. Но ведь, с другой стороны, если бы не блокада, пусть даже хотя бы и со снами фашистскими на чужих кухнях, где бесноватый фюллер свою оголтелую пропаганду развел, падла, еще и с бантиками голубыми для полной дезориентации мирного населения, да если бы не определил Чайке генерал Зуков именно данный населенный пункт почему-то, Ленинград, – так ведь только в мечтах и слетаешь домой с переднего-то края, а сны уже были бы постоянно московские какие-нибудь, согласно полученного приказа, с какими-нибудь Царь-пушками да Царь-колоколами, расколотыми вместо живой родной Люсеньки, за которую переживаешь весь день и ночь, если не очень занята. Причем, оказывается вот, не ты одна из-за нее боишься, а и мама откуда-то с облаков. А то вообще по-немецки бы спать приказали и обучили в два счета, если бы на Берлин поручили летать, – и шли бы сплошь сны берлинские, с рейхстагами, свастиками, гансовскими харями кругом, как уже однажды имело место, – до сих пор вспоминать противно. А так – хоть изредка все-таки домой заскочишь, – кто еще в подобных льготных условиях воюет?
И вот Муха снова, снова, снова летит над родным Ленинградом!
Отпустят в этот раз – или не отпустят? Вот уже и площадь Восстания пролетела, Старо-Невский внизу, Александро-Невская лавра впереди торчит. Неужели без увольнения оставят?
«Одна нога здесь – другая там! – голос у генерала Зукова теперь недовольный, ворчливый, но снова Чайка различает за напускной строгостью добрую его улыбку. – Три минуты на все!… Чайка, Чайка, я – Первый! Ррразрешаю тррехминутную самовольную отлучку! Сборный пункт – Дворцовая площадь.
Повторяю: через тррри минуты прррибыть на Дворцовую! Свободна!»
Свободна!!!
А он-то, лапочка такая, чему радуется, да голосом играет раскатисто этак, да смех сдерживает едва? До чего хороший все-таки человек, до чего родным стал за эти месяцы – жуть!…
Завернув тройное сальто, Чайка бросается вниз, как на лыжах с горы. Темные улицы скользят под ней назад и вверх. Остаются позади клубящиеся пожары, ослепляющие пятна гигантских прожекторов, широкие полотнища дыма и облака пепла. Домой!
Окно своей комнаты в пятом этаже старинного дома на углу Суворовского проспекта и Седьмой Советской улицы Чайка нашла бы и с закрытыми глазами. Приникнув на миг к стеклу, заклеенному, чтоб не лопнуло сдуру от близкого взрыва, еще мамой или Лизаветой Родионовной крест-накрест полосками газетной бумаги, она уже чувствует, что в комнате есть живое тепло. Люся жива! И только теперь понимает Чайка, какая тоска мучила ее с позапрошлой ночи, а теперь вот ушла. Прошлую-то ночь ей уснуть не удалось. Накануне как раз в роту влилось пополнение, и уже с полуночи вплоть до самого подъема курносый маленький лейтенант плакал у нее на груди, рассказывал о своей первой любви, прекрасной десятикласснице Клеопатре Тютько, которая оказалась коварной изменщицей и провожать его на фронт не явилась. Лукич дежурил на передовой, и она не препятствовала курносому рыдать в полный голос. Муха уж и гимнастерку стащила с себя, и трусы, чтобы он обратил, наконец, внимание на девушку, отнесся бы скоренько по-человечески и не мешал больше спать. Но лейтенанту срочно надо было пораспускать сопли – прямо эскренно, бляха-муха! Иногда спрашивал: «Жарко тебе, да? Ничего, я сейчас, только доскажу тебе все до конца – и уйду. Потерпишь, а? Ну что тебе стоит!» Всю ночь с ним, трепачом, глаз не сомкнула. Курносый бубнил ей в подмышку промокшую, а она все ломала себе голову, не понимая, куда могла подеваться бестолковая Люся. Потому что в позапрошлую ночь Чайка чуть не опоздала на Дворцовую площадь, облазала всю квартиру, буквально, в каждую щель просочилась, но так ее и не нашла. Что за притча? Убили, съели? – как ту девочку с голубым бантиком. Так ведь пустая квартира, опечатанная даже, все соседи в эвакуации. Кстати, если печать на двери висит, значит и воры не забрались до сих пор, так? Не могла же Люся улететь через дырочку в углу рамы – она не Чайка пока что. Прямо какой-то дурной сон, честное слово! Вот, кстати, лужица на кухне, под раковиной, – от жажды, значит, не могла она умереть. Неизвестно, конечно, каким чудом еще сочится вода специально для Люси, когда нигде уже водопровод не работает, но если бы не подтекала ржавая труба, не выжить бы Люсе, факт. Нет, она где-то здесь: какашки ее лежат в углу комнаты, есть и свежие. Хорошенькие такие какашечки, продолговатые, как косточки фиников довоенных. Жива, жива старушка! Да где же она, зараза такая, бляха-муха! Не для того же она, чудачка, в самом-то деле, полтора года голода пережила на страх врагам, чтобы пропасть ни за понюшку табаку, когда уже вот-вот прорвана будет блокада. Ведь глупо же! И сухарей вон в шкафу еще три мешка нетронутых, на десять лет насушить успели родители перед проклятой своей командировкой разбомбленной, царство им небесное, – если, конечно, учесть скромные Люсины аппетиты… Люська, вылезай же! Не в булочную же ты пошла, в самом деле, не на рынок, соображать надо все-таки хоть чуть-чуть, товарищи дорогие!… Да что толку кричать, если нет у тебя во сне ни гортани, ни голоса, один дух святой, извините за выражение…
И все же целых двое суток после своей Чайкиной ленинградской самоволки Муха кляла себя и грызла поедом, что так и не обнаружила в пустой квартире Люсю – ни живую, ни мертвую. А теперь, у окна родного, ей стало легко, как в осенний вечер сорокового года, когда внесла Люсю в дом, уже заранее зажмуриваясь от предстоящего крика мамы: «Этого нам еще не хватало!!!»
Чайка всматривалась сквозь стекла, но в комнате было темно. Она скользнула вдоль рамы окна и плавно перетекла в комнату сквозь треугольную дырочку, где уголок стекла был отколот еще до ее рождения. Всю жизнь собирался папочка заменить стекло, даже алмаз купил стеклорезный на барахоловке, да так руки и не дошли: секретный работник, понятно, то ночью ни с того ни с сего по тревоге поднимут, пришлют нарочного, то в выходной телефон зазвонит с утра, он в трубку сразу: «Слушаюсь!» – кепку на затылок, браунинг в карман – и ждите через неделю в лучшем случае. Сколько раз мамочка смеялась: «Не судьба тебе, батька, окном заняться, вся жизнь наша с тобой – эскренная!» Зато теперь Мухе, уже Чайкой будучи и фактически являясь, ничего не стоит попасть к себе домой без ключа. Она скользнула в щель между черными защитными шторами. Ну вот и дома!
Пролетая над письменным столом, она нежно коснулась обложки своего учебника истории, заглянула в пересохшую чернильницу-невыливайку, тронула неосязающими губами свое ситцевое платье на вешалке – синее, в белый горошек, мамочка сама шила. Запах детства уже едва пробивался сквозь пыль запустенья. В легком и редком свете своего искрящегося зыбкого тела, зримого ей здесь без освещения так ясно, что Чайку почти пугают длинные, змеящиеся пальцы голубых и все же прозрачных ее рук и долгие ноги, сросшиеся к тому же чуть ли не в русалочий хвост, – видна зато каждая горошинка на платье, и знакомый узор на обоях, пятиконечные красные звездочки на желтых кружочках, и даже шрамы-царапины на дверце шкафа: МАША. Первые свои кривые буквы в жизни выцарапала ключом от комнаты – в тот же день, когда папа впервые показал, как пишется ее имя. Мама отшлепала Муху и поставила в угол. А теперь Чайке странно и смешно вспоминать, с каким восторгом пятилетняя Муха процарапывала кривые палочки, продираясь сквозь мебельный лак и волокна жесткого дерева. Ну что такого особенного? М-А-Ш-А. То ли дело – Чайка! Чай-ка! Гордый высокий крик, мечущийся меж облаков в чистом небе. Чайка! – и черный дракон улепетывает во все лопатки на свой секретный аэродром, – знает кошка, чье мясо съела, как Сталин писал. Что ж, на то она и Чайка!…
На обеденном столе, прижатая солонкой, белела мамина записка. Протянув руку, Чайка осветила тетрадный листок собственным светом пальцев и ладони – как карманным фонариком. Проступили из темноты слова, которые Чайка помнила уже наизусть:
Доча!
Мы с папой вирнемся недели через две, уезжаем эскренно аллюр три креста. Если приедешь, а нас еще нет масло на кухне за окном макароны в буфете отварены, масла не жалей когда разогревать станишь не жмотничай. Без нас ерундистикой не занимайся срач в комнате не разводи, и не спорь с Лизаветой Родионовной, веди культурно в рамочках. За Люсей убирай как полагается, чисти зубы утром и вечером не ленись. Главное помни ты должна стать придметом нашей гордости, мы на тебя надеемся. Цулуем нашу Мушку.
Папа и мама.
Ниже приписано:
Р. С. Папа приказывает тебе не отдавать ни под каким видом мясо из супа Люсе так как ввиду того что в ближайшее время с питанием в городе будет архиплохо. Так что рубай свой паек сама наедайся впрок. А немца мы с папой, скоро прогоним, вернемся домой и в первое же воскресенье, пойдем в зоопарк на каруселях кататься все вместе. Будь умницей!
В углу комнаты послышался чмокающий писк.
Как последний лоскуток пламени над догорающей дровинкой, тихо светилась лунно-синеватая подковка над головкой Люси.
Приподнявшись, Люся замерла, как свечечка, смешно поводя тонкими ручками, пробуя, поталкивая, теребя пустую темноту перед собой. Чует! Или – неужели?! – видит свою хозяйку, как сама она, невидимая, видит Люсю. А хотя бы и видит – кому какое дело! Ведь если Муха не умела видеть Люсин слабенький светик, пока Чайкой не стала, это ж не значит, что и Люся всегда была такой же слепой фактически, верно? Вот летучие мыши, например, ориентируются как-то вслепую даже и в полной тьме своих пещер, да и кроты под землей, не говоря уже о простых дождевых червяках, у которых вообще глаз нет, – даже они находят каким-то духом свою дорогу, не сбиваются с жизненного пути, как говорится, – безо всякой помощи посторонней. Да ведь и Чайка уже представить себе не может, как и жила-то день и ночь, не видя настоящего света людей, животных, млекопитающих и всяких ботанических цветов, – до того привыкла к разноцветной красоте. А Люсе, может, и привыкать было не нужно, родилась такая. Почему нет? Во сне ведь все возможно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?