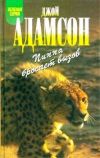Текст книги "Времена года"
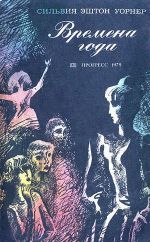
Автор книги: Сильвия Эштон-Уорнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Позже у меня дома он говорит:
– Я безработный. Моя работа меня не устраивает. Делать то, что мне хочется, я тоже не могу – не хватает образования. Я заблудился. Как маленький. Вот я кто. Блудный сын. За что меня так наказывает судьба? Когда на меня перестанет обрушиваться удар за ударом?
– Тогда на рассвете я вам сказала правду, и вы это знаете, но не хотите видеть очевидное.
Я чувствую, что не понимаю Поля до конца. Как не понимаю до конца своих малышей. Наверное, ключ, который где-то тут, рядом, когда я спокойна, помог бы мне открыть последнюю дверь. Потому что сам ключ каким-то образом связан с таинственной грозной силой, заставляющей меня делать не то, что я хочу. Но разве я могу его отыскать, разве я могу его подобрать на разбитой дороге, по которой мчится моя жизнь? Для прозрения нужна «неколебимость». А сейчас передо мной стоит один из моих малышей, и больше всего ему хочется разреветься, как Маленькому Братику.
– Я хотел сказать что-то всему миру.
– Понимаю.
Ну-ка... ну-ка... посмотрите на моего милого мальчика. Я не дам тебя в обиду.
– Я чувствую, что должен сказать что-то всему миру или... или... ну, скажем... погибнуть.
– Понимаю.
Я делаю ему огромный сандвич с картофелем, холодным мясом и с чем-то еще, благо у меня в холодильнике хранится куча продуктов, вредных для здоровья, лишенных витаминов и чего-то еще.
– На что вы жили?
– Продавал вещи.
– Что-нибудь осталось?
– Велосипед.
Только бы не рассмеяться.
– Кому вы собираетесь его продать?
– Вам.
Тяжелейший приступ смеха в моем прежнем стиле.
– Кому, мне? Мужской велосипед? – Наконец мне удается взять себя в руки. – Прекрасно, покупаю. Сколько вы за него хотите?
– Восемь фунтов.
– Надеюсь, – отвечаю я сурово, – велосипед в полном порядке? Звонок, багажник, задний фонарик и все остальное?
Но я не в силах продолжать, он слишком печален. Лучше поговорить о том, что меня действительно тревожит.
– Поль, милый, я хочу, чтобы вы оказали мне услугу.
– Что я могу сделать для вас, мадам?
– Я хочу, чтобы завтра утром вы прежде всего позвонили старшему инспектору, прямо домой, и сообщили о своем уходе вежливо, по всем правилам, с объяснением причин. И поблагодарили за то, что он предложил вам это место.
Поль обдумывает мои слова, глядя себе под ноги, как провинившийся мальчик.
– У. У. не понимает меня. Я должен сказать что-то всему миру.
Вдруг он поднимает глаза, и в них вспыхивает надежда.
– Кто-нибудь заменяет меня в школе?
– Да.
Я не знаю, надо ли продолжать. Потом понимаю, как невыносима для него неизвестность.
– Да. Старший учитель. Конечно, мужчина. В округе не нашлось квартиры для женщины, а поездки в автобусе слишком утомительны. Лет тридцати пяти. Претендует на более ответственный пост, но согласился выручить нас, пока в городе найдется работа, которая его устраивает. Веселый. Конечно, высокий. Еще один комплекс упражнений для моей шеи. Внешность Галахада, и все прочее тоже. – Сколько можно его дразнить? Я больше не могу. – Хотя во всем остальном Перси Герлгрейс – женщина: склонности, манеры, речь, имя. На самом деле, – у меня прилив красноречия, – он давно бы вышел замуж, попадись на его пути подходящий мужчина.
Но Поль перестал слушать, прежде чем я договорила, и мрачно смотрит в ночь сквозь кухонное окно. Ему страшно.
– Никто меня не понимает, – повторяет он, – а я должен сказать что-то всему миру.
Я молчу. Потому что он прав. Я плохо его понимаю. Я плохо работала и мало думала. Моим теперешним поискам не хватает целеустремленности. Бурные чувства и энтузиазм только мешают. Я слишком часто разражаюсь смехом и еще чаще проливаю потоки слез. Где строгость, простота, целомудрие и священный трепет художника, убежденного в своей правоте? Я опутана привязанностями. И сбита с толку не меньше моих малышей.
– Я зайду завтра, в середине дня, – говорит он; это его первая попытка заранее договориться о встрече, если память мне не изменяет.
– Можете привезти велосипед.
– Я его сокрушил! Я его сокрушил!
– Кого?
– Его величество старшего инспектора начальных школ мистера У. У. Аберкромби! Он сам обратился ко мне, и я милостиво согласился дать ему аудиенцию в баре. Он попросил, чтобы я... ну, скажем... пересмотрел свое решение. Мои слова сокрушили его!
– Не верю.
Я помню свой визит к старшему инспектору.
– Но это так!
– Я хочу сказать, не верю, что слова могут сокрушить кого-нибудь вроде У. У. Он несокрушим. Во всяком случае, с помощью слов.
– «Шесть футов административной власти в твидовой упаковке! – Вот что я заявил ему! – Шесть футов серой работоспособности! Жрец культа человеколюбия! Культ еще существует, но без вдохновения. Чаша, которую вы держите над нашими головами, пуста! – сказал я. – Пусть когда-то это было не так. Пусть когда-то доброта, о которой твердят наши учителя, питала вашу методику. Но сейчас чаша пуста. Административная пыль убила вдохновение. Чаша пуста! Пуста! – сказал я. – Остался только культ».
– И много вам пришлось выпить для храбрости?
– Семь кружек пива и четыре порции джина. О, как я счастлив! Как я счастлив!
– А он что сказал?
– Ему нечего было сказать. Эта длинная высохшая серая палка, эти десять ярдов серого твида, эта шестифутовая башня, сложенная из администрирования, работоспособности, элегантности, методики и мнимой доброты, рухнула, рассыпалась в прах, и мне пришлось помогать бармену выносить мусор.
Я не верю ему.
– Да здравствуют радости, которые дарит нам джин!
Поль достает бутылку бордо. С воодушевлением наливает мне через край, раскачиваясь, как заправский матрос на палубе корабля во время шторма.
– Выпьем, – шепчет он, высоко подняв бокал, – за вечер... вечер... ну, скажем... понимания!
Мы переносим бордо и Ван Гога в гостиную. Поль обладает поразительной способностью забывать о прошлом, даже недавнем, как забывают о смерти. Своей. А я только рада погрузиться в размышления о картинах и рисунках удивительного художника, который был наделен удивительным упорством и умер молодым, сгорев на огне собственной страсти. Какая пропасть отделяет это пламя от жалкого мерцания рядом со мной! Но в меня уже впиваются когти долга. Я должна вернуться к рисункам! Поль уносит французский вермут, который оставил у меня две недели тому назад...
– Так что же сказал У. У.? – спрашиваю я, когда мы усаживаемся.
В Селахе, где по углам висит паутина, говорят только правду.
– Он сокрушил меня.
– А как же ваша великолепная речь?
– Он сказал: «Надеюсь, вам было приятно высказаться, мистер Веркоу» – и поставил точку.
Темнота подступает все ближе, и сейчас, когда уже слишком поздно, я наконец понимаю, что означает стремление Поля сказать что-то всему миру. Он слез с ходуль, и его ум заблистал. Его раскрепощенный мозг кипит мыслями и переливается всеми цветами радуги, как пауа[14]14
Перламутровая раковина (маорийск.).
[Закрыть], и предо мной предстает лучшее, что есть в этом человеке, – человек, который за что-то борется.
Но я принадлежу к старшему поколению, и восторженность Поля угнетает меня сильнее, чем его отчаяние. Сияние преходящей славы только сгущает ночной мрак вокруг него. Почти до могильного – для того, кто его уже оплакал. Темнота подступает, поглощая все вокруг, до рассвета далеко, но меня больше не просят стать «этой женщиной». Тем лучше. После бегства Поля из школы в мире позади моих глаз произошла перестановка. Нет, этому человеку не суждено пожрать меня. Песенка «Ты да я» спета.
Посреди рассуждений о страсти как источнике вдохновения я встаю и подхожу к Полю. На этот раз мне не нужно запрокидывать голову. И я мгновенно вновь становлюсь учительницей. Поль сидит, откинувшись на спинку старого кресла, и смотрит на меня. Я треплю его по подбородку – первое добровольное прикосновение к его особе.
– Что случилось, что случилось, малыш?
Поль закрывает рот, молчание; с рассуждениями покончено.
– Что вы будете делать завтра?
Я знаю, чего он не будет делать завтра. Он не изуродует мой день. Не сорвет мою работу. Не помешает мне пойти в церковь, не заставит меня бодрствовать до четырех-пяти утра. В общем, не сделает меня «этой женщиной». И в частности, не пожрет меня. Отдает ли он себе в этом отчет? Думаю, что отдает. Он никогда не принадлежал к тем, кто не способен угадать смысл «прозрачных иносказаний». Пора ему понять, что я не могу быть для него последним прибежищем. Что нет для него прибежища. Пора понять, что «вера в другое существо» – миф.
Он смотрит поверх моей головы в окно, в темноту ночи, в темноту бесконечной ночи... И сейчас наконец ему нечего сказать. Как и мне. В Селахе воцаряется тишина, почта осязаемая. Огонь гаснет, я подхожу к двери и прислоняюсь к косяку. Какие найти для него слова? Что бы сказал Полю его преподобие? Наверное, то же, что с легкостью говорит при случае мне: «Благословляю вас». Но я не вправе произносить эти слова... И я наверняка не могу сообщить Полю ничего ценного. Теперь я хотя бы понимаю, в чем ошиблась, если уж не знаю, как ему помочь. Моя мысль работала недостаточно четко, я не могла быть ему хорошим поводырем. Долгие часы, которые я в ущерб работе тратила на разговоры, смех, музыку и алкоголь, пропали даром. Искусство и работу нельзя откладывать на завтра, потому что без них невозможно прозрение. Поля надо было держать подальше от моих кистей и книг, тогда я принесла бы ему гораздо больше пользы в те немногие минуты, которые у меня для него оставались. А я так щедро отдавала ему свое время. Щедро и бессмысленно. И сейчас я нищая.
– Я собираюсь, – спокойно отвечает он наконец, – сесть утром на автодрезину и уехать в Веллингтон. Поработаю на верфи, пока не получу место на судне. Дядя готов взять меня в компаньоны, его контора занимается мытьем окон.
Поль сливает в бутылку остатки французского вермута из своего стакана.
– Вы уедете утром домой?
– Домой? – переспрашивает он, поднимая глаза.
Я тоже чаша, которая пуста.
Его веки подрагивают, он разглядывает пустой стакан.
– Сейчас мне, наверное, лучше прогнать вас. Вам надо поспать.
– Домой? – переспрашивает он и снова смотрит на меня.
Я запускаю пальцы в волосы, и так уже поседевшие из-за него. Поль поднимает пустой стакан.
– Мой дом здесь!
Он произносит эти слова с покорностью пожилого человека, без ломанья, без жалости к себе. И ставит стакан на стол вверх дном.
Я запускаю в волосы все десять пальцев и вновь пытаюсь найти какие-нибудь слова, какие-нибудь удивительные слова, те единственные слова, которые нужно произнести. Волосы летят клочьями – только и всего. Я поворачиваюсь на сто восемьдесят градусов, распахиваю дверь и бегу, спотыкаясь, через темный сад к дому. Пробегаю через неосвещенную кухню в холл, оттуда в спальню, захлопываю за собой дверь, свертываюсь клубком на кровати и натягиваю на голову одеяло. Но и тут меня настигает звук удаляющихся шагов там, под деревьями. Я отчетливо слышу, как опускается на землю одна нога, потом другая... потом захлопываются ворота. «Ты слышишь эти шаги, бог?» – вопрошаю я. И все это оттого, что я изменила своей работе. Я так щедро отдавала ему свое время!
Щедро и бессмысленно.
Звук шагов стихает, растворяясь в безграничности ночи, и я вспоминаю слова, которые произнесла несколько месяцев тому назад: «В любое время, при любых обстоятельствах». Неужели он тоже их вспоминает? Какие круги разошлись от этих слов...
На следующий день – в воскресенье! – у задней двери дома на меня обрушивается родительница номер один.
– Мы все утро оттирали потолок! Сколько ведер воды вылили! А щетки пришлось сжечь! В жизни не видела, чтобы столько крови было у человека! Даю вам честное слово, мисс Воронтозов, куски сердца так и повисли на потолке! Кого хотите спросите!
– Что вы будете с ним делать?
Никто не любил Поля, я тоже его не любила.
– Ой, не знаю. Он ничей.
– На самом деле он мой. Можете принести его сюда. Зайдите, пожалуйста, к... мистер Риердон, надеюсь...
– Насчет похорон уже договорились. Надо только куда-нибудь его положить.
– В моей гостиной гроб будет вполне уместен.
Я уже оплакала Поля. У кого из смертных достанет сил пройти через это дважды...
Я стою в гостиной и смотрю на поверженного Поля. Лицо не пострадало. Но смерть изменила его. Оно стало похоже на чье-то другое мертвое лицо. На мертвые личики. О ком я сейчас думаю? Я побывала не на одних похоронах в па. Все мертвые лица, наверное, чем-то похожи. Но как странно, что... до меня все доходит так медленно.
Я не сумела спасти тебя, Поль, говорю я и иду к окну; я хочу поднять опущенные женщинами шторы и впустить в дом прохладную ласковую зарю. Я плохо понимала тебя, малыш. Я не подобрала ключа. Хотя согласись, я возвращаюсь к гробу, где покоится мертвая красота, ты не очень-то старался мне помочь.
Я глубоко вздыхаю, глубоко-глубоко. Не только о Поле. Я вздыхаю обо всех, кого мы не успеваем понять. Я смертельно устала, если только кому-нибудь есть до этого дело. В чем я очень сомневаюсь. Мои ноги! Я опускаюсь на подлокотник большого кресла, откуда мне видно его лицо. Ну-ка, ну-ка... посмотрите на моего славного мальчика. «Решил ты верно, мужества хватило». Прекрасный конец, достойный конец... ничего не скажешь, достойная решимость. Не сетуй. Я буду говорить с миром вместо тебя. Бодрись! Ты был прав. «Такая была у тебя беда, что не уйти от нее никуда».
...Утром на кладбище я просто не в состоянии попять, почему Варепарита так убивается. Каноник Мауи прерывает заупокойную службу, чтобы помешать ей броситься в могилу. Кто бы подумал, что в школе есть ученица, настолько преданная Полю? Значит, кто-то все-таки любил его. А это еще что такое, почему его опускают в могилу, которая уже занята? Что? К Варепаритиным близнецам? Наверное, потому, что у него нет денег. Боже правый, я забыла заплатить ему за велосипед. Кроме Варепариты, ее нэнни и каноника Мауи, на кладбище ни души. Еще Вайвини. В головах могилы нужно было встать мне. Я самая близкая родственница покойного. Варепарите там не место. Вот и председатель. Это хорошо. Теперь нас уже много. Он представляет школу, а директор вынужден один присматривать больше чем за сотней детей, пока я не вернусь. Куда девались могильщики? Придется нам самим засыпать могилу. На Варепариту нечего рассчитывать: она рвется к покойнику. Нэнни занята: пытается удержать Варепариту. Раухия не в силах поднять лопату, не говоря уже о том, чтобы бросить ком земли. Остаемся мы с каноником Мауи. Боже правый, как рыдает Варепарита! Наверное, это доставляет ей удовольствие... Каноник продолжает заупокойную службу, он продирается сквозь рыдания Варепариты с мужеством истинного воина.
– Вайвини, подержи книгу, канонику Мауи нужно взять лопату...
Я раздаю лопаты и целую Раухию в коричневую щеку за то, что он пришел и стоит здесь, рядом со мной и Мауи. Засыпать могилу легче, чем выкопать. Бух – первый ком глины падает на гроб. Лежи, малыш, видишь, все устроилось. Бух, бух. Теперь спи и будь умницей. Бух. Ты поступил правильно. Мы с темнолицым каноником трудимся на славу. Его белый стихарь придется потом выстирать. Втыкаем лопату в глину, пыхтим, бросаем. Ну-ка... ну-ка... посмотрите на моего славного мальчика. Я позабочусь о тебе. Ох... ох... Почему ты не утешился с Варепаритой, самой прелестной девочкой по эту сторону реки? «Достойна кончина твоя и быстра». Полная лопата. «Решил ты верно»... бух, бух... «мужества хватило». Бух, бух. «Такая была у тебя беда»... втыкаем... «что не уйти от нее никуда». Поднять... собрать все силы. «Только что»... разровнять, разровнять... «лечь»... пригладить, пригладить... «лечь»... вздох, отдых... «в могилу».
– Напрасно вы не приехали на велосипеде, – говорю я председателю на обратном пути в школу, стараясь идти помедленнее, чтобы попасть в такт его запинающимся шагам. – Чайник в учительской, может быть, еще не остыл. Вот так так – идет дождь!
– С моими негодниками, сударыня, ни один велосипед не живет больше недели. Новый буду запирать в своей комнате.
– У меня во дворе стоит велосипед, можете его взять. Зеленый. В полном порядке. Найдется у вас восемь фунтов?
Сколько же времени идет дождь?
– Ну конечно, между ними ничего не было, – слышу я приглушенные голоса женщин на автобусной остановке. – Мисс Воронтозов не проронила ни слезинки.
Широчайшая улыбка встречает меня на ступеньках нашего сборного домика, когда я под дождем возвращаюсь с кладбища. Улыбка приклеена к плоскому веснушчатому лицу, над ней торчат короткие рыжие волосы, под ней – тело мальчика-подростка. Мальчик спокойно стоит: ноги расставлены, руки засунуты в карманы, а вокруг него вьются малыши, как будто смерть не подстерегает каждого из нас, как будто жизнь – нескончаемый праздник.
Я уже на нижней ступеньке, а он все еще не произносит ни слова и не отодвигается, чтобы пропустить меня – грозную учительницу приготовительного класса. Я стою под дождем и разглядываю мальчика, а он удостаивает меня одним-единственным знаком внимания: улыбается чуть шире.
– Ты что, мой новый помощник?
Кажется, он наклоняет голову, но я не уверена. Меня поливает дождь, но он чувствует себя как дома на верхней ступеньке и величественно улыбается, на его одежде – такой же ладной, как он сам, – не меньше желтых крапинок, чем на лице.
– Он приехал вон на том веласапеде, – сообщает Мохи, который тоже мокнет под дождем.
– Надеюсь, ты не промок, – обращаюсь я к своему помощнику, поглядывая на сухую уютную нишу под выступающими скатами кровли.
Он вполне определенно качает головой, и я считаю, что добилась заметного успеха.
В сущности, наш разговор протекает на редкость оживленно. Если принимать в расчет паузы. Если ценить простор, позволяющий мыслям устремляться в любом направлении. Не слышно грубых голосов, заглушающих голос души. Не видно грабителей, взламывающих тайники разума. У каждого из нас есть время обдумать, прочувствовать и перебрать не один вариант ответа. А его поза, его немногословие, его улыбка – с ними не сравнятся никакие цветы красноречия. Я никак не могу понять, что происходит с моим лицом, и вдруг догадываюсь: я улыбаюсь.
– Ну что ж, значит, ты не промок. Это самое главное, – говорю я. И смахиваю капли с подбородка.
– У него столько много зубов. – Севен приглядывается к его улыбке.
– Ого, у него столько много зубов, смотрите! – хором подхватывают остальные.
Мальчик заливается радостным смехом. У него правда полон рот зубов. Блидин Хат, как всегда, с готовностью присоединяется, я тоже, а потом и весь хор. Воистину разными путями приходят к нам люди!
– Как тебя зовут? – прерывает его смех Матаверо.
– Угадай! – лукаво бросает тот.
– Рыжик, – пробую я.
– Верно!
– Слышали? – Я в волнении оборачиваюсь к хору. – Угадала, с первого раза!
– Кто-нибудь тебе сказал, – нападает Вики.
– Кто-нибудь мне не сказал, – защищаюсь я. – Кстати, Рыжик, если ты позволишь мне войти, мы с тобой займемся малышами.
– Можно.
Я уже готова снова разразиться смехом, но некоторые события сегодняшнего утра загоняют смех обратно в горло. Внезапно наступает тишина, и я прохожу мимо Рыжика с намерением заняться малышами. Теперь-то уж я обязана справиться, теперь все пойдет как надо.
Только после уроков, когда я глажу бледно-желтую рубашку Раухии, меня осеняет: какого помощника выбрал мне старший инспектор, в какую минуту прислал!
Попадание в яблочко.
Надо сжечь письмо, которое я писала ему всю прошлую ночь: дневник старой девы. Надо вернуться к надежным спутникам моей жизни: к пеналу, пианино, краскам, чтению, планам, деревянному ящику с книгами, к саду, Вине, воспоминаниям, «благоговению перед совестью», к дару, который мне вручил бог, к слезам.
Надо вновь смириться с одиночеством.
«Только бог», – пишет Мохи, швыряет карандаш и уходит; остаток утра он будет лежать на циновке и мечтать.
Я часто нахожу такие вот странные записи. Это зачатки сочинений, первая стена, отделяющая одно существо от другого, попытка сообщить кому-то свои мысли не с помощью прикосновений или звуков, а с помощью написанных слов – превращение собеседников и соучастников в писателей, переход от жизни сообща к отшельничеству, первый шаг на пути к одиночеству.
Но я в этом неповинна, они делают это по собственной инициативе. Я не просила Твинни писать на доске: «Моя сестра она совсем не умеет рисовать». Твинни спрашивает, как пишется «сестра», «рисовать», «совсем», а потом я поднимаю глаза и... вот, пожалуйста! Ее сестра-близнец, как всегда, переписывает вслед за ней, еще несколько человек делают то же самое, и постепенно мои шести и семилетние малыши составляют прекрасный сборник упражнений с такими фразами: «Оточи мой карандаш», «Где моя резинка?», «Как написать «призрак»?» Очевидно, для них это еще один способ самовыражения, еще одна возможность излить творческую энергию, вернее, две возможности: писать и сочинять. Но я здесь ни при чем. Я ни при чем. И так как меня, конечно, не назовешь хорошим учителем, настоящим учителем, я не в силах им помешать. Я могу только сказать, что меня это огорчает.
Не потому, что не согласуется с общепринятой системой обучения, а совсем по другой причине. Я не думаю, что умение писать приносит радость. Или пользу. Полезнее разговаривать. Понимать выражение лица, развивать голос, улавливать интонации, чувствовать накал страстей, отвечать в тон. Полезнее физическая близость влюбленных. Ибо какие качества необходимы, чтобы сидеть в одиночестве за маленьким столом и описывать самого себя? Отнюдь не отвага и не волшебный дар общения – только техника. Голая техника.
Даже чтение рассказа – это шаг в сторону по сравнению с живой речью. Вайвини, во всяком случае, не переносит чтения. Она встает, не дослушав, и подходит ко мне – ее не устраивают суррогаты. Она теребит меня, заглядывает в глаза, задает вопросы и требует ответа. Она заставляет меня вспомнить о любви – о полном слиянии.
И так они все, только в разной степени. Что бы ни случилось, они стараются быть в самой гуще событий, рядом с тем, с кем что-то случилось. Как Вайвини на похоронах, как Раремоана, когда ко мне приходят чужие, как Матаверо при любых обстоятельствах. Жизнелюбцы, вот они кто, жизнелюбцы до мозга костей. Конечно, они не заняты тем, что обычно называют «работой», зато... зато они живут! Они так поглощены проблемой взаимоотношений, что большинство из них не справляется с работой. Но я благоговею перед их бездельем, я поощряю его и теперь уже не терзаюсь из-за этого, потому что знаю нашего нового инспектора и знаю: безделье – это то, из чего возникает смысл.
Нет, я неповинна в том, что они начали писать, но и мешать им я не буду. Пусть пишут, ибо, помня о всех возражениях и понимая, что в ту самую минуту, когда человек начинает писать, он перестает жить, я все-таки не могу забыть, что умение писать направляет кипящую лаву неосознанных стремлений в русло творчества и помогает, пусть в самой малой степени, созидать будущее. Оставаясь их сообщницей, я ограничиваюсь тем, что очиняю карандаши, объясняю, как пишутся слова, когда они спрашивают, показываю, как удобнее сидеть при письме, предлагаю ставить точки, употреблять заглавные буквы и, конечно, неукоснительно провожу эти занятия в утренний период активной работы.
И все-таки, помогая им, я нервничаю, меня не оставляет какое-то смутное беспокойство. Мне кажется, что еще один шаг – и проблема обучения малышей будет решена. Но для одного шага расстояние слишком велико пли слишком мало. Если бы мои ноги пли мой разум были более гибкими. Я хочу сделать этот шаг и не хочу. Он одновременно пугает меня и влечет. Это что-то вроде, вроде... ну, скажем... радостного страха во время родовых схваток: неминуемость, роды начались. Какая нескончаемая, неизбывная мука...
«Только ты», – пишет Мохи на следующей странице одолженным у кого-то карандашом, потом подходит, кладет голову мне на колени и погружается в мечты.
– Я очень рада, что вы пришли, мистер Аберкромби.
Он появился с пишущей машинкой – моя очередь печатать – в девять с минутами. Когда я утром не беру в рот спиртного, занятия идут совсем по-другому. И, конечно, они идут по-другому, когда тень инспектора не витает над нашими головами. Мысль работает яснее, восприятие четче. И пальцам на циновках не грозит беда. Я в состоянии двигаться, не наступая на них.
– Я рад, что мне удалось заглянуть к вам.
Руки благоразумно заложены за спину.
Я не отвечаю. Он не должен знать, что у него в самом деле есть причины радоваться. Я вручаю Найджелу кубики, чтобы он оставил в покое пианино.
– Как вы себя чувствуете?
Мистер Аберкромби сосредоточенно хмурится.
Интересно, чем вызван этот вопрос. Неужели он заметил побелевшие нити у меня на висках, эти «печальные робкие вестники седин»? Но когда мужчины заводят речь обо мне, я стараюсь скрыть от них свои мысли.
– Великолепно, – заявляю я. – Это мое обычное состояние. Как себя чувствуют все ваши учителя?
Я сознательно не говорю «другие учителя».
Он обдумывает мои слова, его взгляд совершает неблизкое путешествие вниз к башмакам. Потом вверх к стропилам, потом устремляется за окно, минует равнины и задерживается на моем синем холме там, вдалеке. Я знаю еще одного мужчину, который старательно обдумывает каждое слово. Даже отвечая на такой простой вопрос.
– Многих учителей я уже довольно давно не видел.
– Они работают слишком далеко?
– Сотни миль. Мне хотелось бы чаще покидать свой кабинет. Некоторые старшие инспектора вообще лишены возможности бывать в школах. Но я научился хитрить. Стараюсь перекладывать все больше и больше административной работы на своих сотрудников. Вот уже недели две как они вместе со мной отвечают на письма.
Мне явно удалось отвлечь его от обсуждения моей особы, во всяком случае, в данную минуту, и я собираюсь продолжать в том же духе. Это не очень трудно. Мистер Аберкромби, надо отдать ему справедливость, не посягает на меня. Он не жаждет завладеть моим телом или моей душой, хотя я льщу себя надеждой, что ему интересно содержимое моей головы. Надеюсь, его присутствие скоро совсем перестанет меня нервировать. Это облегчение, огромное облегчение.
– Мне кажется, – говорю я и беру низенький стул: в эти дни ноги то и дело отказывают мне, не знаю почему, – вы должны готовить инспекторов так же, как готовите учителей.
Я имею в виду приемы самоустранения, которыми пользуется в классе мистер Аберкромби. Он придвигает ко мне маленький стул.
– Готовить инспекторов? Когда они попадают в мои руки, они так же беспомощны, как любой начинающий учитель. Проходит немало времени, прежде чем мне удается сделать из них то, что нужно.
– Уверена, что у вас это получается.
Я любуюсь Рыжиком, он прекрасно справляется с группой, которая занимается письмом.
– Что ж, мне, пожалуй, пора. Я хочу побывать еще в двух школах милях в двадцати отсюда.
– И все-таки самое утомительное, – это творческая часть вашей работы.
– Пока да. А как ваш помощник?
– Он создан, чтобы быть учителем. Он весь – восприимчивость, самоустраненность и улыбка. Спасибо.
– Что ж... – Передо мной чуткая изящная рука. – Сейчас я хочу попрощаться с вами, мисс Воронтозов. Берегите себя.
Я с удовольствием пожимаю его руку. Мне этого вполне достаточно. Я собираюсь проводить мистера Аберкромби до ворот и делаю шаг вслед за ним.
– Нет, нет! – говорит он. – Я еще загляну к мистеру Риердону. Новое помещение для приготовительного класса начнут строить со дня на день.
И он ушел. И не наступил ни на один палец, хотя его уход был не менее стремительным, чем появление.
«Только я», – пишет Мохи, ломает пополам свой новый карандаш и оделяет Блидин Хата и Блоссома, которым нечем писать, а в следующее мгновенье мой взгляд падает на самую высокую, самую устойчивую, самую островерхую, самую красивую башню из всех, какие мне приходилось видеть в приготовительном классе. Такую красивую, что я весь день оберегаю ее и, прежде чем взять пенал и уйти домой, оставляю на доске приказание старшим девочкам не трогать ее, когда они будут подметать пол.
Я работаю с малышами и упорно стараюсь овладеть хрупкими истинами, которыми владеют они, тем самым я приближаюсь к богу. Но душа моя по-прежнему не знает покоя.
О покой, снизойди на меня. Когда же воспоминания о Поле перестанут терзать мое сердце, когда оно смирится и свернется клубочком, как котенок на солнышке? И все-таки «молю: приди, приди»; я ведь знаю, что прощение будет даровано каждому, и мне тоже, и эта отдаленная перспектива, подобно отвлеченным утешениям проповедника, решает дело. У меня вновь появляется печальная привычка обливаться слезами, когда я сижу в Селахе и, забыв о кистях, предаюсь размышлениям. Но это слезы покорности, ярмо любви больше не будит во мне ярость. Я готова терпеть даже инспекторов. Я верю в добрые намерения каждого встречного, будто пронеслась очистительная буря. Былое смятение, былые страхи кажутся мне сейчас такими жалкими.
Я склоняю голову, которая меня так запутала. Я всласть оплакиваю всех, кого не понимала. И в один из ласковых, нестерпимо прекрасных летних вечеров наступает прозрение. Если бы только я могла продлить это состояние и выйти из Селаха очищенной. Но я знаю, что продлить нельзя и очиститься тоже нельзя, единственное, что остается, – это снова взять в руки кисть. Настала пора слез, как настает пора любви. Я погружаю хвостик сурка в желтую краску и рисую, как Вики. Потому что все малыши немного волшебники, и я невольно подпадаю под их чары.
«Когда я встала, – пишет Ронго, пританцовывая у доски и старательно нажимая на мел, чтобы всем было видно, –
я приготовилась идти
в школу.
И я торопилась,
потому что папа
был злой
он был сердитый».
Мы идем пить чай, внезапно выглядывает солнце, и старший инспектор замирает на лужайке. Игровая площадка испещрена желтым. Теперь я хожу пить чай только по таким случаям. Когда он здесь.
Его руки по-мальчишечьи засунуты в карманы, ноги широко расставлены. За стенами класса он совсем другой. Он всегда другой в другом окружении.
– Сколько в них энергии! – говорит мистер Аберкромби.
После чая я, конечно, провожаю его до ворот; он идет быстрым шагом и уносит пишущую машинку – его очередь. Полсотни малышей, конечно, тоже идут за ним до ворот.
– Я с тобой, ладно? – говорит Вики.
И я, конечно, говорю то же самое.
Мысленно. Он протягивает мне прозаическую инспекторскую руку и задает последний краткий деловой вопрос:
– Надеюсь, сейчас вы чувствуете себя лучше?
– Просто Великолепно, спасибо, мистер Аберкромби.
Я не могу позволить себе возомнить, что его частые посещения, выходящие за рамки служебных обязанностей, вызваны тревогой обо мне. Малейшее проявление сочувствия обратит в прах крепостные стены, за которыми укрыто мое «я», и тогда мне конец.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?