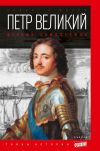Текст книги "Петр Великий (Том 2)"
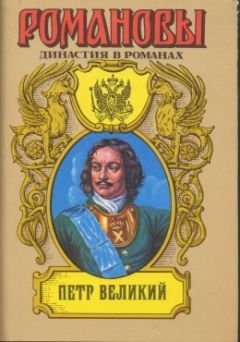
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 65 страниц)
Весть о нападении с непостижимой быстротой распространялась по непроходимым и непроезжим лесным трущобам, и тогда дорого обходились победителям загубленные жизни ватажных выборных. Пылали ближайшие усадьбы господарей, приказные в городе выходили на улицу в сопровождении солдат, купчины, ожидая нападения, вывозили из лавок товары, торговые обозы, предупреждённые о «заварухе», делали огромныe крюки, только бы не попасть под горячую руку разбойным.
Ночами к работным приходили из ставок послы. Они рассказывали про вольное житьё своё, про набеги, борьбу с господарями и царёвыми людьми, про сладостные думки свои – поднять всю русскую силу убогих, напрочь изничтожить неволю и самим, вольным кругом, володеть своей землёй.
Про многое говорили разбойные. Дух захватывало от слов их чудесных…
Подьячие и приказчики с каждым днём насчитывали все больше нетчиков.
Пустующие деревни и верфи не на шутку взволновали царя и его споручников. Толпы подьячих были разосланы по уездам с наставлением:
«Тех беглецов, сыскав, отослать их воеводам, а за побег учинить им наказанье, нещадно бить батоги».
Чтобы не повадно было людишкам бегать, в одних местах заключались в острог жёны и дети работных, в других избивались на правеже выборные лучшие люди, в иных же, как случилось в Усмани, было приказано воеводе, если не достанет он указанного числа помещиковых и вотчинниковых крестьян, выслать в добавку самих помещиков и вотчинников с лошадьми и топорами.
Выслушав приказ, господари и духовенство только не зло ухмыльнулись:
– Чего-чего не придумает государь, чтобы полютей были мы со смердами! А того не ведает он, что нам и самим в убыток великий побеги. Нивы не вспаханы стоят, оброка не видим. Беды.
Им и в голову не приходило, что царь не шутит, что он выполнит угрозу, – вместо беглых, на позор перед всем миром, погонит их на работы.
Но усманский воевода знал, какой лютый гнев обрушится на него, если он не выполнит приказа государя. На помощь к себе он вызвал преображенцев и сам отправился с ними по уезду.
Как только обнаруживалось, что на работы было выставлено меньше людей, чем' требовалось по наряду, виновные помещики и вотчинники немедля заковывались в железа и отправлялись в Воронеж.
Такого издевательства над высокородными господарями никогда ещё, кроме времён Грозного, не было на Руси.
Помещики снарядили на Москву послов и добились «авдиенции» у царя.
– Спаси от бесчестия, ваше царское величество, – повалились они в ноги государю. – Нету в том нашей вины, что бегут от нас смерды. Смертным боем их бьём. Всеми помыслами стремимся содержать их в покорности, а они, окаянные, бегут в иные края: кои – в леса, кои – к помещикам, где не надобно лесных и корабельных тягот нести.
Царь строго выслушал челобитчиков и тотчас же созвал на сидение ближних.
Ближние горячо поддержали господарей.
– Гораздо худо, преславный, дворянство зря, без причины соромить. Завсегда, как недобрый час подбирался к столу царёву, лишь единые дворяне показывали себя истинными верными холопями и споручниками государей Ими, ваше царское величество, крепка держава. Не забижай же их, государь. Как подлых людишек призвал Булавин брату за брата стоять, так и нам надобно творить неуклонно, по-ихнему.
Послы оставили Москву хоть и не с особенной радостью, но всё же удовлетворённые.
Помимо того, что Пётр обещал послам отправить в ссылку переусердствовавшего усманского воеводу, он снабдил их «именным указом о наказании и взысканиях за держание беглых людишек и крестьян»:
«Ведомо ему, великому государю, учинилось, что из-за многих помещиков и вотчинников люди их и крестьяне бегут, а помещики и вотчинники, и люди их, и крестьяне, презрев прежние великих государей указы, таких беглых людей и крестьян принимают… а ныне по его, великого государя, указу для сыску беглых людей и крестьян во все городы посланы будут сыщики знатные и добрые люди, а беглых людей и крестьян помещикам и вотчинникам, из-за кого бежали, отдавать им по-прежнему по крепостям, да в тех же грамотах написать с подкреплением же: буде кто беглых людей и крестьян учнёт принимать, и за приём за всякого крестьянина имать по четыре крестьянина с жёнами и с детьми и с животы[200]200
То есть с пожитками, имуществом.
[Закрыть] и отвозить их в прежние места на их подводах, кто принимал, да на них же сверх тех наддаточных крестьян имать за жилые годы по 20 рублёв на год, а людям их за приём чинить наказанье по прежним указам, бить кнутом, чтоб никому ничьих беглых людей и крестьян принимать было неповадно».
Но этот указ принёс пользу лишь дьякам Судного приказа. Отовсюду посыпались жалобы на укрывавших беглых людишек и крестьян.
Дьяки с одинаковой почтительностью выслушивали истцов и виновных, потом долго рядились о мшеле и, получив мзду, прятали дело под спуд.
– Тяжба не волк, – похабно улыбались они, – в лес не уйдёт. Глядишь, к тому времени и новый указ государев объявится…
Непрохожие и непроезжие лесные трущобы неуёмно принимали все новые и новые толпы беглых людишек.
ГОРЛИЧКА
Каждый день со всех концов России на Москву приходили толпы челобитчиков от убогих людишек. Их встречали в приказах как бунтарей и. не выслушав, отправляли в острог. После пыток колодников на долгие дни бросали в подвалы.
Сам Пётр не мог спокойно разговаривать с челобитчиками, один их вид приводил его в ярость:
– Печаловаться? – с глубокой обидой в голосе спрашивал он – На неправду сетовать? А того не разумеете, псы, что не для себя я денно и нощно в труде пребываю, но для блага державы моей?!
И тыкал пальцами в заплатанные свои башмаки.
– Каждую копейку из всей мочи в руке держу, знаю бо – копейка рубль бережёт. Босым скорее по улице пойду, нежели казну обезмочу.
Царь говорил правду На свои личные нужды он почти не расходовался, носил всегда старенькое простое платье из дешёвого сукна, штопаные чулки и прохудившиеся башмаки. Нижнее бельё он менял только перед двунадесятыми праздниками и каждый раз, внимательно разглядывая рубаху, сиротливо вздыхал:
– Экие полотна ткут ныне! Так и ползёт, так и порется, словно бы бумага под непогодью…
В своих потребностях он доходил до скаредности, но это не мешало ему со спокойной совестью устраивать разорительные пиры на свадьбах шутов, тратить казну на дикие оргии всещутейшего собора, на подарки Анне Монс и строить великолепные хоромы своим любимцам.
Худыми башмаками Пётр гордился, как щёголь богатым нарядом, как подвижник веригами. Все разговоры с челобитчиками заканчивались одинаково:
– Голодом, лаете вы, заморило? Ноги-де босы? А я? Я, царь ваш? На м о и башмаки поглядите!
Он с чувством презрения и гнева отталкивал от себя челобитчиков и уходил.
Убогим были заказаны пути в приказы и Кремль, поэтому они, по старой памяти, обратились за сочувствием к стрельцам.
Но те были так запутаны гонениями на людишек, что даже ближайших родичей принимали у себя с большими предосторожностями. И всё же каждый новый приезд крестьян был для них праздником.
Вести о мятежах действовали на них как крепчайшее вино, снова будили былые надежды. И чем мрачнее и безнадёжней были рассказы, тем радостней становилось на душе стрельцов.
– Не все ещё, врёшь, не все потеряно! Шалишь, не всё! – грозили они кулаками в пространство и вызывающе засучивали рукава. – Дай токмо срок, ужотко Азов весть возвестит!
Всё, что говорилось приезжими, во всех подробностях передавалось через верных людей Григорию Семёновичу Титову.
Стольник давно вернулся на Москву, бывал часто у государя, пользовался неизменными его милостями и расположением.
– Всё умишком болезнуешь? – каждый раз спрашивал царь и, как ребёнка, поглаживал по голове.
– Болезную, государь, – вздыхал стольник. – Ой, как болезную!..
Титов почти излечился от страха. Но так как званье «порченого умом» давало ему право творить многие вольности, за которые другой, здоровый человек, понёс бы жестокое наказанье, он продолжал прикидываться «тронутым». Ни в какие тайные сообщества Григорий Семёнович не входил, а занимался исключительно тем, что служил ходатаем перед царём за убогих. Друзей у Титова было мало, он их остерегался и посещал лишь с большой охотой полюбившихся ему подполковника Цыклера и Петра Андреевича Толстого.
Цыклер по-прежнему во многом доверял стольнику и часто посвящал его в такие тайны, которыми ни с кем другим не поделился бы ни за что. Подполковник знал о всех былых делах Титова, о преданности его «крамоле» и не сомневался, что временное помешательство стольника было вызвано «великими скорбями его за народ».
Поэтому он и относился к нему не только как к другу, но и как к «мученику за правду».
Стольник не подводил Цыклера. Никому, кроме Петра Толстого, единственного своего товарища, он не передавал того, что слышал от подполковника.
Цыклер, в свою очередь, был крайне осторожен и, с тех пор как арестовали Авраамия, никого из стрелецких выборных у себя в усадьбе не принимал. Даже ближайшие его соучастники – Алексей Соковнин и Фёдор Пушкин – перестали бывать у него.
Раз в неделю к подполковнику из Новодевичьего монастыря приходила Даша. И всегда, как только послушница являлась в усадьбу, в хоромах начиналась одна и та же придуманная семьёй Цыклера «для отвода очей человекам» комедь: изображавшая взбесившуюся ревнивицу господарыня набрасывалась с дубиной на гостью, готовая избить её до полусмерти. Цыклер вступался за Дашу, и тогда уже начиналось «доподлинное» побоище.
Челядь пряталась по углам и ехидно шушукалась.
– Наш-то… старый, старый, а эвона горличку каку подцепил! Да втюрился как – в усадьбу без страха кличет. И жены не соромится! – хихикал дворецкий.
– Мало ли дур! Не могла помлаже кого приворожить, – с нескрываемой завистью сплёвывала ключница.
– Дура-то ты, а не Дашка. Хоть телесами она втрое тоньше пуховиков твоих, – дворецкий шлёпал ключницу по заду, – а вот полюбилась господарю, покель ты псаря Никишку обхаживала. Хе-хе-ха-ха-хе!
Победителем из семейного побоища неизменно выходил подполковник. Его жена, простоволосая, в изодранном платье, бомбой вылетала из терема и, запершись в светлице дочери, ревела благим матом до тех пор, пока не засыпала.
Челядь распустила по Москве слух, что Цыклер «блудит» с крепостной девкой, отданной на послух в Новодевичий монастырь. Но за это подполковника не осуждали. Так поступали очень многие даже самые богобоязненные люди. Это было «в порядке вещей».
Когда Цыклер запирался с Дашей в опочивальне, дочь его, Пелагеюшка, тотчас же приходила в сени. Она то и дело прикладывала ухо к двери, ведущей во двор, заглядывала в щёлку и снова принималась вышагивать.
В сенях было пусто. Во всей мужской половине находились только «блудники» и Пелагеюшка. Дворецкий и ключница, едва появлялась девушка, благоразумно улепётывали от острых её ноготков на противоположный конец двора, в людскую.
По лёгкому стуку в дверь Даша высовывала голову в сени.
– Одни? – шелестела она губами и дарила Пелагеюшку полной преданности улыбкой.
– Никого, – также невнятно шептала девушка, и в свою очередь скалила широкие, лошадиные зубы.
Усевшись на краешек лавки, Даша подпирала кулачком подбородок и передавала всё, что слышала от стрельчих: Анютки Никитиной, Офимки Кондратьевой и от постельницы царевны Марфы Алексеевны – Анны Клушиной.
В последний приход Даша была чем-то особенно возбуждена. Цыклер сразу заметил это по её горячо поблёскивающим глазам.
– Фома на Москве! – выпалила она почти полным голосом, едва очутившись наедине с подполковником, после обычного нападения господарыни.
Новость была так неожиданна, что оторопелый Цыклер долго не мог проронить ни слова. Он только беспомощно озирался, шлёпал губами и мял в кулаке рыжую, посеребрённую паутиной седины, бороду.
Что весть о приезде Памфильева так ошеломила господаря, наполнило Дашу гордостью. «Ишь ты, – подумала она, – знать, и впрямь мой-то немалая птаха, коли сам подполковник при едином имени его языка решился».
Цыклер прошёлся по терему, крадучись выглянул в окно, постоял у двери и наконец уселся с гостьей под образами.
Даша ткнулась губами в ухо господаря.
– Наказал Фома обсказать, – вздохнула она еле внятно, – что у него, почитай, всё готово. Токмо и дожидаются, когда ты начало возьмёшь над украинными стрельцами. Без тебя-де не обойтись. Вишь, сорвалось единожды.
Она часто подбегала к двери, прислушивалась и снова возвращалась к хозяину.
– Всё? – поглядел перед собою Цыклер, когда Даша умолкла.
– Всё.
– Ты сама с Фомою видалась, аль через людей слова сии передал он тебе?
Голова Даши сиротливо упала на грудь.
– Через Анютку с Офимкою передал. А чтоб видаться – не виделись. Чаяла я дочку нашу ему показать, собралась было идти к нему – не пустили. Дескать, срок не вышел ещё вам встретиться.
Подполковник успокоенно перекрестился.
– Вот то добро. Не приведи Господь, прознают языки, всем нам на плахе быть.
Когда гостья собралась уходить, Цыклер кликнул дочь и стал на колени перед иконами.
– Внемли, Даша, и глагол в глагол передай Офимке для Фомы Памфильева: обетованье даю перед Христом, как буду на Дону у городового дела Таганрога, то, оставя службу, с донскими казаками пойду к Москве для её разорения и буду делать то же, что казак Стенька Разин!
Даша с напряжением вслушивалась, повторяла про себя каждое слово, но обетованья не запомнила.
Цыклер снова повторил клятву и недовольно покривил губами:
– Уразумела, что ли?
– Сдаётся, уразумела, – стыдливо потупилась Даша.
– А уразумела, иди себе с Господом.
И, развязно обняв гостью, пошатываясь точно от хмеля, проводил её до середины двора.
– Если уж сам Фома дерзнул на Москве объявиться, выходит, дело не шуточное, – с весёлым задором поделился Цыклер с женой. – Придётся, видно, для пригоды такой позвать на сидение Пушкина с Соковниным.
– А и придётся, – охотно согласилась женщина, по-своему разумевшая необходимость бунта. – Авось время приспело не глаголами воевать, как досель воевали вы, но и про бердыши вспомянуть. – И с ненавистью оглядела мужнин кафтан: – Статочное ли дело, чтобы достойные начальные люди по десятку годов в одном чине хаживали, а Меншиковы да жидовины Шафировы выше бояр почитались?!
Вечером к Цыклеру пришли Соковнин и Пушкин.
Хозяин и гости его принимали в своё время участие в стрелецком бунте и отлично знали, что, пока царствует Пётр, нечего ждать добра. Они не раз пытались выслужиться перед государем, доказать свою преданность и, может быть, стали бы верными холопами его, если бы он хоть немного изменил своё отношение к ним. Но Пётр никогда не забывал занесённой в детстве над его головою секиры, и при одном лишь напоминании о стрелецком бунте приходил в ярость.
– Всех изничтожу! – топал он ногами, когда кто-либо осмеливался просить за стрельцов и их начальников, подозреваемых в бунте. – Изничтожу, и могилы с лица земли сотру! Чтобы и памяти никакой не осталось!
Вот почему для Цыклера и его друзей оставался один выход – свержение Петра и восстановление господства царевны Софьи.
В сущности, «крамольники» не остановились ещё на выборе преемника Петра. Правда, ходокам от рядовых стрельцов и убогих людишек они говорили, что в случае победы мятежников сами ни на чём настаивать не будут и во всём подчинятся кругу, но между собой только насмехались над своими словами. Ни о каких выборных атаманах они не помышляли, хоть и непрочь были дать народу столько вольностей, сколько нужно было для усыпления мятежного духа.
Алексей Соковнин, ревностный поборник «древлего благочестия», мечтал о том, чтобы на московский стол сел единомышленник его, Шеин, но пока не очень, ратовал за него, так же как и Цыклер, до поры до времени не называвший имени Софьи. Пушкину же было всё равно, кто наденет царский венец. Важно было, чтобы никто не смел посягать на его казну да не тревожил сонного покоя, бездумного, нехлопотливого древнего уклада жизни.
Сообщники совещались недолго. Надо было обдумать, как оправдать добровольное желание Цыклера ехать в далёкий Азов, не вызвав подозрений государя.
Подполковник быстро успокоил пригорюнившихся друзей:
– А об том не кручиньтесь. Покалякаю я с Григорием Семёновичем. Авось он сам подобьёт царя, вроде как бы в ссылку меня спровадить, от очей своих подале.
На том сообщники и порешили.
ИУДА
Чем ближе подходили к концу работы по строению флота, тем сильнее охватывали государя сомнения. Он понимал, что мореходное и корабельное дело по-настоящему можно изучить только за рубежом, в приморских странах. То, чему научились русские от иноземных инженеров и офицеров во время речных манёвров и на верфях, было слишком мало для морского похода. Помимо этого, Петру хотелось привлечь на свою сторону Запад, заручиться поддержкой его во время войны с Турцией.
Головин, Лефорт и особливо думный дьяк Прокофий Богданович Возницын всей душой поддерживали пока ещё робкое, подсказанное Гордоном намерение царя отправить «для наук» за рубеж большое посольство.
После долгих колебаний Пётр отважился на небывалое ещё в Московии дело. И, как всегда, едва решившись, с лихорадочной поспешностью принялся и сам готовиться в дальнее путешествие – «для примеру подданным обучиться за рубежом мореходному делу и прочим артеям».
Весть о предполагаемой поездке за рубеж застала многих бояр врасплох и вызвала среди них брожение. Чудовищным позором и издевательством над собой почли они известие о намерении Петра водворить их в качестве простых работных людишек на зарубежных верфях.
Но Петру не было дела до того, как отнеслись вельможи к его решению. Собрав на сидение ближайших своих споручников, он составил список уезжающих за рубеж и перечень того, чему они должны обучиться в «Европиях».
Послами к разным европейским дворам назначены были Лефорт, Головин и Возницын. Независимо от свиты, в посольство вошли прежние соучастники Петра в переяславльских и беломорских плаваниях и его воронежские помощники.
Тридцать волонтёров были разбиты на десятки. В одном из них десятником числился сам государь, под именем Петра Михайлова. Кроме того, для отправки в Италию, Англию и Голландию отобрали ещё шестьдесят девять недорослей, большей частью родовитых семей.
В Преображенском, на Генеральском дворе, Прокофий Богданович Возницын, заставляя повторять троекратно каждое слово, вдалбливал назначенным к отъезду «наставления к грядущим морским навычениям»:
– Знать чертежи или карты морские, компас также и прочие признаки морские…
– Компас… компас… также… и… и… прочие, – хором повторяли будущие ученики, совершенно не понимая смысла чуждых слов.
– …Владеть судном как в бою, – увлекаясь, бархатным баском распевал Возницын, – так и в простом шествии и знать все снасти или струменты, к тому надлежащие: парусы и верёвки, а на каторгах и на иных судах вёсла и иное прочее…
– И… иное… прочее, – эхом, как отдалённое «Господи помилуй», отзывались слушатели.
– …Колико возможно искать того, чтоб быть на море во время бою, однако же де обоим видевшим и не видевшим бой от начальников морских взять на то свидетельствованные листы за руками их и печатями, что они в том деле достойны службы своей…
– …Достойны… достойны… службы… сво-о-о-о-о-ей!
Дьяк взбивал бородёнку и подносил бумагу ближе к глазам:
– …Ежели кто восхощет получить себе милость большую по возвращении своём, то к сим вышеописанным повелениям и учениям научиться знати, как делают те суды, на которых они искушение своё примут. А когда возвращаться будут к Москве, должен всяк по два человека искусных мастеров морского дела привезть с собою до Москвы на своих проторях, а те протори, как они придут, будут им заплачены. Слышите ли? – каждый раз повторял он последние три слова по слогам. – Будут им заплачены.
Но волонтёры без всякой радости выслушивали обещание.
– Было бы на что мастеров доставить к Москве, – угрюмо зашептались они во время последнего «урока».
– Сами в смущении, чем токмо кормиться нам на чужой стороне, – громко, не страшась, что услышит стоявший близ него Меншиков, крикнул сын Алексея Соковнина, но вдруг испугался своей отваги и спрятался за спину князя Андрея Репнина.
Возницын незаметно переглянулся с Алексашей и ещё умильнее запел:
– Сверх того, отсюда из солдат даны будут для того учения по одному человеку, а кто солдат взять захочет, а не знакомца или человека своего тому ж выучить, то солдатам будет прокорм и добрый проезд из казны…
Одарив недорослей отеческой улыбкой, Прокофий Богданович перевёл дух, оглушительно высморкался наземь и уже лихо, точно отплясывая русскую, закончил:
– …С Москвы ехать им сим зимним временем, чтобы к остатним числам февраля никто здесь не остался. А припасы и проезжие даны вам будут из Посольского приказу, и о том роспись и указ пошлётся вскоре.
– Аминь, – вскинул тенором Меншиков.
– Аминь, – дружно подхватили солдаты и некоторые из высокородных.
– Аминь, – низко и глухо, как клубы пара под тлеющей кучей навоза, заворочалось в задних рядах.
Соковнин не остался на трапезе, устроенной в честь отъезжающих, и прямо из Преображенского укатил домой. Хмуро, как чужого, недоброго человека, встретил его отец:
– Едешь, стольник царёв?
– Еду, родитель.
– А возвратясь, где мыслишь жительствовать?
Стольник не понял вопроса.
– Где же, как не в отчем дому?
Сидевшие за столом сёстры хозяина, ярые ревнительницы древнего благочестия, с таким остервенением заплевались. как будто увидели перед собой из гроба восставшего Никона.
– Чтобы в хороминах Соковниных духом басурманским смердело? Да не бывать позору сему! Скорее до отъезду твоего изведём тебя зельем да захороним по христианскому чину, нежели на соблазны богомерзкие да на души погибель отпустим тебя за рубеж!
Стольник пал на колени:
– Христа для по глаголу вашему сотворите! Сам токмо и мыслю о сём.
В дверь постучались. Все сразу угомонились. Алексей Соковнин встревоженно открыл дверь.
В трапезную вошли Фёдор Пушкин и Цыклер. Узнав, о чём кручинятся хозяева, подполковник истово перекрестился.
– И не хотел бы сетовать, да не могу. Уж больно небрежением живёт государь, не христиански, и казну тощит. – Но тут же обнадёживающе улыбнулся: – Одначе не к лику нам ныне тужить. Радуйтесь и веселитесь, други мои сердешные, царь бо подался уговорам Григория Семёновича, посылает меня на Азов.
– Ужли? – всплеснул руками хозяин и бросился в объятья Цыклера.
Выпроводив сестёр и сына, Соковнин запер на засов дверь и приступил к сидению.
С большой осторожностью, занавесив предварительно оконце, подполковник вспорол ножом подкладку кафтана и вытащил из прорехи свёрнутую трубочкой бумагу.
– От четырёх стрелецких полков; из Гордоновой дивизии: Федора Колзакова и Ивана Чернова; из Головинской: Афанасия Чубарова и Тихона Гундертмарка. Через Фому Памфильева, – зажав рукою рот, чтобы возможно больше заглушить слова, объявил он, – цидула сия доставлена мне вечор.
– Что ответствовать будем? – спросил Цыклер, прочитав бумагу и пряча её снова за подкладку кафтана.
– Да тут и думать-то нечего, – красный от удовольствия, тряхнул головою Пушкин. – «Еду-де» – и вся недолга.
Когда ответ на цидулу был написан, все встали с лавки и трижды перекрестились – дали друг другу безмолвную клятву с честью и преданностью довести до конца общее дело.
Страшные дни пережили Цыклер, Пушкин и Соковнин: один из стрельцов, передавших подполковнику грамотку от Фомы, был арестован. Стрельца обвинили в тайных связях с царевной Софьей.
Заговорщики были уверены, что арестованный, доведённый пытками до отчаянья, выдаст их. Но они ошиблись. Как ни старался Ромодановский, от узника ничего добиться не мог. Стрелец, сложив на плахе голову, не предал никого.
Ответ Памфильеву так и лежал в кафтане Цыклера. Подполковник не рисковал передать его через выборных стрельцов, с которыми держал связь, – боялся, что они находятся под особым наблюдением соглядатаев.
После долгих размышлений он решил обратиться за помощью к Титову, единственному человеку, которому раньше доверяли сообщники и не такие тайны.
Подполковник чистосердечно рассказал обо всём Титову:
– Последняя челобитная к тебе от другов твоих. Выручи, Григорий Семёнович, съезди, словно бы потехи ради, верфи воронежские поглазеть да передай цидулу в Киреевский скит. Ни один человек не догадается, что ты с собою везёшь. И царь к тебе милостив, и ближние его почитают тебя, как и он, блаженной души человеком.
Если бы Цыклер не упомянул о царе, стольник, не задумываясь, в самой резкой форме отказался бы выполнить поручение. Но боязнь показать себя трусом перед бывшими единомышленниками сделала своё дело – подсказала совсем не те слова, которые готовы были уже сорваться с языка:
– А пущай хоть блаженным, хоть чурбаном меня царь почитает. Мне наплюнуть. Нынче же еду!
Всю ночь Титова томили жестокие сны.
Осунувшийся, похудевший и сгорбленный, он, как обычно в серьёзном деле, отправился утром к Петру Андреевичу за советом.
– Как быть? – со слезами на глазах обратился он к Толстому. – Ты один у меня остался друг, знаешь всю мою душу. Не могу я больше с крамольниками заодно идти. Хочу в мире жительствовать и в добре. Загубят ведь меня, потянут за собою на плаху.
Толстой знал уже главное от ключницы Цыклера, которую сумел подкупить, но с глубоким сочувствием выслушал стольника, и потом долго сидел, уставив в него неподвижный, затуманенный кручиною взор.
– Деллла! – вздохнул он наконец – Д-да, делишки, скажу вам…
Он так ничего и не посоветовал стольнику, но обещался хорошенько обдумать все и зайти к нему вечером.
…В ту ночь царь был особенно весел. Сознание, что он едет наконец за рубеж, кружило голову во много крат больше самого крепкого хмеля. К Лефорту, Головину и Возницыну, вдохновителям поездки, Пётр был так трогательно внимателен и дарил их такими горячими поцелуями, что Анна Монс делала вид, будто сгорает от ревности.
Не по мысли было и другим предпочтение любимцам, оказываемое государем.
Даже всегда тихий брат Евдокии Фёдоровны, Лопухин, посмелевший в хмелю, не выдержал и ощерился на Лефорта.
– Ты хоть и человек забавный, – привстал он, – а всё ж не егози и не кичись. Думаешь, ежели нонеча царь к тебе милостив, то ты уж и впрямь самый тут важный?
Глаза Петра, в которых только что фонтаном били радость и бесшабашное веселье, зажглись такими жуткими искорками, что Лопухин оцепенел.
– Так вот же! – лязгнул зубами царь и, схватив ендову[201]201
Ендова – широкий сосуд с носиком для разлива питья.
[Закрыть], изо всех сил швырнул ею в лицо шурина.
Лопухин как подкошенный рухнул на пол.
В терем вошёл Пётр Андреевич Толстой. Государь, позабыв о шурине, всю силу гнева перенёс на дворянина:
– Вон! Вон отсель! Вон, покель я из тебя падаль не сотворил!
Спокойно, с кичливой улыбкой на устах, стоял Толстой у двери. И только когда над головой его взметнулся кулак, он чуть отстранился и отвесил земной поклон:
– Стоит ли, ваше царское величество, верных холопей казнить, когда за спиной твоей благоденствует и козни готовит измена?
С такой же быстротой, как недавно бесшабашное веселье, гнев сменился ужасом.
– Измена?!
– Да, государь.
В зале стояла болезненно-жуткая тишина. Даже Лопухин перестал стонать и, позабыв о разбитой скуле, вытаращился на царя и Толстого.
Пётр Андреевич, все с той же кичливой улыбкой, не торопясь, зашептал что-то на ухо царю.
Четвёртого марта семь тысяч двести пятого года[202]202
1697 год.
[Закрыть] казнили Цыклера, Соковнина и Федора Пушкина.
У Новодевичьего монастыря гарцевал сильный конный отряд. По всей Москве были сняты стрелецкие дозоры, их заменили семёновцы и преображенцы.
Перед самой казнью Пётр вспомнил вдруг о главном вдохновителе всех былых стрелецких бунтов, умершем уже как двенадцать лет – дядьке своём по матери, Иване Михайловиче Милославском.
Меншиков, Шафиров и Яков Брюс по приказу Петра вырыли мертвеца из могилы и бросили в сани, в которые были запряжены шесть пар свиней.
Впереди поезда, через всю Москву, с весёлыми песнями шагал в полном составе всешутейший собор.
Неслыханное святотатство так возмутило толпу, что она с проклятиями бросилась к саням и потребовала выдачи трупа.
В тот же миг Меншиков подал знак преображенцам. Грянул залп. Улица опустела.
По случаю того, что больше никаких «недоразумений» не произошло, князь-папа, остановившись у околицы Преображенского, отслужил «благодарственные Бахусу молебствия за успешный поход и грядущее возлияние, события сего достойное».
Осушив два бочонка вина, собор с пляской, собачьим лаем, похабными песнями и свистом двинулся к месту казни…
Мутнеющим взглядом оглядел Соковнин в последний раз толпу.
– Иуда! – крикнул он в сторону Петра Толстого. – Иуда!
Ромодановский махнул платком. Воздух резнула секира.
Титова держали в Преображенском застенке. Ни Пётр, ни Ромодановский пока не знали ещё, как с ним поступить.
И только когда из донесений языков было установлено, что предателем Цыклера и друзей его в народе считают Толстого, Фёдор Юрьевич удовлетворённо вздохнул.
– Ежели так, выпало, значит, ещё пожить Григорию Семёновичу. Пожить и тебе, ваше царское величество, малость ещё послужить.
Князь пришёл ночью в застенок и разбудил Титова:
– На волю хочешь?
– Хочу, – пропищал стольник, как сильно разобиженный ребёнок. – Хочу, Фёдор Юрьевич.
– А ежели так, дай обетование завсегда обо всём, что слышишь, Толстому рассказывать, Петру Андреевичу.
– Тол-сто-му?! Так, выходит, Тол…ст…ой и…у…ддда?!
Ромодановский передёрнул плечами:
– Не откладывая, обмысли все. Либо воля тебе и великая честь от государя, либо поутру же плаха. Выбирай!
Титов ничего не ответил, забился в угол и заплакал горькими слезами набедокурившего и пойманного чужим человеком ребёнка.
А поутру стольник был уже на свободе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.