Текст книги "Избранные произведения. Том 3"
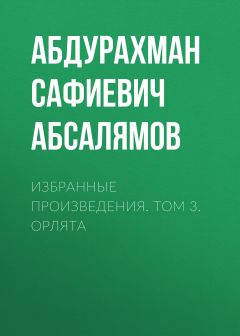
Автор книги: Абдурахман Абсалямов
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
7
Красноватый луч солнца, словно прощаясь, последний раз коснулся далёких вершин сопок и скрылся надолго. Всё окуталось сумеречной белой мглой, в которую осмеливалось врываться лишь полыхающее по небу северное сияние.
Пурга бушевала почти десять суток; казалось, ей не будет конца. В двух шагах нельзя было различить человека. Ураганной силы ветер сшибал с ног людей, и они мгновенно исчезали в ревущем вихре снега. От землянок до передовых позиций пришлось протянуть канаты: лишь держась за них, бойцы могли пробираться на смену своим замерзавшим товарищам.
Траншеи, окопы, дзоты, артиллерийские и миномётные позиции – всё было завалено снегом. Иногда какая-нибудь землянка несколько часов не подавала признаков жизни. Тогда шли на выручку соседи – и откапывали землянку из-под толстых снежных пластов, находя её по чёрной трубе. А в самих землянках, выбитых в склонах сопок и обшитых изнутри чахлыми ветками стелющейся северной берёзы, чуть мерцало пламя коптилки. Бойцы сидели в меховых шапках, в полушубках и на чём свет стоит ругали проникавший до самых костей мороз.
Если пехотинцы, артиллеристы, миномётчики отсиживались в вынужденном безделье, то разведчикам и в пургу не было покоя. Чуть стихал ветер, они, как белые тени, скользили в темноту полярной ночи, за передний край.
После боёв Верещагина, Шумилина и Урманова, как наиболее отличившихся и физически крепких бойцов, перевели в сильно поредевшую группу разведчиков. Вернее, они сами попросились в разведку.
Галим уже уверился, что заместитель комбрига Ильдарский – отец Муниры. Обычно он видел его всякий раз, когда разведчики получали боевое задание, а также когда они докладывали о выполнении задачи; иных разговоров с Ильдарским он всячески избегал. Галим опасался возможных кривотолков, если товарищам станет известно, что он близко знает дочь подполковника. Он и Муниру чуть не в каждом письме просил, чтобы она ничего не писала о нём отцу.
На фронте установилось временное затишье. Пехотинцам, привыкшим к жарким боям, теперь, как они говорили, «делать было нечего». Они стояли на постах, дежурили у пулемётов, вели из траншей наблюдение за противником, а больше всего были заняты укреплением своих рубежей. Только разведчики были в постоянном движении. Они подползали к немецким укреплениям, взрывали дзоты, землянки, брали пленных; иногда делали смелые налёты. И это было одинаково по душе и Верещагину, и Урманову, и Шумилину, хотя по характеру они были разные люди.
Друзья участвовали в нескольких коротких налётах, даже отличились, но ещё ни разу им не довелось брать «языка». А без этого испытания разве можно считать себя настоящим разведчиком? И они ждали этого часа каждый по-своему.
Сердце Урманова было полно отваги. Пусть до конца он не представлял себе ещё, как это опасно – брать «языка», но ведь он не забыл ни затопленной подводной лодки, ни разорённой карельской деревни, ни одинокой могилы старого партизана на безымянной высоте, ни окровавленного Ломидзе на дне чёрного ущелья. И Галим готов был идти куда угодно, лишь бы отомстить.
Верещагин, как военный человек, был искушённее Урманова. Он более трезво понимал, что значит взять «языка», именно поэтому он и хотел возложить тяжесть этого дела на свои плечи.
Шумилин был прирождённым разведчиком. Он и на гражданской работе считал себя своего рода разведчиком. Он работал слесарем в опытно-испытательном цехе. Первую деталь делал он, первую машину собирал он. Когда же эту деталь или машину сдавали в серийное производство, он брал новую работу и шёл дальше по неизведанным тропам техники, первым открывая и показывая путь своим товарищам.
Родители Виктора Шумилина работали на железной дороге проводниками поездов дальнего следования.
Виктор жил больше со старшей сестрой, студенткой статистического института. У сестры был свой круг знакомых, свои товарищи, свои интересы, не совсем понятные мальчику. Когда родители находились в отъезде, Виктору предоставлялась полная самостоятельность. Он успешно окончил семилетку, а потом пошёл работать на завод. Родители не возражали, но сестра не одобряла этого.
– Тебе надо в институт, Витя. Будешь инженером, а не слесарем, – говорила она с жаром. – Молодой человек нашего времени должен иметь высшее образование.
– Хорошо, – отвечал Виктор, – но ведь надо же кому-то быть и слесарем.
Это выводило сестру из себя, тем более что она не находила что возразить.
– Ну, Витя… до чего же ты упрямый!
Виктор в ответ лишь посмеивался:
– Это не всегда плохо. Рабочему человеку твёрдость не мешает. Для него не годятся такие нервы, как твои.
– Не смей так говорить! – ещё больше горячилась сестра. – Я тоже могу работать не хуже тебя.
Однажды он принёс с завода завёрнутый в белый платочек кронциркуль и подал сестре.
– Сам сделал! – сказал он гордо.
– Что это такое, Витя? Маме ухват? Так у нас нет ни печки, ни горшков.
Виктор вспыхнул от обиды, вырвал из рук сестры своё первое создание и отвернулся к окну.
Из окна четвёртого этажа была видна широкая набережная, залитая огнями уличных фонарей и бесконечно движущихся машин. Левее, над тёмными водами Москвы-реки, высился пролёт моста. В воде отражалось множество огней, и река казалась очень глубокой и таинственной.
Сестра обняла брата за плечи.
– Не сердись, мой грозный брат, – сказала она ласково. – Я ведь не хотела тебя обидеть! Нехорошо быть таким вспыльчивым. Особенно рабочему человеку.
– Ничего не создаёшь сама, потому и чужого труда ценить не умеешь, – обиженно ответил Виктор.
Чувство гордости за сделанную работу, стремление создавать всё новые части машин, а позже и машины никогда не покидало Виктора.
Когда началась война и его призвали в армию, Виктор со свойственной ему настойчивостью взялся за овладение военным делом. К тому времени, когда он познакомился с Галимом Урмановым, Виктор уже мог считать себя бывалым солдатом.
От природы Шумилин был общительным человеком, но друзей выбирал осторожно.
Верещагин и Урманов нравились ему каждый по-своему. Ум, хладнокровие, упорство и бесстрашие Андрея Верещагина, казалось ему, дополнялись стремительностью и горячностью Галима Урманова. А у Виктора Шумилина была способность по отдельным деталям быстро воссоздавать целое, выделять главное.
Объединённые, эти качества должны были дать хорошие результаты. Итак, все трое с огромным внутренним волнением ждали дня испытания.
Всё же друзьям пока не везло. Группу Верещагина старший лейтенант Сидоров больше всего за последнее время посылал с одним заданием: наблюдать за врагами в районе Оленьей скалы.
Эта скала была самой высокой и крутой на участке бригады. Однажды разведчики увидели там оленя. Он стоял у края скалы и смотрел на заходящее солнце. С тех пор бойцы прозвали скалу «Оленьей».
За скалой находился вражеский штаб. Туда можно было попасть двумя путями: километра три обходной дорогой или по верёвочной лестнице, длиной около сорока метров, прямо вниз. Какой путь при взятии «языка» изберёт старший лейтенант Сидоров и вообще будут ли они брать «языка» именно на этом участке – разведчики пока не имели понятия. Им было приказано наблюдать и ни в коем случае не обнаруживать себя.
Злые, окоченевшие разведчики всякий раз должны были докладывать Сидорову, что им удалось выследить за долгие часы наблюдений. Старший лейтенант расспрашивал их очень придирчиво и даже в мелочах требовал точности. Вернее, он считал, что в деле разведки нет мелочей, всё существенно и важно. Однажды, вернувшись с задания, кроме обычных сведений – о количестве постов и времени их смены, о тропинках, о расположении землянок, о том, кто и когда заходил в землянки или выходил оттуда, – разведчики доложили мимоходом, что из второй от края землянки доносилась музыка. Старший лейтенант оживился:
– А на каком инструменте играли?
Разведчики растерянно переглянулись. Они не могли сказать, на каком инструменте играли немцы. Сидоров рассвирепел.
– Губная гармошка, патефон, скрипка, рояль? – гневно спрашивал он каждого. – Не знаете? И ты, Шумилин, не знаешь? Шляпы вы, а не разведчики. Даю четыре часа на отдых, потом снова туда.
Сидорову было лет тридцать пять-тридцать восемь. Поджарый, с очень тонкой талией и с энергичным узким лицом, с резкими, стремительными движениями, с глазами, даже днём блестевшими, как горящие угольки, он чем-то напоминал ястреба в полёте. На груди, когда он вставал или, заложив руки назад, ходил быстрыми шагами по тесной землянке, поблёскивала Золотая Звезда, – он был единственным Героем Советского Союза в бригаде.
– Идите и не возвращайтесь, пока не установите, на каком инструменте играют фрицы! – повторил он и повернулся к ним спиной.
О предстоящей разведчикам боевой задаче пока знали в бригаде только двое: комбриг и Сидоров. «Языка» необходимо было взять во что бы то ни стало. Он нужен был для решения задачи, стоявшей перед фронтом.
– Имей в виду, Сидоров, нужен не дохлый фрицишка, – сказал командующий. – Ты такого достань, который бы подальше своего носа видел. Понятно?
Вот почему Сидорову было очень важно установить, на каком именно инструменте играли фрицы. Его проницательный, гибкий ум разведчика нащупывал в этом маленьком факте целую цепь будущих действий.
Не только Урманов и Шумилин, даже Верещагин не вытерпел на этот раз.
– Вот, чёрт, надраил… И чего далась ему эта фрицева музыка!.. – хлебая из котелка горячий суп, ворчал он себе под нос по адресу командира роты.
Кто не воевал в Заполярье, тому, пожалуй, трудно представить, что значит часами лежать на высокой обледенелой сопке, открытой всем ветрам, при жгучем сорокаградусном морозе, когда и камни будто горят медленным синим пламенем. Но делать было нечего: приказ есть приказ.
Разведчики снова ушли на «проклятую» Оленью скалу. Ползком подобрались они к самому краю обрыва и, зарывшись в снег, до боли в глазах обшаривали биноклями вражеское расположение. Они уже на память знали не только все землянки, дорожки и тропы, они успели точно установить, где стояли часовые, в какие часы сменялись.
Лежали разведчики долго, брови и ресницы у них опушило густым инеем, вокруг лиц, по краям надетых шапок-ушанок, тоже образовался белый ободок, а музыки, как назло, всё не было. Но в последнюю минуту, когда у них почти иссякло терпение и они готовы были сделать самый отчаянный шаг – спуститься вниз, – они снова услышали музыку из той же самой землянки. Они забыли об обжигающем колючем ветре, о лютом морозе. Слух разведчиков напряжённо ловил: что же это за музыка? Нет, это не губная гармошка, не патефон и не скрипка… Это оркестр! Затем пела женщина с очень тонким, визгливо-высоким голосом. Казалось, она не пела, а надрывалась. Потом снова музыка, грубая, барабанная.
Верещагин был старшим. Он махнул рукой, и разведчики поползли обратно, к своим лыжам.
– Послушали концерт? – первый раз за эти часы рассмеялся Верещагин. – Как вы думаете, друзья, на каком таком инструменте играли фрицы?
– Духовой оркестр. Исполняли гимн гитлеровской Германии, – сказал Шумилин.
– Вот что!.. – Верещагин зло сплюнул. – Стоило из-за этого мёрзнуть!
– Значит, в этой землянке у них радиоузел, – заключил Урманов.
– Нет, – не согласился Шумилин. – Такую глупость они себе не позволят. Здесь, вероятно, какой-нибудь новый начальник появился. Раньше у этой землянки не было специального поста. А теперь есть.
Вернувшись, они доложили старшему лейтенанту свои соображения. Сидоров сразу просветлел.
– Вот это толково, – сказал он, отпуская разведчиков на отдых.
На другой день Сидоров лично повёл группу Верещагина куда-то в тыл, где была почти такая же скала, как Оленья. Они остановились у самого откоса, и старший лейтенант приказал:
– Спускаться вниз!
Разведчики быстро укрепили на камне конец верёвочной лестницы и один за другим полезли вниз. Сидоров внимательно следил за быстротой спуска, а затем за быстротой подъёма. Когда это было несколько раз проделано, он спустился к ним сам и сказал:
– А что, если вам придётся по этой лестнице тащить раненого «языка»? Сумеете?
Он в упор посмотрел на Верещагина.
– Если не очень тяжёлый попадёт, – уклончиво ответил старшина.
– Этого заранее угадать нельзя. Но допустим – как наш Урманов, – сказал Сидоров.
Верещагин смерил глазами Урманова и чуть усмехнулся:
– А ну, попробуем!
В одну минуту Урманов был привязан к спине Верещагина, и тот медленно начал карабкаться по лестнице. Сидоров стоял у подножия скалы и, подняв голову, смотрел на них, а Шумилин наблюдал сверху. Лестница болталась: вот-вот Верещагин сорвётся. Иногда он останавливался и отдыхал. Потом упорно поднимался выше. Когда он достиг наконец края скалы и Шумилин начал ему помогать сверху, Сидоров со вздохом облегчения и восхищённо произнёс:
– Силища!
Разведчики вернулись усталые, но в хорошем настроении.
От огромной бензиновой бочки, приспособленной под печку, в землянке было тепло и светло. Жарко пылали берёзовые поленья. Такую роскошь могли позволить себе только разведчики. Сколько забот было из-за этих дров! За ними приходилось ездить за несколько десятков километров. Из-за дров ругались старшины. Они раздавали дрова, как гранаты, отсчитывая каждую чурку. Где и как доставали дрова разведчики, никто не знал, но в их землянке всегда было тепло.
Урманов принёс свой котелок и сто граммов и поставил всё это перед Верещагиным.
– Ну, Андрей, – сказал он, изо всех сил стараясь сохранить серьёзное выражение лица, – ты сегодня работал за двоих, так и ешь мою порцию, пей мои сто граммов. Кто не работает, тот не ест. А я сегодня, как американец на кули, на тебе катался… – Галим не выдержал и фыркнул.
– Посмотрим, что ты запоёшь, если мне придётся оседлать твою спину.
– Да от меня, пожалуй, только мокрое место останется.
– То-то! Ну, будь здоров! – И не успел Урманов опомниться, как приятель проглотил его порцию «горючего». – За сто граммов спасибо, за мной не пропадёт, могу ещё покатать, как друга… А это бери себе, – отодвинул Верещагин котелок.
Вторая группа разведчиков только что ушла на задание. Остальные, кто сидя, кто лёжа на нарах, хором пели песню. Высоким простуженным голосом начинал Шумилин, ему подпевал тенорком Урманов, чуть позднее осторожно вступал рокочущий, мощный бас Верещагина, потом песню дружно подхватывали все, кто был в землянке. И тогда песня, словно споря со всё не утихавшей пургой, врывалась в её унылый вой волевыми, мужественными голосами.
Кружится, кружится, кружится вьюга над нами.
Стынет над нами полярная белая мгла.
В этих просторах снегами, глухими снегами,
Белыми скалами линия фронта легла.
Кружится, кружится, кружится вьюга над нами,
Нашу землянку сровняли с землёю снега.
Если отчизна твоя у тебя за плечами,
Не остановит солдатское сердце пурга.
Но вот, положив руки под голову, Верещагин затянул другую песню. Она сразу увела бойца туда, где плескалось солнечное море, росли высокие, стройные кипарисы. Песня была о чудесной Сулико, а перед глазами Андрея стоял Георгий Ломидзе, его смеющееся, ставшее родным лицо.
– Хорошая это песня, братцы, – сказал Верещагин, – и девушка Сулико хороша, хотя я ни разу не видел её. И тысячу раз счастлив тот, кто любит такую девушку. Урманов, прочти, пожалуйста, ещё раз письмо.
Несколько дней назад они получили весточку от Ломидзе. Он лежал в Мурманске. Хотя письмо было написано не его рукой, но именно теми словами, какими говорил Ломидзе. Он ещё и ещё раз благодарил товарищей за то, что они спасли ему жизнь. Об этом он рассказал и своей любимой Сулико, сообщал он. А в конце добавлял: «Ждите, обязательно вернусь. Ваш Георгий Ломидзе».
Урманов закончил читать и бережно положил письмо в нагрудный карман. Верещагин, глядя на закопчённый потолок землянки, долго молчал – он тяжело переживал отсутствие Ломидзе. Потом приподнялся и, опёршись на локоть, посмотрел на товарищей.
– Может, братцы, – сказал он, – написать Сулико письмо о том, как воевал Георгий?
– Правильно, – откликнулся Шумилин, хотя Ломидзе он знал очень мало. – У меня есть бумага и карандаш. Урманов, садись поближе к свету. У тебя почерк, кажется, лучше всех.
– Как начнём? – поинтересовался Урманов, приготовившись писать.
– Пиши: «Многоуважаемая Сулико…» – сказал кто-то из разведчиков.
– Нет, так не годится, – перебил его Верещагин, – надо поласковее.
– Верно, – поддержал его Шумилин. – Тут надо учитывать, что дело связано с любовью. А любовь такая штука – чуть лишнего взял, можно всё испортить.
– Может быть, прямо обратиться по имени-отчеству? – предложил разведчик.
Но отчества Сулико никто не знал.
– Не начать ли нам письмо по-восточному? Урманов, ты, наверно, знаешь. Мне один друг-узбек рассказывал: у них особое начало письма есть. Красивое, – сказал один из разведчиков.
– По-моему, давайте начнём просто, – предложил Верещагин. – «Дорогая Сулико! Мы, близкие товарищи и друзья Георгия, шлём вам наш боевой привет…»
А дальше напишем, как он храбро сражался, как пел песни о ней, как был ранен, и сообщим, что рана его заживает, что снова ждём его в свою семью.
В это время открылась дверь, и в землянку, весь залепленный снегом, ввалился старший лейтенант Сидоров. Бойцы вскочили на ноги. Андрей Верещагин вышел вперёд и отрапортовал:
– Товарищ старший лейтенант, разведчики заняты написанием письма невесте нашего раненого товарища.
Сидоров поздоровался и сказал:
– Хорошим делом занимаетесь, но письмо, если не дописали, придётся отставить.
Он погрел над раскалённой докрасна печкой посиневшие руки, потом резко повернулся:
– Верещагин, Шумилин, Урманов, через десять минут ко мне! Надеть свитеры, телогрейки, маскхалаты. Взять автоматы с запасными дисками, по четыре гранаты, кинжалы, верёвочную лестницу и лыжи, одну пару запасную.
– Есть! – ответил Верещагин за всех.
– Остальным также быть в боевой готовности и ждать приказа!
Как только Сидоров вышел, Верещагин и Урманов бросились к вещевым мешкам. Они вытащили и надели свои полосатые тельняшки.
– Долой фланельки. Так душе теплее, – сказал Верещагин.
Простившись с товарищами, они стояли перед Сидоровым в полном боевом снаряжении, в белых комбинезонах. В таком же комбинезоне был и старший лейтенант. Он казался в нём более стройным и молодым. Привязывая к поясу последнюю гранату, он объяснял боевую задачу:
– Командование приказало нам, используя пургу и темноту, захватить «языка». Идём к Оленьей скале. Предупреждаю, задание будет очень трудное. Я полагаюсь на вашу храбрость и на пургу. Но пурга в любую минуту может прекратиться. Вы готовы?
– Готовы, товарищ старший лейтенант.
– Пошли. Остальное объясню на месте.
Пурга всё ещё бушевала, хотя напор ветра несколько ослабел. Разведчики встали на лыжи без креплений – их заменяли особые крючки, – чтобы можно было моментально снимать и надевать лыжи.
Через минуту разведчики скрылись в снежной пучине.
Ветер был попутным. Да и путь под гору. Разведчики летели словно на крыльях. Замыкающим шёл Верещагин. За ним на длинной верёвочке волочились запасные лыжи. Решено было идти к Оленьей скале не в обход, а лощиной, по самому короткому пути. Гитлеровские укрепления были на сопках, лощины между ними простреливались лишь пулемётным огнём. Но самый острый глаз не мог бы разглядеть разведчиков сквозь темень и пургу.
На переднем крае были уже предупреждены. Сидорова встретил командир стрелковой роты.
– Ну как? – Сидоров кивнул головой в сторону гитлеровцев.
– Зарылись, даже носа не показывают.
Сидоров условился с командиром роты и артиллеристами об огневой поддержке при возвращении. Разведчики закурили напоследок и вступили в полосу, которая на солдатском языке зовётся «ничейной».
Метель всё бушевала. Чтобы не потерять направление и не напороться на минное поле немцев, Сидоров то и дело поглядывал на компас. Они удачно миновали линию немецкой обороны и смелее пошли вперёд. Теперь Оленья скала была уже недалеко.
Урманов шёл третьим, за Шумилиным. Он был сейчас спокойнее, чем тогда, когда ходили на наблюдение. Может быть, оттого, что с ними действовал Сидоров? Или Галим поверил в свои силы? Как-никак это был его первый поиск. Он только ещё держал экзамен на разведчика. Как сложится обстановка? На вершине Оленьей скалы они были не раз. А вот что таится внизу, в этой неизведанной пропасти? А что, если враг давно почуял их и ждёт только, чтобы они спустились?
Лыжи оставили у края обрыва. Внизу в непроницаемой темноте бушевало снежное море. Сидоров посмотрел на часы. Десять минут назад сменили часового. Самая подходящая пора.
– Вот здесь спустимся, – прошептал Сидоров. – Шумилин, ты остаёшься. Гляди на все сто восемьдесят градусов. Вниз спускаемся втроём. «Языка» брать из второй, музыкальной землянки. Урманов без шума уничтожает часового и сам становится на его место. Мы с Верещагиным входим в землянку и берём «языка». Обратный ход так: впереди я, за мной пленный и Верещагин; замыкающий Урманов. Ясно?
– Ясно, товарищ старший лейтенант!
Укрепили лестницу.
– Урманов, вперёд! – скомандовал Сидоров.
Сердце Галима забилось сильнее. Он передвинул автомат за спину и начал спускаться. Через несколько мгновений посмотрел вверх – товарищей скрыла мгла, посмотрел вниз – там всё скрадывала плотная пелена крутящихся снежинок. И он почувствовал себя где-то между небом и землёй. Кроме завывания ветра, ничего не было слышно.
Когда наконец его ноги коснулись земли, он, молниеносно прижавшись спиной к скале, быстро огляделся по сторонам. Всё было спокойно.
Он подал знак. Верещагин и Сидоров тоже спустились. Некоторое время все трое напряжённо вглядывались в метельную тьму. Наконец Сидоров махнул рукой. Урманов вытащил кинжал и, чуть пригибаясь, пошёл вперёд.
У первой землянки он остановился. Отсюда он уже различал часового, стоящего у второй землянки. Укутанный не то одеялом, не то тёплой шалью, часовой стоял спиной к нему и, обняв винтовку с широким штыком, топтался на одном месте. Вероятно, он считал сорокаметровую скалу надёжной защитой и смотрел только в ту сторону, откуда могло прийти начальство.
Урманов, сжав рукоятку кинжала, подкрался к нему на расстояние трёх шагов. Часовой всё так же переминался с ноги на ногу. Тогда Галим сделал последние три шага и, одной рукой зажав гитлеровцу рот, другой всадил ему кинжал в шею. Гитлеровец беззвучно осел, выпавшая из его рук винтовка скользнула в рыхлый снег.
Подбежали Сидоров и Верещагин. Верещагин помог Урманову оттащить труп в сторону и забросать его снегом. Винтовку, сняв затвор, бросили туда же. Затем Сидоров с Верещагиным, освещая себе путь электрическим фонариком, вошли в землянку. Бесшумно прошли они коридор, переднюю. Следующая дверь была заперта изнутри. Сидоров дёрнул, но дверь не поддавалась. Поднатужившись, нажал плечом на неё Верещагин – крючок с треском сорвался. В углу на походной кровати спал, судя по кителю, висевшему на гвоздике, полковник. Он был, видимо, пьян, даже от шума не проснулся. Сидоров подошёл к нему вплотную, вытащил из-под подушки пистолет. Потом резко толкнул спящего.
– Вставай, приехали! – загремел Верещагин.
Полковник поднял голову и, увидев людей в белых маскхалатах и направленные на него автоматы, мгновенно закрыл голову одеялом и принялся шарить рукой под подушкой. Тогда Сидоров сдёрнул одеяло и сказал по-немецки:
– Одевайтесь, полковник. Да побыстрее! – И бросил ему брюки и китель, предварительно ощупав карманы и взяв оттуда все бумаги.
– Кто вы… белые привидения?.. – шептал гитлеровец, натягивая дрожащими руками брюки.
– Советские разведчики. Предупреждаю, не шумите.
Немец оделся.
– Где карты? – опять по-немецки спросил Сидоров.
Гитлеровец показал на ящик стола и испуганно покосился на огромного Верещагина, дуло автомата которого смотрело ему прямо между глаз.
Забрав карты и штабные документы, испортив радиоаппарат и заткнув рот пленному, разведчики вышли наружу.
– Пока всё спокойно, – встретил их Урманов.
Метель почти утихла, хотя небо было ещё в тучах.
«Эх, некстати же прекратилась пурга», – огорчённо подумал Сидоров и заторопил ребят.
Первым шёл Сидоров. За ним немец и Верещагин. «А что, если он решится прыгнуть?» – прикидывал уже на лестнице Андрей. Но немецкий полковник, ошеломлённый и подавленный, поднимался покорно, даже не оборачиваясь.
Когда разведчики вместе с гитлеровцем взобрались наверх, они вздохнули облегчённо. Теперь всё решала быстрота. Надо успеть проскочить передний край, пока не опомнились враги. Но оказалось, что полковник плохо ходит на лыжах. Это сильно осложняло продвижение. К тому же прекратилась метель, и пленный – весь в чёрном – издалека выделялся на белом фоне.
Сидоров, досадуя, ругал себя, как это он не учёл такой существенной детали – забыл приказать, чтобы прихватили запасной маскхалат. Эта «мелочь» может теперь сорвать им всю операцию, мало того, стоить жизни разведчикам… Лыжи взяли, а халата нет!
Он уже хотел было снять с себя комбинезон, но в это время Шумилин, тоже заметив допущенную оплошность, накинул на немца свой халат.
– Может, в обход? – предложил Верещагин.
– Нет, нас догонят по лыжне. Попытаемся прямо. Шумилину идти в отдалении!
Верещагин передал немцу свои палки. Спускаясь под гору, немец раза три упал. Верещагину с Урмановым приходилось вытаскивать его из снежных сугробов. Когда они дошли до самого узкого места в лощине, почти одновременно с двух сопок по ним открыли огонь из пулемётов. Пули зароились над головами разведчиков.
«Обнаружили, ироды», – подумал Сидоров и приказал идти ещё быстрее. Вдруг на полном ходу упал Шумилин. Галим, шедший за ним, нагнулся:
– Виктор, что с тобой?
Шумилин тихо застонал.
– Ранило? Куда?
– В ногу.
Урманов опустился на колени, чтобы перевязать товарищу рану. Над их головами пролетали трассирующие пули. Шумилин ругался, досадовал на задержку.
– Не волнуйся, – сказал Урманов. – Я потащу тебя. Приваливайся мне на спину.
На помощь разведчикам пришла артиллерия – она заставила замолчать вражеские дзоты.
Взвалив на спину Шумилина, Урманов спешил догнать товарищей. Но они были уже далеко.
– Тяжело тебе, Галим? – спрашивал Шумилин.
– Не беда, только горло не очень зажимай руками.
Небо совсем прояснилось, проступили звёзды, крупные, голубые, холодные. Урманов побежал быстрее, но лыжи уже не скользили, как прежде. Ему стало жарко, как в бане. Шумилин же, наоборот, начал мёрзнуть.
– Смотри, нас отрезают, – затормошил товарища за рукав Шумилин.
Человек пятнадцать вражеских лыжников в белых халатах спускались наперерез им с горы. Урманов осторожно опустил Шумилина на снег, залёг сам и вскинул автомат, но огонь пока не открывал – гитлеровцы были ещё далеко. В это время вокруг группы Сидорова начали рваться мины.
– Давай ползком… – сказал Урманов. – Ближе к своим.
От холода и потери крови Шумилин обессилел. Урманов снова взвалил товарища на спину и пополз, на ходу хватая ртом снег.
С нашего переднего края дали отсечный пулемётный огонь – не иначе как заметили немецких лыжников. Артиллерия пристрелялась по вражеской огневой точке.
Шумилин вдруг затих, руки его обмякли.
– Виктор!.. Слышишь, а, Виктор? – кричал Урманов. – Сейчас придёт помощь. Сидоров прорвался!
Но Шумилин не отзывался. Урманов упорно полз.
Он не мог видеть, что немецкие лыжники, прижатые нашим пулемётным огнём, вынуждены были залечь и по одному стали отползать обратно. Не мог он видеть и того, что на помощь им торопилась группа бойцов во главе с Сидоровым. Он всё полз и полз, слыша только прерывистое дыхание друга на своей спине.
Человеку, привыкшему с утра до вечера видеть солнце и чувствовать его благодатное тепло и ободряющий свет, нелегко жить в вечных сумерках. С тех пор как над бесчисленными сопками плотно легла полярная ночь, мгла заполнила всё пространство.
Чтобы коротать бесконечные сумерки, в свободное от постов и дежурств время бойцы под завывание вьюги вспоминали кто свой колхоз, кто свой завод или город.
И каждый рассказывал так, будто нет краше и благодатнее жизни, чем в его краю. «У нас ткни палку – и то дерево вырастёт», – говорил украинец о своей родной земле и с отрадой вспоминал, какое там солнце, какое небо, какой богатый урожай выращивали они в колхозе.
Как-то у разведчиков возник спор: а что, если достать петуха, – не собьётся он, когда ему кукарекать? Прошла неделя, они таки добыли петуха, и в положенное время он кукарекал так же голосисто, как это делал его собрат где-нибудь в Татарии или на Украине. Сколько же радости и веселья приносил он бойцам! Посмотреть на него приходили из всех землянок.
Однако у разведчиков свободного времени было гораздо меньше, чем у пехотинцев, артиллеристов или связистов. А возвратившись с задания, усталые, промёрзшие, они сразу же ложились и засыпали крепчайшим сном.
Вернулся из госпиталя Георгий Ломидзе. Он заметно похудел, возмужал, отрастил себе чёрные короткие усы, но ресницы по-прежнему загибались, как у девушки. Его тоже взяли в разведку.
После гитлеровского полковника друзья притащили ещё двух «языков», побывали в жарких схватках с немецкой разведкой. Они сильно изменились, особенно Урманов. Он не отращивал, как другие, усов, но в уголках его твёрдых губ появились глубокие, упрямые складки.
В нём выработались повадки настоящего разведчика, – он теперь не вспыхивал, что спичка, как это было раньше, но в то же время готов был ко всему. Глаза его смотрели прямо, жёстко; чёрные, они отливали воронёной сталью. Он научился с первого взгляда примечать вокруг всё, не упуская никакой мелочи.
Как-то, услышав, что Урманов казанец, Ильдарский попросил его к себе. Они долго говорили о родном городе, а прощаясь, Ильдарский попросил: если Галим получит какие-нибудь интересные новости из Казани, рассказать их ему. Но от Муниры писем почему-то не было. Галим терялся в догадках. Он знал твёрдо одно: после каждого боя его любовь к Мунире росла и ширилась. Её образ вызывал в его сердце самые благородные, самые высокие чувства. Насколько беднее была бы его жизнь, не будь на свете Муниры!
Весна двигалась на север медленно, но всё же двигалась. Всё выше поднималось над горизонтом солнце. Бойцам выдали чёрные очки: становилось трудно смотреть на искрящийся мириадами блёсток снег. Хотя заметно потеплело, снег всё ещё держался, местами достигая трёх метров. Ни машины, ни кони не могли пробиться сквозь этот снежный океан. По-прежнему боеприпасы и продукты на передний край доставлялись на оленьих и собачьих нартах.
Давно вернулся из госпиталя Шумилин. Он также отрастил рыжеватые, жёсткие, смешно топорщившиеся усы. Теперь в разведроте безусыми оставались только Верещагин и Урманов, – они упорно не хотели подчиняться общей «моде».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































