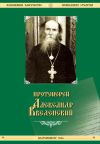Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
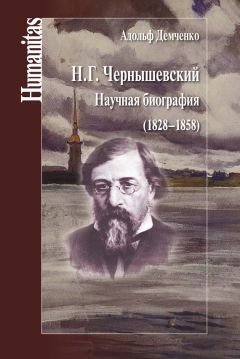
Автор книги: Адольф Демченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Почти все мемуаристы и Н. Г. Чернышевский свидетельствовали, что у Гаврилы Ивановича была довольно обширная домашняя библиотека. Какая-то часть книг досталась от умершего протоиерея Голубева. Из этих названий А. Ф. Раев припоминает «„Энциклопедический лексикон” и „Христианское чтение”, но были и другие книги».[108]108
Воспоминания (1982). С. 124.
[Закрыть] Более подробные сведения о составе домашней библиотеки Чернышевских сообщил А. Н. Пыпин: «В его кабинете, который я с детства знал, было два шкафа, наполненных книгами: здесь была и старина восемнадцатого века, начиная с Роллена, продолжая Шрекком и аббатом Милотом; за ними следовала „История Государства Российского” Карамзина; к этому присоединялись новые сочинения общеобразовательного содержания: „Энциклопедический словарь” Плюшара, „Путешествие вокруг света” Дюмон-Дюрвиля, „Живописное обозрение” Полевого, „Картины света” Вельтмана и т. п. Этот последний разряд книг был и нашим первым чтением. Затем представлена была литература духовная: помню в ней объяснения на книгу Бытия Филарета, книги по Церковной истории, Собрание проповедей, Мистические книги.
Наконец (я говорю о времени около моего поступления в гимназию), к нам, – продолжал А. Н. Пыпин, – проникала новейшая литература. Гавриил Иванович, очень уважаемый в городе, имел довольно большой круг знакомства в местном богатом дворянском кругу, и отсюда он брал для сына, Николая Гавриловича (с детства жадно любившего чтение), новые книги, русские, а также и французские: у нас бывали свежие тома сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, некоторые журналы…».[109]109
Воспоминания (1982). С. 104.
[Закрыть]
Дополнительные данные о числе и названиях книг, бытовавших в семье Чернышевских, предоставляют архивные источники. В январе 1842 г. саратовский епископ Иаков распорядился подготовить реестры имеющихся в наличии у духовенства книг. Собранные документы Иаков предписывал «хранить при делах как неизлишнее, а для истории полезное». В марте того же года требуемые сведения о библиотеках духовенства саратовской епархии доставлены епископу. В документе говорилось: «<…> Как оказалось по исчислению, сделанному в канцелярии семинарского правления по ведомствам благочинных: протоиерея Чернышевского духовенство имеет 529 экземпляров, священника Разумова 422 экземпляра, протоиерея Ремезова 108 экземпляров, священника Октотопова 62 экземпляра, протоиерея Диаконова 222 экземпляра, священника Ципровского 177 экземпляров, священника Левитского 161 экземпляр, протоиерея Элпидинского 355 экземпляров, священника Рождественского 655 экземпляров, протоиерея Казаринова 123 экземпляра, священника Волковского 321 экземпляр, протоиерея Лугарева 35 экземпляров, священника Покровского 75 экземпляров, всего 3867 экземпляров».[110]110
ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1325. Л. 1, 4.
[Закрыть] Как видим, самыми многочисленными оказались библиотеки священнослужителей города Саратова, подчиненных Г. И. Чернышевскому, и собрание книг у священников благочиния Рождественского. Из составленного Гаврилой Ивановичем реестра книгам городского духовенства видно, что на долю служителей саратовской Нерукотворно-Спасской церкви пришлось подавляющее количество книг – 282, остальные 247 экземпляров распределялись по библиотекам служителей девяти церквей (Воскресенской – 23, Казанской – 35, Спасо-Преображенской – 15, Единоверческой – 12, Александровской больницы – 12, Ильинской – 66, Вознесенской – 48, Кресто-Воздвиженской–12, Вознесенской на Сенной площади – 24). Число книг священнослужителей Нерукотворно-Спасской церкви, в которой Г. И. Чернышевский имел свой приход, было значительным благодаря библиотеке благочинного, у остальных их насчитывалось всего 35 (32 книги у священника Якова Снежницкого и три книги у дьякона Якова Подольского). В составленном Г. И. Чернышевским реестре его личной библиотеки (автограф) указаны следующие названия: «1. Библия на славянском, греческом и французском языках. 2. Новый Завет на славянском и русском наречии. 3. Новый Завет на греческом языке. 4. Толкование на послание к римлянам Иоанна Златоустого, старый перевод. 5. То же, новый перевод. 6. Толкование на евангелиста Матвея, его же, старый перевод. 7. То же, новый перевод. 8. К Феодору падшему, его же. 9: Камень веры. 10. Летопись Дмитрия Ростовского. 11. Поучения его же. 12. О должности приходских священников. 13. Огласительные слова Кирилла Иерусалимского. 14. Православное исповедание Веры, Петра Могилы. 15. Новая скрижаль. 16. Изъяснение на литургию, Дмитревского. 17. Беседы Макария Египетского. 18. Избранные сочинения Августина Иппонийского. 19. Вообще довольно значительное собрание книг богословских, философских, исторических и других назидательных на языках российском, греческом, латинском, немецком и французском». Рапорт Г. И. Чернышевского датирован 20 августа 1841 г.[111]111
Там же. Л. 32–34, 42–53. Реестр книг из библиотеки Г. И. Чернышевского – Л. 33.
[Закрыть] По-видимому, Иаков сначала собрал сведения о библиотеках городских церковнослужителей, а затем – по остальным благочиниям.
Из документов видно, что личная библиотека Г. И. Чернышевского насчитывала 247 названий – среди духовенства города самая большая библиотека. Для епископа Иакова Гаврила Иванович указал сугубо религиозные книги. Однако, как видно из реестра, они не составляли большинства библиотеки. Таким образом, документально подтверждается факт, имеющий для исследования биографии Н. Г. Чернышевского важное значение: чтение юного Чернышевского было разнообразным и не ограничивалось религиозными сочинениями, а наличие книг на древних и новых европейских языках побуждало к изучению языков.
Довольно значительная по тому времени домашняя библиотека, обширные знакомства отца, доставлявшие немало книг со стороны, вполне удовлетворяли запросы юного Чернышевского. Потребность в чтении в столь грамотном и образованном семействе возникала сама собой. «Никто нас не „приохочивал”. Но мы полюбили читать», – вспоминал Чернышевский (XV, 152). Чиновник Н. Д. Прудентов вспоминал: «Я каждый день утром и в полдень проходил мимо дома Чернышевских и постоянно видел, как Н. Г., сидя в то время около крайнего окна к воротам, читал газету. Глядя на него, зависть брала. Отец важная и почтенная персона, и сын вышел в него: девять лет, а так усердно читает газеты».[112]112
Записано Ф. В. Духовниковым (РОИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. Д. 43. Л. 739).
[Закрыть] Сколько можно судить по его позднейшим высказываниям, первоначальное чтение носило бессистемный характер. Автохарактеристика «Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано» раскрывалась в следующем не лишённом иронии перечне: «В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймии, и о Петавии, и о Гревии, и об учёной госпоже Дасиер, – в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди вроде Корнелиуса а Лапиде, Буддея, Адама Зерникова (его я в особенности уважал)». Потом к этому списку приплюсовались «Великие Четьи-Минеи», переводы романов Ж. Санд в «тогдашних «Отечественных записках», ранние переводы Диккенса, «я знал чуть ли не все лирические пьесы Лермонтова», «я читал с восхищением „Монастырку” Погорельского», «я читал решительно всё, даже ту „Астрономию” Перевощикова, которая напечатана в четвёрку и в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул» (I, 632–636). В одной из своих рецензий 1860 г. Чернышевский, вспоминая детство в «10, 12 и 14 лет», писал, с каким «восторгом» перечитывал «раз двадцать в римской истории Роллена период Самнитских войн» с описаниями сражений, но зато «с пренебрежением перевёртывал эротические страницы» в иных произведениях, к которым, например, относился «скандальнейший роман покойного Степанова, кажется „Тайна”, а может быть „Постоялый двор”», или в романах Поль де Кока забавляли «уморительные приключения» и оставались «без всякого внимания» любовные интриги (VII, 446).
Любопытен и показателен пример с отношением к «Четьям-Минеям», извлечённым однажды из шкапа по желанию бабушки Пелагеи Ивановны и занявшим несколько вечеров для чтения. В первый день читала старшая кузина (Любовь Котляревская), и бабушке понравилось. На другой вечер читали снова, и на этот раз в чтении участвовал Николя. Но вот, «постепенно сокращаясь в размере приёмов и растягиваясь в рассрочках между приёмами», чтение замерло «на несколько недель», а потом и вовсе оставлено. Книгу взяла читать сестра бабушки Анна Ивановна, но и у той закладка ненамного передвинулась вглубь, и «скоро стало ясно, что книга даром лежит у неё на столе». Через несколько времени Анна Ивановна положила книгу на свой шкап, и она «возобновила на новом месте прежнюю безмятежную жизнь». Сам Николай читал религиозные «Четьи-Минеи» «очень много», но «совершенно пропускал проповеди и краткие жития, читал исключительно только длинные, состоящие из ряда отдельных сцен, рассказанных вообще с беллетристическою обстоятельностью или с анекдотическою живостью. Это читалось легко и с удовольствием» (I, 635–637). Чем же объяснить столь пренебрежительное отношение к книге, которая как сборник преданий о русских святых должна была бы пользоваться успехом в религиозной семье? Чернышевский не случайно так подробно описывает историю чтения «Великих Четий-Миней», вкрапливая воспоминания в рассказ об образе жизни своих старших, которые чуждались «элементов, располагающих рассудок портиться привычкою к неправдоподобному» (I, 580), и аскетизм святых не находил отклика у них, людей «обыденной жизни».
Неправильно было бы считать подобное отношение к духовной литературе о святых чем-то вроде антирелигиозной акции. Далеко не каждая церковная книга вызывала столь единодушную незаинтересованность, а лишь такая, в которой проповедовался фанатизм и аскетизм как норма жизни. «По числу страниц, – писал Чернышевский, – большая часть Четь-Минеи состоит из истории подвигов и страданий святых мучеников. Тут было много чудес, – мученика ввергали в реку, в огненную печь, свергали со скалы» (I, 788) – такие книги пусть читает дальний родственник Голубевых Матвей Иванович Архаров, который после пьяной беспутной жизни вдруг вознамерился принять образ мученика, а на деле превратился в жестокого тирана и злодея в семье. В связи с этим уместно процитировать следующее место из автобиографии Чернышевского: «У нас была особая книжка, содержавшая в себе службу Варваре великомученице, и в виде вступления подробное житие её. Мне не хотелось читать его в этой книге. А само по себе оно было интересно для меня. В Четь-Минее я прочёл его с любопытством и с убеждением, что в особой книжке оно ещё любопытнее, потому что подробнее. А в особой книжке всё-таки не прочел его. Почему? Тогда не думал об этом, а теперь вижу, почему: книжка была в сафьянном переплете, с золотым обрезом, с золотым тисненьем на крышках переплёта, – не любил я её за это, она возбуждала этим впечатление, что претендует быть не простою книгою, как все другие, хочет, чтобы её читали, как читает Матвей Иванович. Нет, это не моё, – то есть нашего семейства, – чтение» (I, 634).[113]113
См. также: Клименко С. В. «Четьи Минеи» в детском чтении Н. Г. Чернышевского // Русская литература. 1988. № 1. С. 186–191.
[Закрыть]
Своё пристрастие к книгам и отношение ко многим из них Чернышевский рассматривает со стороны того восприятия «книжной пажити», которое десятилетиями формировалось в семье под влиянием реальных жизненных условий. Однако на первых порах чтение, по его словам, было «многовато послабее» впечатлений жизни и, занимая в системе воспитания заметную роль, всё же имело второстепенное, подчинённое значение. Живая действительность, «трепетание жизни», ощущавшееся в разговорах, какие мальчику приходилось слышать, по-своему воспитывали и вовсе не вопреки намерениям старших или независимо от них, а в сложном совокупном, естественном взаимодействии. Вот почему разговор о «семейном воспитании», как оно представлялось самому Чернышевскому, будет не полон без учёта факторов мощного воздействия, идущего со стороны окружающей саратовской действительности.
4. Саратовская действительностьОт пересказа бабушкиных историй и объяснений особенностей их «фантастического» содержания Чернышевский переходит в автобиографии к воспоминаниям о «соприкосновениях» его детства с «живыми людьми фантастического мира» (I, 586).
Вот перед читателем развёрнуты страницы жизни слабоумного мальчика, которому суеверные горожане одно время приписывали способность предрекать пожары.[114]114
Пожары в ту пору случались часто. По подсчётам местного историка в Саратовской губернии в 1842–1851 гг. пожаров было 1671, уничтожено зданий (казённых, церковных и частных) 171 156 (Сар. губ. вед. 1853. 21 февраля. № 8. С. 29. Подробные цифровые данные по годам опубликованы в той же газете за 1853 г. (14 февраля. № 7. С. 25).
[Закрыть] Улёгся пожарный страх – заглохло и мистическое значение мальчика, и «все саратовцы стали видеть в нём опять только то же самое, что видели прежде: бедного слабоумного крестьянского мальчика, который из своего села (какого-то недалёкого) заходит иногда в город, потому что родные не усмотрят за ним по своему рабочему недосугу, или и вовсе не смотрят за ним, оставляют брести куда хочет, в надежде, что никто не захочет обидеть его, бедняжку, такого смирного, а может быть, и сами, по бедности, рады, когда он уходит с их скудного хлеба на хлеб добрых людей, из которого ещё, может быть, и принесёт им иной раз две-три краюхи „калача” (т. е., по-нашему, хорошего белого хлеба, какого бы то ни было)» (I, 584).
В другом эпизоде повествуется о бедной девушке, круглый год ходившей в холщовой рубашке и босиком, хотя бы и в тридцатиградусный мороз. Она посещала только церкви и, как гласила легенда, дала обет молчания и самопожертвования в память рано умершей сестры. Житейская сторона этой легенды, как и в предыдущем рассказе о слабоумном мальчике, оборачивается горькой, трагической обыденностью. Обе сестры остались сиротами в справной крестьянской семье. Одна из них по уговору с другой вышла замуж за человека, который оказался негодяем, и умерла от побоев. Её сестра с той поры наложила на себя страшное наказание и, разумеется, через несколько лет тоже погибла. Её подвижничество, писал Чернышевский, он «уже и тогда понимал как чисто человеческий подвиг, не фантастическое стремление, а страдание о действительном несчастии нашей простой человеческой жизни» (I, 586).
Из того же ряда история жизни юродивого, блаженного Антона Григорьевича или Антонушки, личности легендарной в саратовском мире той эпохи.[115]115
Фамилию Антонушки установить не удалось. Саратовский историк-краевед С. А. Щеглов называет его Дубинкиным (Труды СУАК. Вып. 25. 1909. С. 305–306). Неизвестный автор «Саратовского дневника» (1888. 26 июня. № 135) сообщал, что юродивый Антонушка – Антон Григорьевич Знаменский, происходивший из бывших крепостных крестьян Вязовской волости Саратовского уезда помещицы Челюскиной, и что отец его был младшим ключником. Саратовец В. И. Дурасов говорил о Пустовойтове, который был уроженцем г. Петровска, где имел собственный дом, и до юроднического подвижничества числился купцом 3-й гильдии, занимался торговлею, переданною впоследствии сыновьям (Сар. дневник. 1888. 29 июня. № 137; см. также: Лит. наследие. Т. 1. С. 715).
[Закрыть] Всё его «юродство» заключалось в том, что он сознательно отрёкся от всех мирских благ и проповедовал идеи душевного спасения. Когда-то Антон Григорьевич был небедным тружеником-хлебопашцем, но в один из тяжёлых голодных годов его увлекла жалость к умирающим от голодной смерти односельчанам. Пристрастившись к деятельности «брата милосердия», он со временем забросил своё хозяйство и «обратился к подаванию нравственной помощи», находя в этом единственный смысл жизни. Он заботился о неизлечимо больных и бесприютных бедняках, уговаривал богатых делиться с бедными, пуская в ход «иронические юмористические обороты». Наталкиваясь на равнодушие, он принимался за особое «юродство»: нанимал извозчика и отправлял с ним больного к ничего не подозревающим хозяйкам. На него жаловались, «жалобы были основательными», прибавляет не без иронии Чернышевский. Полиция преследовала его, порою и сами горожане «бивали его сильно».[116]116
С. А. Щеглов (см. примеч. 2) писал, что Антонушка «восставал на живущих неправдою – бил окна у местных домовладельцев и в полиции». «С Антонушкиным „жезлом”, – писал В. И. Дурасов, – пришлось как-то познакомиться на базаре одному квартальному надзирателю, которого Антонушка накрыл на месте преступления и уличил в лихоимстве. „Начальство обманешь, а Бога никогда!” – приговаривал Антонушка, расправляясь с оторопевшим блюстителем порядка, только что сорвавшим взятку с какой-то торговки».
[Закрыть] В семье Чернышевских-Пыпиных на Антонушку смотрели как на человека «доброго, стремящегося делать хорошее», к его же странностям и экзальтациям, порождённым невежественностью, необразованностью, относились снисходительно. Пелагея Ивановна даже дружила с ним, и «Антонушка, – писал Чернышевский, – считал наш дом одним из вернейших своих приютов от гонений» (I, 593). Закончилось юродство Антонушки тем, что однажды, «после долгой отлучки», он явился к Чернышевским и представился купцом 2-й гильдии. Сыновья его пошли служить по откупам, переселились в Петербург, а купец Антон Григорьевич утешался их успехами по службе – «это уж такая проза, что из рук вон плохо» (I, 596), – заключает Чернышевский свой рассказ о «юродивом».[117]117
На основании сведений, сообщённых В. И. Дурасовым, С. Н. Чернов приводит следующие подробности из жизни Антонушки, который бросил юродство лишь на короткое время и продолжал свои чудачества и в 1850-х годах. «И летом и зимою Антонушка ходил в белом холщовом балахоне и в поярковой крестьянской шляпе с перехватом, украшенной разноцветными лентами, опираясь на высокий посох, тоже украшенный такими же лентами и привязанными к набалдашнику связками бубликов и мелких кренделей. Через плечо у Антонушки всегда была повешена торба с овсом или пшеном, которым он кормил голубей и других пернатых». Значительную часть всяческих доброхотных даяний он раздавал нищим, вёл нравственную проповедь, обличал житейские пороки. Особенно нападал на монахинь Саратовского женского монастыря, торговок с Верхнего, Пешего базаров и полицию, ругал их и даже бивал посохом. По рассказам В. И. Дурасова и саратовца И. Я. Славина, самым крупным выступлением Антонушки был протест против осуждения и расстрела одного молодого человека по обвинению в поджоге – крестьянина Кириллова (И. Славин называет его Храмовым), о котором говорили, что у него отец отбивал жену и что он, не выдержав, поджёг дом, отчего сгорело более половины села. Юноша был расстрелян в части города, где впоследствии воздвигнуты здания университета, и там же похоронен. Антон Григорьевич обыкновенно зажигал лампады на его могиле, бил в свой колокол, пел молитвы, провозглашая невинность крестьянского юноши. По уверению Е. Н. Пыпиной-Нейман, Антон Григорьевич дожил до конца 1890-х годов. (См.: Лит. наследие. Т. 1. С. 715–716.)
[Закрыть] Читатель невольно приходит к выводу, что во времена своего юродства гонимый Антонушка был больше человеком, чем пользующийся уважением горожан купец Антон Григорьевич. И чтобы пояснить обстоятельства, приведшие к такой перемене, Чернышевский переходит к рассказу о «человеке очень редкого благородства», медике Мариинской колонии Иване Яковлевиче Яковлеве.
Замечательно одарённый врач, заметно выделявшийся на фоне даже неплохих саратовских медиков, Яковлев страдал запоем. Он не был пьяницей, а между людьми, страдающими пьянством и пьющими запоем, существует, говорит Чернышевский, важная разница. Пьянство возникает как результат нравственной распущенности. Таким, например, стал один из родственников Голубевых Матвей Иванович Архаров, и пьянство достойно порицания. Запой же, разъяснял Чернышевский, связан с тем, что обычно называют меланхолией, своё происхождение ведущей от неудавшейся жизни и общего порядка дел. «Характер жизни, о которой я говорю, – писал Чернышевский, – очень благоприятствует развитию меланхолии: тосклива эта жизнь, очень тосклива» (1, 599). По цензурным условиям яснее было выразиться нельзя в произведении, предназначенном для опубликования, но и из этих слов видно, что Чернышевский считал запой социальной болезнью, предопределённой давящей крепостнической действительностью. Талантливый врач, способный к плодотворной научной деятельности, вынужден жить в захолустьи, где никому нет дела до его выдающихся способностей. Умный человек, он недолго обольщался мечтами о научном поприще и, придавленный обстоятельствами, предался меланхолии, которая «в условиях русской простой жизни» превратилась в запой.
Судьба Яковлева сложилась трагично. Он полюбил крепостную крестьянскую девушку, работавшую у него кухаркой. Их связь длилась долгие годы, и Иван Яковлевич по своей инициативе решился жениться на ней, предварительно выкупив её у помещицы, которой его невеста принадлежала по закону. Пока длилась переписка с помещицей, друзья Яковлева, полагая, что они для его же пользы обязаны предупредить брак дворянина с крепостной, послали без его ведома к помещице письмо с просьбой спасти их товарища из рук «твари», опутавшей Ивана Яковлевича. Помещица поверила наговорам и потребовала возвращения экономки, отказав в разрешении на брак. Та не могла ослушаться приказа, а Яковлев вскоре покончил с собой, перерезав горло бритвой.
Крепостническая действительность – вот подлинный виновник безрадостного существования слабоумного мальчика, крестьянской девушки, не сумевшей найти верную дорогу в жизни, талантливого врача Яковлева. Именно крепостническое сложение жизни сломило первоначальные убеждения Антонушки, нравственный бунт которого приобретал социальный характер и не мог иметь успеха. Либо смирись, либо гибни – такова альтернатива, жёстко поставленная всей системой взаимоотношений человека и среды. Чернышевский значительно позднее сможет осмыслить причинную связь описанных им событий, но первый толчок к непредвзятому их восприятию получен именно в детстве.
Мученичеству девушки, движимой глубоко нравственным чувством, описаниям юродства Антонушки и трагической судьбы врача противостоит рассказ о Матвее Ивановиче Архарове. «Он был очень богомолен и благочестив, говорил о божественном» – за этой внешней характеристикой следуют разоблачающие подробности из жизни типичного крепостника в своей семье, «урода и тирана». Его жена, Александра Павловна, «благородная, почтенная женщина», «умная и очень рассудительная», стала жертвой грубого произвола и самодурства.[118]118
По воспоминаниям Е. Н. Пыпиной, Александра Павловна Архарова, урождённая Морщикова – дочь землемера. После смерти матери осталась сиротой в трёхлетнем возрасте и взята на воспитание саратовской помещицей, «какой-то княгиней», «у которой в имении, кроме молоденьких родственниц, было всегда ещё две-три воспитанницы и к которой каждое лето приезжал родственник, Михаил Юрьевич Лермонтов», учившийся тогда ещё «в корпусе». В эти свои приезды, как рассказывала Александра Павловна Е. Н. Пыпиной, Лермонтов «ужасно донимал родных и чужих девиц разными шутками и насмешками необыкновенными», «так что, как он приедет, так нам мучение одно: насмехается, шутит такими шутками, какие нас обижали». В доме княгини Александра Павловна получила хорошее образование и воспитание, она «журналы брала читать и читала не одни повести и рассказы». М. И. Архаров в последние годы служил бухгалтером в саратовской палате государственных имуществ; умер летом 1851 г., паспорт, выданный вдове Архаровой из этой палаты, датирован 4 сентября 1851 г. (Лит. наследие. Т. 1. С. 717–718).
[Закрыть] «Собираются они в Киев да в Москву Богу молиться, – передаёт Чернышевский рассказ Пелагеи Ивановны, – мало места ему, дураку, в саратовских-то церквах, – просторные, хотя во весь рост растягивайся на полу-то по будням-то: просторно, никого нет, – и полы-то каменные: хоть пробей лоб-то, коли усердие есть, можно, камень-то здоровый, выдержит. – Тащит Александру Павловну с собою, да и только. – „Да что ж мне ехать, – она говорит, – когда не на что тебе одному. Зачем я поеду?” – „Ах ты подлячка! Да разве ты не жена? Я за твою душу-то должен отвечать. Да и сладко ли мне будет смотреть, как ты в аду-то будешь сидеть?” – Вот тебе и резон. Так и взял с собою. И натерпелась же она мученья в этой дороге! Сам ест как следует, а её сухими корками кормит. Это, говорит, лучше для душевного спасения. – Ну, недостаёт её терпенья, – да и смешно уж ей с горято. Говорит: – „Матвей Иванович, что ж это, меня корками спасаешь, а сам ешь как следует, – ты бы уж и себя-то спасал”. – „На тебе много грехов, говорит, тебе надобно смирять себя постом и умерщвлением плоти, а мне уж нечего, на мне грехов нет никаких”. Так ведь и говорит, дурак. Праведник какой завелся. – Лошадёнка плохая, – как дождик, чуть дорога в гору, она и становится. – Что же вы думаете? – Сам сидит, а жену гонит с телеги: „Слезай, говорит, лошади тяжело, ступай пешком”. – „Матвей Иванович, ты в сапогах, да и то не слезаешь, а я в башмаках как буду идти по такой грязи?” – „Мне, подлячка, можно сидеть, на мне грехов нет, а тебе надо пешком идти, чтобы усердием этим искупить свои грехи”. – Так и сгонит с телеги, и идёт она пешком по дождю да по грязи. Вот они какие праведники-то. У них у всех сердце жестокое. В них человеческого чувства нет» (I, 622–623).
Право измываться над женщиной Архаров получил благодаря веками утвердившейся домостроевской традиции безусловного подчинения женщины в семье. Подкреплённое крепостничеством и освящённое авторитетом церкви это подчинение и зависимость доходили порою до изуверства, поражавшего воображение юного Чернышевского. Уже в детские годы он получил возможность сопоставлять случаи различного отношения к женщине. «Семья наша была дружная, никто в ней не любил делать неудобного для других» (I, 594), «мои батюшка и дядюшка никогда не говорят своим жёнам сколько-нибудь грубого или жёсткого слова» (I, 625) – с одной стороны, и примеры жестокого тиранства, к тому же лицемерно прикрываемого благочестием, праведничеством и благопорядочностью – с другой. И хотя под влиянием Чернышевских-Пыпиных-Голубевых М. И. Архаров перестал тиранить жену, всё же дух иезуитства, фанатизма остался в нём навсегда, «и только Александру Павловну жаль, заел её век» (I, 632).
Деревенская девушка, потерявшая сестру и брошенная на произвол судьбы, честная женщина, полюбившая врача и лишившаяся личного счастья только потому, что была «крепостной девкой», благородная и образованная Александра Павловна Архарова, ставшая жертвой безнаказанных истязательств мужа-изувера – таковы наводившие на размышления своею подавляющей обыденностью факты крепостнической жизни, выводимые из «фантастической» части воспоминаний Чернышевского о детских годах.
Итак, события фантастического, сказочного свойства – и это было особенностью их бытования – корнями уходили в живую действительность, ею объяснялись и сквозь её призму растолковывались.
Далее в автобиографии существенное место отводилось уже описанию фактов «действительной народной жизни». «Всякая история, обещаясь рассказывать жизнь народа, – иронически пишет Чернышевский, – вместо того рассказывает жизнь правителей, чего обещается не делать. Стало быть, и моя история поступит так же» (I, 648).
Приступая к характеристике «верхов» саратовского общества, Чернышевский логично переходил от повествования о жертвах зла к рассказу о носителях зла, осмысленных как родовое, типическое явление. Одним из первых правителей Саратовской губернии был Алексей Давыдович Панчулидзев – «Людовик XIV моей саратовской истории» (I, 651). Светские балы и праздники, кутежи, бесконечные увеселения, которым предавался губернатор и его ближайшее окружение, обнаруживали паразитизм и тунеядство власть имущих. Праздный образ жизни правящей элиты резко контрастировал с трудовой обстановкой, наблюдаемой Чернышевским в семье, и не мог не пробудить критического отношения и оценки. Саратовцы знали об истинных источниках губернаторских доходов, слагающихся из незаконных денежных афер, взяток и обираний простаков. О времени Панчулидзева, начальствовавшего до 1826 г., Чернышевский судил лишь понаслышке. Но он был знаком с людьми, ставшими жертвами губернаторского произвола и по их судьбам мог самостоятельно судить о характере правления саратовского самодержца. С семьей Чернышевских дружила некая Катерина Егоровна, «очень добрая, кроткая, по тогдашнему времени очень образованная женщина». После смерти её отца осталось около 40 тысяч рублей, но по малолетству Катерина Егоровна не могла распорядиться наследством и его принял на себя в долг губернатор. Разумеется, деньги не были возвращены, и бедная женщина осталась ни с чем.
У другого саратовского губернатора сын сделался грабителем и убийцей – «и ничего, Саратов благодушествовал». Сначала убивали ночью, затем распространили свои занятия на время рассвета и сумерек, а потом стали резать людей уже при дневном свете, «особенно хорошо и много резали на площади Нового Собора». «„Нельзя, губернаторский сын”, – говорила полиция. – „Что делать, губернаторский сын”, – говорил город. И благодушествовали <…>. Это было уже в 40-х годах, в губернском городе, на главных улицах и площадях города» (1, 655–656). Чернышевский рассказал и другой памятный ему случай, когда тот же герой однажды вздумал упражняться из окна губернаторского дома в стрельбе из ружья по каблукам туфель прогуливавшихся в соседнем саду женщин, «но не удалось: пуля вошла в землю довольно далеко от пятки, для которой предназначалась, – четверти на две промахнулся» (I, 657). Подвиги не в меру развеселившегося балбеса закончились тем, что отец принёс сына «на алтарь отечества», то есть «написал письмо, в котором говорил, что вот сам доносит о беззакониях своего сына, пусть делают с сыном, что хотят, хоть казнят смертью, он, отец, будет рад. Сына отправили из Саратова на Кавказ». Последняя фраза – лучший сатирический комментарий ко всему эпизоду об удалом разбойничке.
В годы детства Чернышевского произошёл и такой курьез. Однажды старушки из окружения Пелагеи Ивановны обнаружили, что по вечерам на незаселённой Соколовой горе теплится огонёк, и решили: быть скоро в Саратове святым мощам. Через некоторое время окружили дом, в который забрались пограбить какие-то неизвестные люди, и на месте преступления нашли офицерскую шпагу с фамилией владельца. Им оказался Баус, один из четырёх частных приставов города. Как выяснилось, логовом банды, во главе которой стоял блюститель порядка, была небольшая пещера на Соколовой горе. «Смотри-ко что вышло, – говорили мои старушки: – а мы совсем не то полагали на Соколовой-то горе» (I, 660).
Однако преступления должностных лиц, как свидетельствуют документы, зачастую скрывались. Арестованный Ф. Я. Баус после расследования его дела в саратовской уголовной палате и сенате был признан виновным лишь в превышении служебных полномочий, а обвинение в соучастии с грабителями, несмотря на прямые улики, осталось недоказанным.[119]119
Подробнее о Ф. Я. Баусе и его деле см.: Чернов С. Н. Примечания // I. С. 810–811.
[Закрыть]
Среди детских впечатлений о нравах тех, кто имел власть или деньги, память Чернышевского удержала жуткий в своих подробностях рассказ о жестокости помещика Баташова. Узнав от соседа, что крестьяне, бывшие у того на оброке, высказали своё нежелание жить вместе с барином, потому что ожидали от него перемен к худшему («ты нам люб, когда не станешь жить с нами; а хочешь с нами жить, так не люб», – говорили ему мужики), Баташов перекупил у него деревеньку, чтобы «наказать разбойников». «Купил я вас, – сказал он собравшимся на сход крестьянам. – Вы своему прежнему помещику сказали, что он не люб вам, ну, а мне вы не любы», – и он приказал своей дворне вынести из крестьянских домов мужицкие пожитки и уложить на заранее пригнанные телеги. Затем по его распоряжению обложили избы соломой и подожгли, а крестьян насильно развезли по другим принадлежащим их новому владельцу деревням. На следующий день пожарище расчистили, и на образовавшейся поляне Баташов приказал разбить палатку, в которой изволил отобедать вместе с гостями после охоты (XII, 592–595).
Памятным на всю жизнь оказалось для мальчика посещение с одним из своих дальних родственников саратовского купца Корнилова. Дом Корниловых в те годы считался самым большим в городе после трех или четырех казенных зданий – «в два этажа, 18 окон на нашу улицу и 7 окон на Московскую улицу. Угол дома был закруглён и поднят куполом, выкрашенным зелёною краскою, между тем как остальная тоже железная кровля была красная» (I, 693).[120]120
Здание сохранилось в Саратове до наших дней – ул. им. Н. Г. Чернышевского, д. № 186.
[Закрыть] Нарядный фасад скрывал между тем грязное, скупое, гнусное и никчемное существование людей, едва ли не самых богатых в Саратове. Глава семейства Степан Корнилыч ютился в маленькой комнатке и встретил гостей в нанковом халате, засаленном до того, что «только пониже колен можно было рассмотреть зелёные полоски по жёлтому полю, а с колен до самого ворота все сливалось в густой изжелта-чёрный цвет от толстого лака жирной грязи». С гоголевской наблюдательностью описывает Чернышевский, как хозяин, вздумавший угостить пришедших чаем, потными и грязными руками (такие «даже у меня редко бывали после игры в бабки») долго растирал крупинки чая, подостлав давно не стиранное полотенце, в которое только что высморкался, затем получившиеся три щепотки влажного от пропитавшегося пота порошка всыпал в чайницу и, проведя полотенцем по вспотевшему лицу, стал вытирать всё тем же полотенцем чашки. Далее следует сцена избиения подвыпившего хозяина его женой, налетевшей на него, «как ворона на падаль». Старуха била его туго скрученным из большого шейного платка жгутом, не разбирая места; «удары сыпались по затылку, по темени, по вискам», а потом погнала его пинками в чулан и заперла там. На слова Никиты Панфилыча, с которым Николай Чернышевский пришёл в гости к Корниловым, она горько пожаловалась, что уже 60 лет муж жестоко истязает её: «уж я тебе показывала, <…> Смотри, где серьги-то!» В одном ухе серьга была вдета на половине, в другом выше половины, – и точно, ниже не было для них места: нижние половины ушей были в клочках, глубоко изорваны, чуть не до самого корня. Но ходить без серёг зазорно женщине, и потому как муж вырывал серьги с клочком ушей, Прасковья Петровна отыскивала подальше от отрывной каймы и повыше новое место для этого необходимого украшения. На каждом ухе было десятка по полтора следов этих прежних положений». Старуха вымещала на Иване Корнилыче прежние поругания. Однако во всем остальном она была точно такой же, как её муж. Скупость её дошла до такой степени, что ей жалко стало накопленного золота даже для детей, и она тайком зарыла деньги в землю. После её смерти родственники так и не отыскали клада, доставшегося, как гласила саратовская молва, купившему дом лавочнику Сырникову, который вскоре сделался вдруг богатым и удачливым купцом (I, 697–698).
В воспоминаниях Чернышевского о юношеских годах история «общественной жизни Саратова» включала и ряд эпизодов, изображающих народ в его отношениях к властям. Однажды в детстве он наблюдал сцену преследования полицейским и несколькими будочниками большой толпы молодых и крепких мужчин, участвовавших в кулачном бою на Волге. Такие бои запрещались, и один вид представителя власти обратил бойцов в паническое бегство. Отважные, разгоряченные боем люди «вдруг бегут, как зайцы, от нескольких завиденных вдали крикунов, которые не смели бы подойти близко и к одному из них, если б он хоть слегка нахмурил брови и сказал: назад! – не посмели бы, потому что он один сомнёт их всех одним движением руки» (I, 663). Такое поведение противоестественно, нелогично, но у жизни своя логика, по которой, поясняет Чернышевский, волк есть овца, медведи – телята, дуб это хилая липа, свинец есть пух, белое есть чёрное. В те годы Чернышевскому эта алогичность ещё не понятна, он не знает способов её устранения. Юное сознание лишь фиксирует само событие, наводящее на размышление о причинах столь беспрекословного подчинения сильных людей какому-то будочнику-замухрышке.