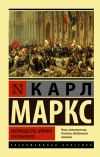Текст книги "Возвышение Бонапарта"

Автор книги: Альберт Вандаль
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
II
С первыми же слухами о стычке в парламенте в городе распространились страх и уныние. Многие укладывались, хотели бежать в окрестности. Вечером Париж был мрачен, улицы – почти пусты; даже в кварталах, обыкновенно самых людных, вокруг Пале-Рояля, сиявшего огнями во мраке, редкие прохожие пробирались вдоль стен, и искателей удовольствий было очень немного.[382]382
“Gazette de France” напечатала диалог между двумя проститутками, бродившими на улице Онорэ. – Одна: “Ах ты… никого не видать; я нынче даже без почина”. Другая: “Еще бы; хотят объявить отечество в опасности; ничего нам с тобой сегодня не заработать”. 28-го фрюктидора.
[Закрыть]
В Люксембурге царило смятение. Баррас принимал воинственные позы и говорил, что он готов умереть, но дорого продаст свою жизнь;[383]383
Brinkman, 828.
[Закрыть] зато Сийэс волновался безмерно. Его тревогу еще удваивала мысль, что нельзя быть вполне уверенным в войске, пока военным министром остается Бернадот. В последнее время, по мере того, как опасность надвигалась грозой, мысль эта все больше и больше мучила Сийэса, лишала его сна и покоя. Зная, что якобинцы кружат около генерала, всячески стараясь привлечь на свою сторону, он боялся со стороны министра какой-нибудь неожиданной выходки. Теперь же, когда разыгрался кризис и анархистские страсти обнаружились во всей своей отвратительной наготе, он не мог допустить, чтобы армия хотя бы минутой долее оставалась во власти этого демагога в шитом камзоле и шляпе с перьями, этого “Катилины”,[384]384
Barras, IV, 10.
[Закрыть] этого, друга смутьянов. Во что бы то ни стало и не теряя ни минуты, нужно было сбросить с утлой правительственной ладьи беспокойное бремя, грозившее потопить ее.
В одиннадцать часов вечера Сийэс взял на себя собрать директоров;[385]385
Cambaceres “Eclaircissements inédits”.
[Закрыть] его коллеги более или менее ясно сознавали необходимость не перечить ему. Вопрос о замене военного министра другим лицом был поставлен на неотложное обсуждение; оставалось найти способ. Дать огласку делу было бы опасно; к тому же Гойе и его неразлучный Мулэн воспротивились бы этому. Нужно было потихоньку устранить Бернадота, хитростью выманить у него портфель, не отнимая его силой. Камбасерэсу, к которому вообще охотно прибегали, как к человеку находчивому и умному, советчику, без всяких прелиминарий предложили взять на себя временное управление военным министерством и самому добиться отставки Бернадота; оба поручения он отклонил.[386]386
Ibid.
[Закрыть]
Но Бернадот был из тех людей, у которых всегда найдешь, к чему придраться, благодаря их невоздержанности в речах. Не раз уже в своих частых и многоречивых беседах с директорами он, казалось, сам давал им оружие в руки, жалуясь на недостаточность имеющихся в его распоряжении средств проявить свое рвение и заводя речь об отставке; к тому же, добавлял он в заключение, и его военная доблесть страдает от того, что он сидит, сложа руки, в то время, как братья его бьются на границе. Баррас утверждает, что он наскоро, т. е., по всей вероятности, на другой же день утром, устроил более решительную сцену, – пригласил Бернадота к себе в кабинет и там сказал ему, что в директории могут выйти раздоры из-за военного министерства, и такому великому патриоту, как он, подобает предупредить их актом самоотречения. Бернадот тотчас же стал в позу, и, рисуясь, патетическим тоном, со слезами в голосе начал уверять, что он не дорожит властью. “Я не жажду быть министром; пусть, кто хочет, упивается этим блаженством”.[387]387
Barras, IV, 13.
[Закрыть] Он предлагает выйти в отставку, делает движение к конторке, как будто ищет перо, чтобы написать прошение, но жест остается втуне, пера не оказывается и, видя, что Баррас, “из деликатности”,[388]388
Ibid.
[Закрыть] не настаивает, министр весьма благоразумно не пишет ничего, полагая, как добрый гасконец, что болтать можно все, что вздумается, – от слова не станется. Очень возможно, что комедия была доведена и до этого; во всяком случае несомненно, что Бернадот на этот раз поплатился за риторику. Сийэс поймал его на слове. Большинством трех голосов – его, Барраса и Дюко – было постановлено отставку принять, а Бернадоту послано красноречивое письмо, в котором говорилось, что “директория уступает выраженному им желанию вернуться на действительную службу”.
На место Бернадота Сийэс, конечно, предпочел бы посадить своего человека, генерала Мареско, но Гойе и Мулен заупрямились. Сошлись на строгом конвенционалисте, Дюбуа-Крансе; его не было в городе, и ему послана была депеша. В то же время директория поручила временное заведование военным министерством генералу Миле-Мюро, предписав ему немедленно же вступить в исполнение своих обязанностей.[389]389
В Приложении к I тому мы поместили протокол заседания директории 28-го, вместе с письмами, тут же на заседании написаными Бернадоту, Дюбуа-Крансе и Миле-Мюро. Национальный архив, A. F. III, 16.
[Закрыть]
Все это произошло 28-го, в момент возобновления заседания совета пятисот, и получило огласку лишь несколько позже. Вернувшись в военное министерство, Бернадот принялся за текущие дела, ничего не сообщив своим начальникам отделений об утреннем разговоре. Когда он узнал, что очутился в отставке,[390]390
Mémoires de madame de Chastenay, 408.
[Закрыть] помимо своей воли, первым побуждением его было, по словам его секретаря Сант-Альбена,[391]391
“Mémoires de Barras” IV, 16–17. Известно, какое участив принимал Сент-Альбен в составлении мемуаров Барраса.
[Закрыть] написать директорам довольно бесцветное письмо с изъявлением полной покорности; в результате ему, без сомнения, рисовался какой-нибудь видный пост в армии, взамен министерского портфеля.[392]392
Генерал Сарразен, товарищ военного министра, в своих “Мемуарах” рассказывает, что Сийэс поручил ему предложить Бернадоту командование рейнской армией. Sarrazin, “Mémoires”, p. 122–123.
[Закрыть] Тот же Сент-Альбен, подстрекнув его самолюбие, убедит его разыграть оскорбленное достоинство, с гордостью отказаться от всяких компенсаций, и уходя, пустить в директорию парфянскую стрелу, язвительное письмо, которое будет предано гласности и потомству.
Письмо директорам гласило: “Вы принимаете отставку, которой я не просил. Не раз я обращал Ваше внимание на тяжкое положение моих собратьев по оружию. Недостаточность средств, предоставленных в распоряжение военного департамента, глубоко огорчала меня; мне хотелось уйти от этого бессилия и, под влиянием этого мучительного, тягостного чувства, я, может быть, и высказывал Вам желание вернуться в армию. В то время, как я готовился представить Вам нравственный и административный отчет о моем управлении до 1-го вандемьера, Вы извещаете меня, что для меня имеется в виду командование отдельной частью, прибавляя, что, до вступления в должность моего преемника, министерством временно будет заведовать гражданин Миле-Мюро. Я должен восстановить факты в интересах истины, которая не в нашей власти, граждане директора; она принадлежит нашим современникам, принадлежит истории”. Письмо заканчивалось прошением об увольнении в отставку с пенсией.
Напрасно Бернадот взывал к грядущим поколениям; он тем не менее очутился за штатом, ибо генерал Миле-Мюро безотлагательно отправился в военное министерство принимать дела. Правда, Гойе и Мулен нанесли Бернадоту торжественный визит с целью выразить свое соболезнование, в полной парадной форме и в сопровождении почетного конвоя; но для того это было плохим утешением. Избавившись от такого неудобного товарища, директорам теперь уже нечего было опасаться предательского нападения с тыла, между тем как их друзья в совете пятисот встречали грудью предвиденные жестокие удары.
Якобинцы, со своей стороны, не теряли времени даром; чтобы оказать давление на совет и принудить его вынести желательное постановление, они сочли долгом организовать большую народную манифестацию вокруг дворца Бурбонов. Подосланные ими эмиссары бегали по предместьям, произнося зажигательные речи, но народ оставался глух к их призыву. Никогда еще он так ясно не показывал своей инертной оппозицией, своим пассивным сопротивлением всяким попыткам увлечь его, до какой степени он стал неспособен к уличной борьбе. Вместо целой армии якобинцам удалось собрать только человек 800–900, но эта банда шумела и горланила так, что было бы впору и тысячам. Рассыпавшись по Площади Согласия, по мосту, по набережным, кучки оборванцев перекрикивались между собой, грозили изрубить в куски упорствующих депутатов, ревели, требуя крови; ужасные мегеры, сопровождавшие их, требовали, чтобы им подали вилы. К счастью, Фушэ и Лефевр, министр полиции и парижский комендант, приняли солидные меры предосторожности; все входы во дворец охранялись военным караулом.
Тем временем в совете пятисот возобновились прения, в атмосфере, насыщенной страстями и ненавистью. После многих речей, произнесенных голосами, в которых, “слышалась еще вчерашняя хрипота”,[393]393
“Gazette de France”, 29 фрюктидора.
[Закрыть] после бесчисленных инцидентов и перерывов, предложено было отвергнуть предложения Журдана, предварительно опросив собрание. Два раза был произведен опрос путем вставания, и собрание, по-видимому, уже готово было принять этот выход, когда недовольные депутаты стали кричать, что результаты опроса сомнительны, и настойчиво требовать поименной переклички.
Как раз в это время распространился слух о перемене в военном министерстве; впечатление было очень сильное. Не прелюдия ли это к знаменитому вооруженному перевороту, который готовила директория с помощью старейшин, ополчившихся на другую палату, скомпрометированную своими членами-якобинцами? Когда факт обманом вызванной отставки Бернадота подтвердился, словно ветер безумия пронесся над собранием; все были уверены, что переворот не заставит себя ждать. Журдан вскакивает на трибуну и начинает обличать пагубные замыслы правительства. Депутаты вторят ему, сообщая подробности, ссылаясь на передвижения войск, рассказывают, будто генерал-комендант Курбвуа объявил, что, в случае надобности, он готов лететь на помощь собранию, и его за это попросили выехать из города в двадцать четыре часа. Все законодатели, якобинцы и умеренные, в том числе и Люсьен, клянутся умереть на своих местах, грозя народной местью святотатцам, которые осмелятся поднять руку на национальное представительство. “Они не имеют права!” – восклицает Ожеро, и этот протест в устах человека, который сделал 18-е фрюктидора, до того забавен, что, несмотря на серьезное положение, вызывает взрыв хохота.
Наконец, приступили к поименному голосованию предложения объявить отечество в опасности. Оно было отклонено большинством двухсот сорока пяти голосов против ста семидесяти двух. Быть может, такому результату не чужда была тревога, поднятая вестью об увольнении Бернадота.
Когда заседание было объявлено закрытым и депутаты стали выходить, толпа, собравшаяся вокруг дворца, яростно хлынула к дверям с криком: “Долой воров!” Пришлось пустить в ход войска, чтобы оттеснить неистовствовавшую толпу и очистить дорогу. Подоспевший генерал Лефевр пытался уладить дело и бранью, и призывами к примирению, но все напрасно. Депутатов провожали свистками, угрозами, проклятьями, на них лезли с кулаками, и, как бы в довершение скандала, депутаты меньшинства братались с этой сворой. Им достаточно было дать узнать себя, чтобы их, верных, добрых, приветствовали радостными кликами. Они шли среди бушевавшей грозы, высоко неся голову, улыбаясь насилию, одобряя его взглядом и жестом, не препятствуя осыпанию своих товарищей оскорблениями, обливанию их помоями, и смаковали эту низкую месть.[394]394
См. газеты за 29-е и 30-е. Об этих сценах напомнил Люсьен Бонапарт в своей речи в ночном заседании 19-го брюмера.
[Закрыть]
Из двухсот сорока пяти иные, не выдержав, отвечали ударом на удар; на площади Согласия Шазаль, из партии умеренных, завязал ссору с якобинцем-агитатором Феликсом Лепеллетье; обменивались всякими любезностями вроде: негодяй, злодей, чудовище.
Между тем, манифестанты рассеялись по городу и старались поднять простонародье, но им не удалось “передать ему тот электрический толчок, который вызывает восстания”.[395]395
“Le Publiciste”, 29 фрюктидора. У Brinkman, 328.
[Закрыть] На площадях, правда, собирались кучками рабочие, выставляя напоказ свою нищету, но они не трогались с места, утомленные, недоверчивые, по очень меткому замечанию одной газеты, они жаловались на всех,[396]396
“Le Surveillant”, 12 фрюктидора.
[Закрыть] смешивая в равном презрении умеренных и террористов, власть и оппозицию, правительство и советы.
В этот день, в общем, все, сами того не подозревая, сыграли в руку Бонапарту. Дирекция устранила Бернадота, единственного генерала, который мог бы, по своему положению министра и своему влиянию на войска, не без шансов на успех, воспротивиться попытке диктатуры. А якобинцы своим бесстыдством дали повод к этому устранению, точно так же, как в термидоре их друзья своим беснованием в Манеже дали предлог удалить Марбо. В борьбе, длившейся уже три месяца между подготовителями государственных переворотов в различных направлениях, в борьбе за две главных позиции – парижское комендантство и военное министерство – верх взяли в конце концов их противники.
Кроме того, якобинцы своими дикими выходками опозорили парламент, который вышел из этого кризиса еще более “презираемым и ненавидимым”,[397]397
Cambacérés. “Eclaircissements inédits”.
[Закрыть] и вызвали удвоение предосторожностей против всех республиканцев яркой окраски. Директория воспользовалась случаем отрешить от должности нескольких членов департамента; остальные ушли сами. Эта администрация, уцелевший в Париже пережиток центральной муниципальной власти, ускользнула от крайней партии, – еще одно препятствие, убранное с дороги будущего консула. Во главе новой администрации поставили Ле-Куте де Кантеле, человека аккуратного и делового. Это он впоследствии поручился Бонапарту за покорность Парижа, прежде чем тот сел на лошадь, Многие чиновники, державшиеся известных определенных взглядов, нашли, что честь запрещает им сохранить за собою свои места, когда товарищи их уволены, и c треском вышли в отставку, заклеймив меры, принятые правительством, именем “прелюдии к государственному перевороту”;[398]398
“Le Publiciste”, 2-й и 3-й дополнительные дни VII года.
[Закрыть] они думали восстановить общественное мнение против интриг и происков Сийэса, а добились только того, что сами себя устранили от власти, ослабили противодействие и уступили поле битвы врагу.
Тем не менее, Директория еще долго держалась настороже. В Люксембурге все входы и выходы охранялись военным караулом, как в крепости; рассказывают, будто гренадеры, стоявшие там на бессменной страже, три дня и три ночи не снимали сапог. Газеты уверяли, будто директора поделили между собой главный штаб, и каждый заставляет свою часть ночевать у себя в квартире; в официальном “Rédacteur” было напечатано опровержение.
Совет пятисот, со своей стороны, все время опасался, что его разгонят силой, и никак не мог прийти в равновесие. Обсуждались меры защиты, говорилось о необходимости назначить начальником стражи какого-нибудь генерала, но тем дело и ограничилось: ни к какому решению прийти не могли и жили в постоянных тревогах. Совету казалось, что над ним постоянно висит Дамоклов меч военной экзекуции, – такое сильное впечатление произвело на него заседание 28 фрюктидора, бывшее как бы предвкушением брюмера.
В действительности, ни законодательной, ни исполнительной власти не грозила неотложная гибель. Якобинцы не могли рассчитывать, что им удастся силой завладеть Люксембургом, так как народ был против них, или, по крайней мере, уже не за них. Большинство директоров точно так же неспособны были учинить переворот, так как у них не было под рукой подходящего человека, чтобы увлечь народ и взять приступом дворец Бурбонов. И тем не менее обе эти группы были пугалом друг для друга; обеих мучил страх, жестокий страх, всегдашний страх, вследствие сознания собственной слабости – сознания, что у них нет твердой почвы под ногами, и что они окончательно уронили себя в общественном мнении. А пока в парламенте шла эта борьба двух бессилий, этот поединок двух теней, народные тяготы разрастались до ужасающих размеров. Наступление якобинцев, казалось, временно было приостановлено, но материальные и экономические результаты его сказывались повсюду. Законы, изданные по настоянию крайних элементов тотчас после 30-го прериаля и впоследствии, в промежутки их господства, – законы касательно имущества и личности подозрительных людей, закон о прогрессивном налоге, закон о заложниках – приносили плоды и, прибавляя лишний гнет к суровым требованиям национальной защиты, терзали страну. Дела повсеместно пришли в расстройство, и Франция была доведена до крайней нищеты.
Прогрессивный стомиллионный налог на богатых прикрыли парадоксальным именем вынужденного или принудительного займа; это был способ обойти конституцию, в принципе стоявшую за пропорциональное обложение. Занятые или вытребованные сто миллионов предполагалось возвратить натурой национальными имуществами; но дело в том, что эти имущества и закладные на них были страшно обесценены, и заимодавцам, помимо воли, приходилось довольствоваться почти прозрачными гарантиями. А потому уже одно оповещение о налоге, хотя еще никто не знал, как он будет распределен, вызвало панику среди всех, кто еще владел во Франции какими-нибудь капиталами. Вместо того, чтобы пускать в ход свои деньги и получать их обратно с прибылью, обладатели их теперь только и думали о том, как бы изъять их из обращения и поскорее припрятать в надежном месте; впечатление было потрясающее; все дела разом стали.
Закон, в принципе решивший вопрос о прогрессивном налоге, был вотирован 10 мессидора, а 12-го в газетах читаем: “Во всех банковских и коммерческих делах полный застой. Звонкая монета стала большой редкостью и что ни день, то становится реже; покупают много луидоров; каждый бережет и копит свои”. 1-го термидора: “На парижской бирже почти никаких дел. Деньги, ничто день, то реже. Золотые в 24 франка покупают с надбавкой в 16–18 су за штуку сверх действительной стоимости; половину векселей протестуют, и векселедатели ничего не предпринимают, чтоб избежать этого”.[399]399
См. “Publiciste” в “Surveillant”.
[Закрыть] Кредит давно уже подорван; государственные фонды все падают, ибо на них совсем нет спроса; в мессидоре и термидоре стоимость консолидированной трети колеблется между 8 ф. 65 с. и 7 ф. 65 с.
Легко было предвидеть, что распределение налога будет основываться на внешних признаках богатства поэтому каждый спешил сжаться, сократить свои расходы; в обществе только и было речи, что о необходимости продать свой кабриолет, карету, отпустить часть мужской прислуги и т. д.[400]400
“Le Surveillant”, 19 мессидора.
[Закрыть] Богатые люди заранее учились надувать казну с помощью разных обходов и уловок; не один перевел свою карету на имя своего кучера путем фиктивной продажи. По мере того, как из прений в совете пятисот выяснялся способ раскладки и сбора налога, причем слагалась целая система преследований, все более и более клонившаяся в сторону насилия, росло и смятение в публике; многие негоцианты и иностранцы запасались паспортами в Гамбург, Испанию и Швейцарию, почти единственные страны, с которыми Франция не вела войну. Из оставшихся все наперерыв кричали о своей бедности и старались представить тому наглядные доказательства, “В наши дни люди состоятельные так же аффектированно прячут свое богатство, как в былое время старались выказывать его и даже преувеличивать… Иные нарочно банкротятся, чтобы вернее доказать свою бедность”;[401]401
“Le Publiciste”, 14 мессидора.
[Закрыть] и эти фиктивные разорения влекли за собою бесконечное множество настоящих. Роскошь, поддерживавшая торговлю и промышленность, кормившая тысячи семейств, была развенчанной царицей; заказы прекратились, и в перспективе предвиделось “к началу зимы несметное количество рабочих без работы”.[402]402
“Le Surveillant”, 9 термидора.
[Закрыть] Владельцы недвижимости, со своей стороны, впали в полное уныние; они чувствовали, что обложения им не миновать, а между тем рыночная цена их имений сильно понизилась, так как на усадьбы и землю трудно было найти покупщика; на всем пространстве республики земля сильно упала в цене. Уже высчитано было, что за сто миллионов, собранных с богачей, Франция в целом поплатится пятьюстами.
Факты говорили красноречиво, но законодатели оставались глухи к предостережениям; их безумию не было удержу. Они с самого начала постановили, что налог будет прогрессивным и добавочным к обложению земли, движимостей и предметов роскоши; при низкой оценке имущество освобождается от налога. Было бы неприлично при сем удобном случае не проявить особенного ожесточения по отношению к экс-дворянам, превратившимся теперь в податное сословие, подлежащее всевозможным обложениям и повинностям (taillable et corvéable é merci); им предстояло платить вдвойне и втройне, смотря по обстоятельствам. Пятьсот, чувствовали, однако, что это податное сословие, которое столько уже давили и выжимали, из которого высосали все соки, многого дать не может, и решили приналечь главным образом на людей, обогатившихся, благодаря революции, на тех, чья роскошь, нажитая хищениями и биржевой игрой, нагло кидалась в глаза на фоне голодающего народа, кто при прежней директории предводительствовал вакханалией луидоров. Эта грубая и наглая денежная аристократия вызывала не меньше возмущения и гнева против себя, чем древняя каста дворян; она стала фокусом всеобщей ненависти, мишенью всех нападений.
Но как наложить на них руку? Имущества, подлежащие обложению, заключались не столько в поместьях и землях, сколько в звонкой монете и процентных; бумагах, хранившихся в портфелях, не проявляя своего существования никакими внешними признаками. Прибавьте к этому, что многие, обвиняемые в том, что они награбили огромные богатства, никогда не жили на широкую ногу; эти спекулянты были в то же время и скопидомами. Под влиянием все возраставшей хищнической алчности, в силу беспощадной логики ложных концепций, очень скоро пришли к идее чисто произвольной таксации, с оценкой наугад, по приблизительным данным, и комиссии расследований, – нечто вроде революционного трибунала для экзекуции крупных капиталистов.
Выработанный на этих основаниях законопроект был представлен советом пятисот старейшинам; негодование в обществе против “визи-готов”, соорудивших этот “шедевр нелепости”,[403]403
“Gazette de France”, 6 термидора.
[Закрыть] было так велико, что старейшины вначале, 11 термидора, отвергли его. Но пятьсот с тупым упорством стояли за свою комиссию. Напрасно ходившие в публике листки и брошюры, принадлежавшие перу компетентных авторов, напоминали им прежние опыты[404]404
В 1793 и IV гг. уже были попытки ввести прогрессивный налог, вызвавшие общее возмущение; в уплату представлялись лишь бумаги, не имеющие ценности.
[Закрыть] и уже достигнутые результаты – бегство капиталов за границу, исчезновение роскоши – якобинцы возражали на это, что деньги скрывают злонамеренно, из преданности контрреволюции, что их сумеют разыскать, извлечь из тайников. К тому же для них это была скорее политическая, чем финансовая мера, способ угодить своим клиентам из простонародья и бабувистам, сбить головы богачам, слишком выделявшимся над общим уровнем, в ожидании, пока можно будет приняться за всех без различия. Умеренные видели опасность, пытались возражать, но склонились перед указанными им требованиями необходимости, перед неотложной потребностью удовлетворить нужды государства и армий; к сожалению, они предоставили якобинцам руководить этим экономическим разрушением. Законопроект, в несколько смягченном виде, был возвращен старейшинам; те, в конце концов, смирились и вотировали его.
По окончательному тексту закона, утвержденному 19-го термидора, прогрессивный налог вначале являлся добавочным к земельной подати, причем котировки ниже трехсот ливров добавочному обложению не подлежали; от трех же сот и до четырех тысяч франков налог возрастал в страшно быстрой прогрессии, так что очень скоро обложение удваивалось. Что касается имуществ, котируемых выше 4000 фр., комиссия имела право взимать с них до трех четвертей ежегодного дохода. Экс-дворян разрешалось по произволу относить в более высокий разряд, чем обусловленный размерами их состояния. Основой для распределения мог служить также налог на движимость. Наконец, комиссия должна была по душе и по совести производить оценку имуществу тех, кто своими предприятиями, поставками или спекуляциями нажил состояние, недостаточно поддающееся обложению на основании податей (contributions).
Последний пункт был особенно ядовитый. На основании его с вышеуказанных разбогатевших дельцов можно было драть, сколько угодно, вплоть до их годового дохода полностью, а отнять у человека весь его годовой доход значило все равно, что тронуть капитал. Докладчик, Пуллэн Гранпрэ, не скрыл от старейшин, что этот закон направлен против скупщиков движимостей и всяких спекулянтов капиталами, что он подорвет их дела и заставит их возвратить неправедно нажитое богатство.[405]405
Он говорил: “Здесь подлежит обложению не доход, который часто мог бы оказаться недостаточным, но капитал”. Заседание 28-го “Publiciste”, 29-го.
[Закрыть]
Оценочные комиссии должны были состоять из представителей местной администрации, с добавлением известного количества граждан, не подлежащих принудительному займу; вопреки всем принципам, неплательщикам предстояло называть тех, кто должен платить. Правда, на несправедливую оценку можно было жаловаться в ревизионную комиссию, но апелляция не приостанавливала действия закона; одну шестую часть налога необходимо было внести в течение десяти дней, другую шестую в течение месяца, остальное самое позднее в восьмимесячный срок. Ст. 13-я нового закона приглашала граждан доставлять необходимые сведения о капиталах, оставшихся неизвестными и не подвергнутых податному обложению. Это значило вызывать доносы, поощрять их и организовывать. Оценочные комиссии превращались, таким образом, в настоящие комитеты частичной конфискации, уполномоченные преследовать законным порядком людей, виновных в том, что они обогатились недозволенными средствами, или просто в том, что они слишком богаты, так как иметь крупное состояние, само по себе, считалось неприличным и соблазнительным.
Наспех сформированные комиссии вели дело кое-как, лишь бы с плеч долой. В наскоро составленные списки попали неизвестные личности и другие, давно объявленные несостоятельными; патриотической данью облагали иной раз даже покойников. Различные департаменты облагались весьма неравномерно, смотря по тому, насколько там была развита мелкая собственность, не подлежащая обложению; так, например, Вогезам предстояло приплачивать тринадцатую часть земельной подати, а Ландам – две трети.[406]406
Sciout, IV, 536.
[Закрыть]
Крупные поставщики, бесстыдные спекулянты, недостойные особенного сочувствия, были не такого сорта люди, чтобы позволить ощипать себя без сопротивления. Они заводили пререкания с комиссиями, сутяжничали, придирались к пустякам; они умели раздробить и скрыть свои капиталы, или же обратить их в процентные бумаги; к тому же, уже в силу того, что они были очень богаты, они располагали тысячей средств повлиять на комиссию, войти с ней в сделку путем подкупа и взяток. Несколько крупных воров попалось; большинство прорвало петли закинутой на них сети и ускользнуло. Это не помешало им воспылать ненавистью к правительству, которое третировало деньги, как что-то подозрительное, как ci-devant, как врага общества. Они клялись при первом же удобном случае перейти в наступление против этого правительства защиты и низвергнуть его. Из тех, кому не удалось войти в сделку с комиссией, иные уже теперь артачились и отказывались платить, бросая вызов фиску: попробуй-ка, дескать, нас изловить. Рассказывали следующий анекдот о спекулянте Колло, по слухам нажившем огромное состояние на поставке мяса в итальянскую армию. С него потребовали непомерно высокую сумму. Он предложил пятьдесят тысяч франков. Департамент не принял. Тогда поставщик объявил: “Не хотите? Ну так ничего не получите. Честь имею кланяться!”.[407]407
“Gazette de France”, 9 фрюктидора.
[Закрыть] Два месяца спустя, этот самый Колло является главным союзником бонапартистов, оплачивающим устроенный ими coup d'état.
Но, кроме поставщиков, имелись еще банкирские фирмы; среди них были солидные и серьезные; имена их глав уже пользовались известным весом и значением в коммерческом мире, как, например, Перрего, Малэ, Севенн, Сабатье, Давилье и др. Еще недавно эти люди наглядно доказали свой патриотизм, назначенный министром финансов Роберт Линдэ не нашел ни копейки в государственной кассе, и деньги ему доводилось видеть только во сне;[408]408
“Письма Роберта Линде” от 25 фрюктидора. Montier, 372.
[Закрыть] он обратился за помощью к парижским банкирам. С похвальным усердием, ободренные уверенностью в том, что новый министр – честный человек, эти капиталисты согласились выпустить изрядное количество облигаций, гарантированных их коллективной подписью, облегчив таким образом операции государственного казначейства, обеспечившие на время содержание половины государственных учреждений.[409]409
“Mémoires de Gohier”, I, 79–80; Stourm, Les Finances du Consulat, 137–139.
[Закрыть] При введении прогрессивного налога комиссия обошлась с ними весьма сурово, тем более, что оказанной министерству финансов помощью они как бы сами выдали себя, обнаружив размеры своего состояния. Такой способ расплачиваться за услуги естественно привел их в негодование. Положим, что кредит и запасные капиталы этих фирм позволяли им без краха выдержать рискованный финансовый эксперимент якобинцев; наиболее известный из них Перрего, первый подал пример добросовестной уплаты налога; но речи банкиров после брюмера доказывают, что рана и к тому времени еще не зажила. На одном собрании у консула Бонапарта банкир Жермэн, от имени целой группы капиталистов, заклеймил “этот несчастный режим, убивший всякое доверие, режим, при котором именно те, кто выдвинулся вперед своей щедростью, подверглись наиболее строгим взысканиям, причем посредством комбинации, столь же неполитичной, сколько и предательской, размеры их предполагаемого состояния исчислялись пропорционально усилиям, приложенным ими ради пользы отечества”.[410]410
Протокол заседания негоциантов и банкиров, созванных на совещание к консулу Бонапарту 3-го фримера VIII года. Национальная библиотека, 43388.
[Закрыть]
В итоге, поддержка капиталистов была отныне обеспечена первому, кто возьмется низвергнуть хищнический режим. Когда Бонапарт вернулся из Египта, капиталисты встретили его, как избавителя, поставщики сразу бросились к нему еще накануне брюмера; а на другой день пришли и более робкие банкиры: вслед за шальными деньгами, деньги осторожные, благоразумные. Банкиры торговались, давали и придерживали, но все же доставили кое-какие фонды и устроили синдикат, с целью помочь Бонапарту стать во главе правления.
Принудительный заем больше терроризировал и ожесточил крупных капиталистов, чем действительно урезал их капиталы. Настоящими жертвами нового закона были люди среднего и малого достатка.[411]411
“Le Surveillant” пишет 15-го вандемьера: “Небольшое количество денег, поступивших в казну от принудительного займа, есть результат, умеренного обложения небольших состояний. Крайне высокая таксировка, так называемых колоссальных состояний, ничего не дала. Искусство обложения заключается не в том, чтобы много брать с небольшого количества крупных капиталистов, но в умеренном обложении всех людей с известным достатком”.
[Закрыть]
На них них обрушился всей своей тяжестью; вдобавок им пришлось испытать на себе его отраженное и весьма жестокое действие и в другом отношении. Крупная промышленность ограничила производство, и купцы могли приобретать товары лишь по чудовищно высокой цене; а так как, с другой стороны, сократилось и потребление, товары эти не находили сбыта; результатом были банкротства; разорявшиеся разоряли своих кредиторов. После 18-го брюмера “Moniteur” констатирует особенное ликование купечества; это понятно, ибо купечество жестоко страдало при умирающей директории.
В тот же период и мелкие фабриканты, изготовлявшие предметы роскоши, или просто удобства, свела на нет свое производство, так как заказы почти прекратились; один мебельщик из предместья Антуан говорил: “Меня освободили от 6 фр. принудительного взноса и заставили потерять 60 франков, распугав моих клиентов”.[412]412
“L'Espiegle” 14-го вандемьера.
[Закрыть] Приказчики, рассчитанные своими хозяевами, очутились на мостовой, вместе с толпами фабричных рабочих, также уволенных с заводов и фабрик, за отсутствием заказов. Бедствие становилось общим; закон думал посадить богачей на диету, а вместо того лишил заработка бедняков.
Все города, где еще уцелели остатки промышленности, все центры производства, казалось, вымерли. В Лилле оставшиеся без куска хлеба рабочие требовали, чтоб их взяли в солдаты и отправили за границу.[413]413
“Publiciste” 15-го термидора.
[Закрыть] В Труа (Tryes) расклеена была на заборах афиша с протестом против принудительного займа.[414]414
Военный архив, общая переписка, 19-го термидора.
[Закрыть] В Лионе, городе большой инициативы и практического чутья, наблюдается в высшей степени замечательное явление: рабочий приходит на помощь капиталу для того, чтобы этот последний мог по-прежнему пользоваться его рабочей силой и давать ему заработок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.