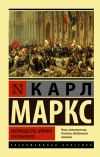Текст книги "Возвышение Бонапарта"

Автор книги: Альберт Вандаль
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
IV
По выходе из залы к Бонапарту снова вернулось прежнее спокойствие, неподдельное или напускное. Он поручил Бурьенну отправить нарочного к Жозефине, чтобы сказать ей, что все идет хорошо, и углубился в лабиринт коридоров, разделявший помещения обоих собраний. На одной из внутренних винтовых лестниц его нагнал Арно, посланный Талейраном, который соскучился ждать. “Терпение, отвечал Бонапарт, все устроится”. И он решительно свернул в увешанный коврами коридор, ведший в Оранжерею, в зал пятисот.
Что ему понадобилось в этом собрании, которое он только что так тяжко оскорблял? Как он сам впоследствии признавался, он хотел привести свою недавнюю беседу с Журданом, говорившим от имени целой партии, показав таким образом, что и наиболее выдающиеся якобинцы сами отрекаются от конституции, как от орудия, негодного более к употреблению. Это был способ поселить раздор между своими противниками, вызвать между ними конфликт, раскол и через брешь открыть доступ усилиям своих друзей. Он несомненно рассчитывал и на другое: привести собрание в бессильную ярость, раззадорить его до бешенства криков и споров, которые дадут право принять против него крутые меры, выкажут его в глазах старейшин элементом обструкции и вопиющего беспорядка, который лучше держать поодаль, а в случае чего и вовсе устранить. Его появление, конечно, вызовет кризис, взрыв – тем лучше: этот кризис может очистить воздух, облегчить и ускорить развязку.
Он, конечно, ждал борьбы, насилия, возмущений и позаботился взять с собой, кроме своих офицеров, несколько преданных ему гренадеров. Как он рассказывает, двое из солдат предостерегли его: “Вы не знаете их (депутатов): они на все способны”. Но ему ли, не дрожавшему перед лицом грозных вражеских армий, ему ли испугаться горланов-адвокатов? Не раз в течение своей карьеры героя он ставил крупную ставку, не раз он бывал в опасности и всегда редкая находчивость, вовремя импровизированный маневр прорывал ряды противника, или же приводил его в замешательство, пролагая путь победе. Он думал, что и теперь будет то же. – “Ожеро, – сказал он своему товарищу битв, – вспомни Арколу!” Он думал, что наступил момент, как на Аркольском мосту, когда вождь должен броситься вперед и схватить знамя, или, вернее, самому стать знаменем и символом объединения. Повинуясь своему боевому темпераменту, своему инстинкту нападения, он кинулся на препятствие, не столько в надежде сразу сбросить его с дороги, сколько встряхнуть его и расколоть на части.
Он все предвидел, кроме немедленного нападения, изгнания при помощи грубой силы – а между тем, это-то и случилось. Собрание все время пребывало в состоянии крайнего возбуждения; многие депутаты стояли, по временам меняя места и загораживая проходы. Было прочитано письмо Барраса; речь шла о том, чтобы заменить его немедленно, составить список кандидатов, восстановить директорскую власть, выпустить прокламацию к французам. Бигонне поддерживал предложение Гранмэзона относительно запроса старейшинам; сам Гранмэзон только что снова взошел на трибуну. Люсьен несмотря на все не отчаивался еще погасить этот пыл и привести большинство к какому-нибудь компромиссу. Тем временем по соседству раздался стук оружия; это часовые на посту, отдавали честь Бонапарту и его свите, вступавшим в коридор, который заменял переднюю.
В этом узком коридоре теснота и давка были такие, что генерал и его спутники еле подвигались вперед. Наконец они дошли до двери и вступили в залу. Многие депутаты не сразу заметили Бонапарта, который, оставив у порога свиту, один, без всякого прикрытия, пробирался между группами к трибуне. Внезапно у трибуны поднялся страшный шум, грозные крики: “Долой диктатора! Долой тирана! Вне закона! И чуть не все собрание вскочило на ноги в негодовании на этого человека в высоких сапогах со шпорами и военном мундире, который ворвался в его помещение и в котором оно признало Цезаря”.
У трибуны, как водится, выстроилось несколько дюжин якобинцев, как бы держа ее в блокаде. Это были те самые молодцы, которые в заседании 27 фрюктидора кинулись с кулаками на депутатов противной партии; они тотчас набросились и на генерала, чтобы вытолкать его вон из залы. Со всех концов уже неслись другие, перепрыгивая через скамьи; Бонапарта окружили, стиснули; несколько человек зараз свирепо трясли его за воротник. Под напором их тел, от прикосновения грубых рук, от близости их уст, извергавших брань и дышавших ему в лицо лихорадочно жарким дыханием, тщедушный маленький Цезарь, нервный, впечатлительный, всегда брезгливо чуравшийся непосредственного соприкосновения с толпой, почувствовал приступ физической слабости. У него стеснило дыхание, помутилось в глазах; он видел все, как в тумане. Потом он мог припомнить только, что какой-то высокий депутат страшно напирал на него грудью и всем своим огромным телом. Он заявил, однако, что это был не Арена, официально обвиненный в покушении на убийство Бонапарта.
При виде своего генерала в опасности, солдаты, оставшиеся у дверей, пробились на середину зала, и с ними офицеры, Мюрат, Лефевр, Гарданн, Альбонский кригс-комиссар пустили в ход кулаки. Зрители на трибунах, испуганные, кинулись к выходу; в дверях образовалась давка. Приютившиеся в оконных нишах через окна повыскакивали в сад. Посторонняя публика обоего пола, перелезши через перила своей трибуны, попала в самую давку. Свалка становится общей, шум невообразимый. Толчки, пинки, разорванное платье, нестройные крики. Какая-то женщина взвизгнула: “Да здравствует Бонапарт!” – и крик ее тотчас подхватили народные группы. Депутаты с солдатами сцепились врукопашную; один депутат запутался ногами в складках ковра и во весь рост свалился на пол: гренадеру Томе сверху донизу разорвали рукав мундира. Бонапарт остается добычей великана депутата Дестрема, который кричит ему в лицо: “Разве для этого ты побеждал?” И рука якобинца тяжело опускается на его плечо, а “шлепок Дестрема стоит удара кулака всякого другого”. То не была трагическая и ужасная сцена, впоследствии изображенная легендой и популяризированная в известной гравюре: победитель Италии и Египта, окруженный убийцами в тогах, занесшими над ним кинжалы; то была схватка врукопашную, сцена низкого и дикого зверства.
Солдаты наконец вырвали Бонапарта из рук озверевших якобинцев и прикрыли его собой, своими телами. Один офицер маневрирует, направляясь к двери. Четверо гренадеров, пятясь задом, прикрывают их отступление, между тем как колосс Дестрем нещадно дубасит их вместо генерала. Наконец, Бонапарта вытащили из залы; он выходит поддерживаемый двумя гренадерами, страшно бледный, с искаженным лицом, с свесившейся на плечо головой, задыхающийся, полумертвый.
Выход плачевный. “Вне закона! вне закона!” – кричат ему вслед несколько сот голосов. Вне закона! убийственный декрет изгнания, некогда ускоривший падение Робеспьера; отголосок времен, когда слова убивали, анафема, еще не вполне утратившая свою силу; брошенная Бонапарту целым собранием, она может создать вокруг отверженного пустоту, отрешенность, ужас, восстановить против него часть войск. Якобинцы, по обыкновению, хотят угрозами добиться такого постановления; не дав опомниться собранию, они уже отхлынули к президентской эстраде, взбегают по ступеням и, стуча по бюро, грозя кулаками, наступают на президента Люсьена, требуя, чтобы он поставил предложение на голосование.
Люсьен, не снимая шляпы, с поразительным хладнокровием, с большим достоинством защищается от этого натиска; чудом ему удается сдержать нападающих и даже очистить позицию; шум стих, его готовы слушать.
Он начинает говорить. Его речь сдержанна и ловка. Волнение, только что имевшее место в совете – показатель того, что на душе у каждого, что на душе и у меня. Было, однако, естественно подумать, что поступок генерала не имел иной цели, кроме желания дать отчет о положении дел или о чем-нибудь, затрагивающем общественные интересы”.– Один из членов: “Сегодня слава Бонапарта потускнела, и по его вине – стыдно!” – Другой: “Бонапарт держал себя, как король!” Снова шум; наперерыв сыплются предложения; обычные корифеи якобинства, Бертран кальвадосский, Брио, Тало, Гранмэзон требуют слова. Собрание готово их выслушать. Люсьен ждет всякого неистовства, но его это не страшит, он человек изворотливый. Он говорил как президент; теперь он имеет право говорить как депутат; уступив свое кресло бывшему президенту, Шазалю, он спускается с эстрады, чтобы взойти на трибуну. Она уже занята якобинцами, слово принадлежит им по праву первенства, но он, все-таки, завладевает правой стороной трибуны и несмотря на постоянные толчки, с целью выбить его из позиции, не покидает своего места, ждет очереди.
Да и собрание присмирело; уже возобновление чего-то вроде правильных прений есть шаг назад. Дело в том, что как только улегся первый порыв негодования, в глубине души всех этих людей вновь просыпается страх. Они чувствуют, что окружены со всех сторон враждебными войсками, что выход загораживают штыки; и страх вооруженного coup d'état, преследующий их уже пять месяцев, сильнее прежнего теснил грудь. Прежде чем нанести удар, они хотели бы сами себя обеспечить, утвердить и упрочить свою законную власть над частью войск, над их гвардией, и бурно пререкаются о подготовительных мерах, хотя это не более, как полумеры.
Диньефф требует, чтобы совет прежде всего занял оборонительную позицию и указывает места, подлежащие его ведению и надзору; слышны дружные крики: “Да, да, поддержать!” Бертран кальвадосский выясняет правовую точку зрения: “Когда совет старейшин велел перенести в эту коммуну законодательный кopпус, он имел на то право, предоставленное ему конституцией; но, назначая главнокомандующего, он присвоил себе право, ему не предоставленное. Я требую, чтобы вы начали с постановления, что генерал Бонапарт не начальник гренадеров, составляющих вашу гвардию”.
– “Поддержать, поддержать!” “Это значит подать сигнал к бою”, – возражает кто-то из робких. Но Тало не допускает сомнений в лояльности какой бы то ни было из воинских частей; в случае надобности он берется урезонить солдат. Он служил в национальной гвардии и потому считает себя старым рубакой и солдатом по ремеслу. Поговорить с товарищами по оружию, тронуть сердца этих храбрецов – это уж предоставьте ему, это его дело. И он произносит речь, обращенную не столько к депутатам, сколько к солдатам на постах у входов.
“Я не боюсь солдат, окружающих нас; они сражались за свободу: это наши родные, наши сыновья, братья, друзья. Мы сами служили в их рядах, и я тоже носил ружье и лядунку.[650]650
ladunek (польск.) – сумка для патронов у кавалеристов
[Закрыть] Я не могу бояться республиканского солдата, родители которого подавали за меня голоса и почтили меня своим выбором в число национальных представителей, но я заявляю, что вчера конституция была жестоко оскорблена… Вы должны вернуться в Париж; ступайте туда в своей парламентской одежде, и вас примут под свое покровительство граждане и солдаты, и по их отношению к вам вы убедитесь, что они защитники отечества. Я требую, чтобы вы немедленно постановили, что войска, находящиеся в данный момент в здешней коммуне, входят в состав вашей гвардии. Я требую, чтобы совету старейшин послано было приглашение издать декрет, возвращающий нас в Париж”.
Множество депутатов поддерживают это предложение. Гранмэзон, Дестрем, Блэн (Blin) настаивают. Друзья Бонапарта успели, однако, несколько оправиться. Крошэн возражает, стараясь выиграть время; Люсьен, все еще на трибуне, отстаивает свое право говорить. Но попытка обструкции слишком очевидна; раздаются протестующие голоса: “Нас водят за нос, заставляют попусту тратить время!” С грубой фамильярностью революционеров кричат президенту Шазалю: “Что же ты, президент? Действуй, ставь предложения на голосование!”
Проголосовали, но шум и беспорядок таковы, что трудно разобрать, принято ли предложение. Желание объявить несостоявшимся назначение Бонапарта, показаться войскам, вернуться в Париж владеет всеми умами; но собрание слишком растерялось, чтобы привести его в исполнение. Говорят, что нужно выйти всем сразу, и никто не решается; собрание беснуется и бесполезно топчется на месте.
Бонапарт вернулся в свой кабинет на первом этаже. Его окружили Сийэс, Дюко, генералы, верные люди, союзники. Рассказывают, что вначале речь его была бессвязна, что он едва узнавал окружающих. Сийэсу он будто бы сказал: “Генерал, они хотят объявить меня все закона”.– “Они сами себя поставили вне закона”,– отвечал ему экс-аббат.
Физическая слабость скоро прошла, и Бонапарт снова вернулся к мысли, которая, по-видимому, и привела его в совет пятисот: надо воспользоваться смятеньем и шумом, – на которые он, конечно, и рассчитывал, но которые превзошли все его ожидания, – чтобы получить новые полномочия, карательную власть над собранием и тогда изгнать его. Но воля, нервы, после жестокого потрясения, не сразу вернулись к норме; обычный апломб и самообладание изменили ему. Он действовал вначале импульсивно, скачками, то колеблясь, то неистовствуя, то медля, то отдаваясь безрасчетному порыву.
Вокруг него все были за энергические меры. Раз в парламенте не выгорело, значит надо моментально повернуть дело иначе, поднять его шпагой, прибегнуть к силе. Мюрат и Леклерк, будущие зятья, весь этот день неразлучные и действовавшие заодно, главные инициаторы военного вмешательства, просят довериться войскам. Сийэс настойчиво повторяет, что пора перейти к решительным мерам и рубануть сплеча. Бонапарт сгорает желанием стереть с лица земли совет пятисот, но можно ли ударить так сразу, без подготовки, перейти к явной и открытой нелегальности? Можно ли вполне положиться на все войска?
Внизу кричат, волнуются гренадеры. Покушение на главнокомандующего, по-видимому, сильно взволновало их. И все же, принимая в расчет происхождение и смешанный состав этого войска, осмелится ли оно поднять руку на одного из собраний, вверенных его защите? Привычка к дисциплине, привычка повиноваться команде, слава Бонапарта, – достаточно ли будет всего этого, чтобы подвинуть их всех на бой с народными представителями, бунтующими, крича: “Да здравствует республика!” Между ними может обнаружиться раскол, колебание, сопротивление. А, если они выкажут нерешительность, придется чего доброго пустить в ход армию, как 18-го фрюктидора, и в крайнем случае перешагнуть через них, рискуя жестоким конфликтом. Но предъявите им указ другого совета, декрет старейшин, воплощающих в себе “национальную мудрость”, пусть этот декрет облечет Бонапарта гражданской властью, полномочиями правителя, и они не станут смотреть, правильно ли составлен этот указ, имеет ли он конституционную силу; они еще раз поддадутся обаянию слов, иллюзии формул и обрушатся на упорствующих. Нужен только обрывок законности, чтобы пристегнуть к нему употребление силы.
Представитель Фарг берется убедить своих товарищей старейшин в необходимости такого постановления, изобразив им в ужасном виде сцену в оранжерее. Бонапарт и другие ждут его возвращения в центральном салоне, выходящем окнами на двор, как раз над главным входом. Вести из совета пятисот кажутся более тревожными, чем они есть в действительности, Дюкенуа и Монрон, присланные Талейраном, уверяют, что “Вне закона” уже дело решенное. Бонапарт угрюмо обнажает шпагу, подходит к открытому окну и кричит: “К оружию! к оружию!” – крик несется дальше, во все концы, повторяется всюду. Гренадеры внизу подтянулись, встали в ряды; публика около них мечется в страхе. Но за двором на мостовой, на террасе, выстроились драгуны Себастиани, деташементы армейских полков; стройные ряды их тянутся до самого горизонта; и среди общего смятения, среди немолчного гула и шума, наполняющих замок, эти эскадроны в высоких касках, эти длинные ряды пехотинцев, ровные линии ног в штиблетах, синих мундирах с красными отворотами и алых султанах вносят впечатление порядка и силы.
Бонапарт снова спускается вместе со своим штабом – показаться войскам и поговорить с ними. Его окружают. – “Что прикажете?” – “Моего коня”. Но подведенный ему адмиральский конь артачится; кидается в сторону, подымается на дыбы. На него трудно сесть, трудно удержаться в седле, еще трудней сохранить твердую и внушительную посадку: и этот эффект испорчен, совладав, наконец, с злополучным конем, Бонапарт въезжает в ряды гренадеров – “Солдаты, могу я положиться на вас?” Гренадеры в смущении. Сийэс глядит в окно, и ему кажется, будто ряды их как-то подозрительно всколыхнулись, точно вот-вот окружат Бонапарта и накинутся на него.
Он посылает предостеречь генерала. Тот, не останавливаясь, едет все дальше, вот уже выехал с парадного двора, вот поскакал на террасу, к драгунам и пехоте, к этим душою преданным ему войскам, словно ища у них защиты и силы. Его встречает буря приветственных кликов; он дает знак замолчать и, обращаясь к офицерам, к солдатам, разражается потоком яростных слов.
А так как он действительно раздражен до бешенства, то беспощадно клевещет на совет пятисот и взводит на него небывалые обвинения. Прежде чем двинуть на них войско, он осыпает их оскорблениями и клеветой: это негодяи, изменники, пособники иноземца, они подкуплены Англией. “Я шел научить их, как спасти республику, а они хотели убить меня”. Обвинение ложно, ибо в совете пятисот его только помяли и прижали так, что он едва не задохся. Даже допуская, что некоторые из депутатов имели при себе оружие, очевидно, они не хотели убить его, ибо сделали бы это, если бы хотели: несколько минут он был совершенно в их власти. Не беда! Не худо облагородить случившееся, придав ему трагический оттенок.
Бонапарт, видимо, вне себя. Он носится в галопе перед войсками, то круто поворачивая, то останавливаясь, с трудом справляясь с своей лошадью, и все кричит, что его хотели убить. Вид его ужасен. От разных болезней, которыми он страдал, лицо у него вообще воспаленное, красное, усеяно прыщами; а тут, в эти только что пережитые им минуты смертельной душевной тревоги, он еще расцарапал его ногтями, так что на коже выступила кровь. Это подтверждает уже выдуманную кем-то басню о кинжалах, и слух, что Бонапарт ранен в лицо, несется во все концы, все дальше, дальше, доходит до Парижа.
Генералы, главный штаб, окружили вождя и повторяли его слова, прибавляя еще от себя. Мюрат не отставал от него ни на шаг, следя за тем, чтобы он не удалялся от главного места действия. Леклерк был вездесущ. Серюрье, командовавший на въездном дворе, повторял пароль: “Старейшины примкнули к Бонапарту, пятьсот хотели убить его”,– и, обходя ряды, рассказывал ужасные вещи. Потом, видя, что солдаты достаточно наэлектризованы и недалеко до взрыва, он, как старый хитрец-начальник, заботливо прибавлял: “Не трогайтесь с места, ждите приказа”,– зная, что иной раз, чтобы подбавить усердия людям, нужно делать вид, будто их сдерживаешь.
– “Солдаты, могу ли я рассчитывать на вас?” – повторял Бонапарт. И крики: “Да! да!” – дружными залпами вырывались из солдатских грудей. Возмущенные солдаты топали ногами от ярости, судорожно сжимали оружие; их обычная ненависть к “адвокатам” еще обострилась; раздавалась неистовая брань, проклятия по адресу депутатов-убийц. “Сейчас мы их образумим, – сказал Бонапарт. Он только вернулся на парадный, внутренний двор и там снова начал говорить. Каждая фраза его, почти каждое слово вызывало крики негодования у офицеров и гренадеров армии. Но гренадеры законодательного корпуса, составлявшие главную силу на этом дворе, все еще колебались, прикованные к месту сомнением и тревогой.
И как же было им не смутиться, когда высшее начальство обращалось к ним с самыми противоположными требованиями? Но следует представлять себе сцену разделенной надвое – впереди, т. е. у ворот замка, неподвижная гвардия; позади в оранжерее ревущее и беснующееся взаперти собрание. Между оранжереей и двором все же было сообщение; пятьсот делали все, чтобы заявить о себе из залы, где их хотели замуровать, подать голос, войти в соприкосновение со своей гвардией. По выходе генерала, несколько гренадеров осталось в зале. К ним гурьбой кинулись депутаты, уговаривали их, стыдили, силились привлечь на свою сторону. Речь Тало не пропала даром; отголоски ее проникли и за двери; вскоре за тем явился один гвардейский офицер предложить свои услуги совету, полагая, что его часть заодно с ним. Депутаты выходили из залы, пытались проникнуть во двор; другие высовывались из окон, жестикулировали, размахивали руками, силились подстрекнуть к бунту своих приверженцев. В саду, во внутренних коридорах, теперь для всех доступных, во дворе перекрикивались, переругивались, толкали друг друга группы разномыслящих. Гренадеров окружала толпа, в которой были свои приливы и отливы.
В этом беспорядочном метании проходили минуты, четверти часа, получасы. Уже недалеко до пяти; день быстро гаснет. В комнатах совсем стемнело. Над цветником поднимается ноябрьский туман, ползет по стволам обнаженных деревьев, заволакивает дали. Еще несколько минут, и неверный свет догорающего дня сменится тьмою.
Все чувствуют, что дальше тянуть нельзя. Из друзей Бонапарта трусы, колеблющиеся давно сбежали; храбрые, решительные, те, кто чувствует себя бесповоротно скомпрометированными, сомкнулись плотнее вокруг вождя. Лавалетт, стоявший на крыльце среди толпы народа, уверяет, будто узнал в одной из групп Талейрана, покинувшего свою обсерваторию, с его бледным, но мужественным лицом смелого игрока. Сам Лавалетт сознается, что если бы в эту минуту перед гвардией предстал энергичный, отважный вождь-диссидент, невозможно предугадать, какой бы оборот приняло дело. Но Журдан бродил в нерешимости, то входя в залу, то прогуливаясь вдоль решетки, опираясь на руку адъютанта. Ожеро, несмотря на свой задорный вид, не находил в себе обычной дерзости. К крыльцу тем временем подъехал Бонапарт, окруженный офицерами; его искаженное, налитое кровью лицо плохо скрывало бурю, кипевшую в его душе.
Фарг не принес ему декрета старейшин. Фарг нашел своих коллег в полном сборе; они словно приросли к своим стульям, испуганные криками, беготней в нижнем этаже и шумом внизу. Он патетически изобразил им картину покушения и поверг их в ужас своим рассказом, но не вдохнул в них решимости. Наконец, объявив заседание закрытым, они вынесли самое что ни на есть парламентское и практически ничего не стоящее решение: вместо правительства, учредили комиссию. Этой комиссии из пяти человек поручено составить доклад и предложить соответствующие меры. Это было все равно, что ничего – возобновление бесплодных дебатов, и только. Становится все очевиднее, что старейшины сами по себе ничего не сделают; от них требуют импульса, а они ждут его извне.
В совете пятисот положение опять обострилось. Якобинские вожаки знают, что гвардия под ружьем, но однако не трогается с места, и становятся отважнее в своей ярости. Люсьен, однако, наконец, добился слова. “Я должен заметить, что здесь подозрения возникают с большой быстротой и с малым основанием. Неужели один шаг, хотя бы и неправильный, уже заставил забыть столько услуг, оказанных свободе?” – “Их не забудут”, – отвечают несколько голосов. – Люсьен: “Я требую, чтобы прежде чем предпринять что-нибудь, вы вернули сюда генерала. – Мы не признаем его! – Когда в этой палате восстановится спокойствие и необычайное, неприличное возбуждение, проявившееся здесь, уляжется, вы воздадите должное, кому оно подобает по праву”.—“К делу! к делу!” – ревут якобинцы, яростно требуя объявления Бонапарта вне закона. Парламентские драчуны вновь принялись за дело. Один из них завел ссору с Булэ у самой трибуны и тычет ему кулаками в лицо. Поминутно прерываемая речь Люсьена теряется среди возрастающего шума.
Потеряв надежду заставить себя слушать, Люсьен прибегает к жестам, к мимике, разыгрывает целую сцену. Он быстро сбрасывает с себя тогу, швыряет ее на пол трибуны, за нею ток и шарф с золотой бахромой, и, придав необычайную звучность своему от природы немного глухому голосу, кричит: “я должен отказаться от надежды быть выслушанным, а так как меня не хотят слушать, я слагаю с себя на трибуну, в знак прискорбия, знаки народной магистратуры”. На минуту собрание ошеломлено этим театральным эффектом. Несколько человек бросаются к Люсьену, уговаривают его снова вернуться на президентское место. Другие, желая во что бы то ни стало предотвратить роковую развязку, наоборот, кричат: “Над свободой учинено насилие; совета не существует более; президент, закрывайте заседание!” Но голоса якобинцев преобладают, дают тон, и нестройные крики и ругань тонут в оглушительном, все разрастающемся: “Вне закона!”
Уже несколько минут Люсьен надеялся только на вмешательство извне. Разглядев в толпе депутатов, топтавшихся около трибуны, человека надежного, инспектора залы, генерала Фрежевилля, он наклонился к нему и прошептал, поручая передать это брату: “Надо прервать заседание; еще десять минут, и я уже ни зa что не отвечаю!”
Фрежевилль выскользнул вон из зала и выполнил поручение. Неужели нужен был этот сигнал бедствия, чтобы Бонапарта осенило, наконец, вдохновение, чтобы в мозгу его родилась блестящая мысль? Как бы то ни было, генерал наконец придумал, что нужно сделать. Он понял, какое впечатление он может произвести на гренадеров, если ему удастся вытащить Люсьена из печи огненной, заручившись авторитетом президента, законного главы совета пятисот. Надо похитить Люсьена. Задумано, сказано, сделано!
Одни гренадерский капитан получает приказ, взяв с собою десять человек, войти в залу. Он входит с громким криком: “Да здравствует республика!” Крик этот отраден собранию: без сомнения, это армия пришла отдать себя в распоряжение закона; на время страсти улеглись. Капитан без труда доходит до трибуны; за ним вооруженные гренадеры; он одним прыжком очутился на верхней ступеньке, сказал что-то глядящему на него сверху экс-президенту Шазалю, затем повернулся к Люсьену, все еще цепляющемуся за перила, и пригласил его следовать за собою. Люсьен, изнемогающий от усталости, не двигается с места, как будто не понимает, в чем дело; офицер настаивает; Люсьен не противится. Тогда офицер, став сзади него, берет его под руки, насильно поднимает и ставит на землю у подножия трибуны посреди гренадеров. Те тащат президента вон из залы и ведут его через весь замок на двор, к брату.
Собрание смущено, поставлено в тупик этим исчезновением. Вбежавший с улицы депутат твердит о неминучей опасности; он слышал, как ударили сбор, видел, как засуетились солдаты. Действительно, около Бонапарта энергически стягивают войска; на первом дворе Серюрье с обнаженной шпагой в руке разжигает солдат; драгуны, пехота на террасе двинулись, словно готовые ворваться во двор; на парадном дворе вокруг все уже грозно зашевелилось, как вдруг там показывается Люсьен в центре кучки гренадеров. Его встречают оглушительным криком.
Люсьен рядом с братом; президент и генерал заодно – это верный путь к развязке; это перемещение центра законности в глазах всей гвардии. Если Люсьен обратится к ним за содействием, они подумают, что это совет пятисот говорит с ними в лице своего авторитетного представителя, что это он заклинает их прийти ему на помощь против кучки бунтовщиков, которые притесняют его, тиранят, держат его в страхе своими кинжалами. Охранять свободу и безопасность прений, – это входит в состав их обязанностей; очистить собрание – это дело обычное, согласное со всеми традициями, со всеми прецедентами, дозволенное революционным уставом. Властно прервать заседание и на время очистить залу, чтобы добрые могли отделиться от злых и затем спокойно возобновить обсуждение, – в глазах солдат это будет не столько посягательство на конституцию, сколько парламентско-политическая мера с целью освободить собрание, а никак не распустить его.
Для того чтобы задумать и взвесить все это, понадобилось меньше времени, чем для того, чтобы написать эти строки. На воздухе Люсьен тотчас оправился; для того, чтобы сыграть навязанную ему или им самим на себя взятую роль, он обрел в себе все свои таланты и силы и был в ней поистине необычаен и прекрасен. Он потребовал драгунскую лошадь, вскочил на нее и, вместе с братом подскакав к гренадерам, крикнул что есть духу: “Президент совета пятисот заявляет вам, что огромное большинство совета в данный момент держит в страхе несколько представителей, со стилетами осаждающих трибуну, угрожая смертью своим товарищам и добиваясь этим путем ужасающих постановлений. Заявляю вам, что эти дерзкие разбойники, без сомнения, подкупленные Англией, взбунтовались против совета старейшин и осмелились предложить объявить вне закона генерала, которому поручено выполнение их декрета. Заявляю вам, что эта кучка разъяренных безумцев сама себя поставила вне закона своими покушениями на свободу совета… Возлагаю на воинов заботу избавить от них большинство. Генералы и вы, солдаты, и вы все, граждане, вы будете признавать французскими законодателями только тех, кто соберется вокруг меня. Тех же, кто упорно будет сидеть в оранжерее – гоните оттуда силой!.. Эти разбойники уже не представители народа, а представители кинжала”.
Представители кинжала, чудесное заглавие для мелодрамы, способное разжечь самое тусклое воображение! Люсьен указывает на лицо брата, как будто израненное, на запекшуюся на нем кровь. И наконец находит убедительный жест, неотразимую пантомиму. Он велит подать себе обнаженную шпагу, приставляет острие ее к груди Бонапарта и в этой трагической позе, с интонациями a la Тальма, клянется, что своей рукой убьет своего брата, если тот когда-либо посягнет на свободу французов.
Гвардия потрясена, сомнения ее рассеялись. А сзади бешено напирает 77-й полк и драгуны, а рядом трепещут и рвутся в бой армейские гренадеры; движение захватило их, они сами рвутся вперед. Наконец! Бонапарт может отдать приказ; приказ отдан; офицеры заносят сабли, дают знак барабанщикам. Те бьют атаку; с боков, сзади, посыпалась барабанная дробь, скорая, частая, рассыпчатая, зловещий увлекательный ритм, зовущий на приступ. Мюрат построил гренадеров в колонну и велит им идти за собой. В надвигающихся сумерках ряды тронулись, прибавили шагу; толпа в испуге шарахнулась в сторону, но в ней слышны голоса: “Браво! долой якобинцев! долой 93-й! это переход Рубикона!” Ужас, внушаемый политиками-революционерами, желание поскорее покончить с этими позорными тиранами заставляют приветствовать цезаря-избавителя. Предводительствуемые офицерами всех родов оружия гренадеры взбираются на крыльцо, вступают на первый этаж и направляются к входу в оранжерею.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.