Текст книги "Музей революции"
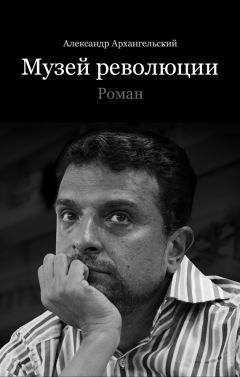
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Четверть часа, тридцать минут, сорок пять. Келейница ввинтилась в биографию учителя, как буром углубляются в породу; во все стороны летели революция, оттепель, детство, Киев, Арзамас, Сибирь, пятидесятые, семидесятые, тридцатые. Не заботясь об удобстве собеседника, она неслась на полной скорости, переходила на язык намеков, обрывала сама себя и перескакивала через темы.
Павел слушал этот стрекот, слушал – и как будто выключился из розетки. Слова его особенно не задевали, барабанили, как дождь по крыше: постриг… обновленцы… голод… карета скорой помощи… Все это вроде было интересно, еще бы разлепить события, выстроить их по порядку, и вовсе станет хорошо; однако у него перед глазами сейчас стоял не дядя Коля с его размашистой биографией, а та женщина, которую Павел не видел, и даже имени ее пока не знает. Она просыпается, тянется, включает свой мобильник, видит эсэмэс и мило морщит лоб – он у нее наверняка покатый, кожа тонкая. Это что ж такое? Номер перепутали? Ответить? Стереть? Павел чувствовал какой-то сладкий страх, последний раз такое чувство было в ранней юности, когда, решившись наконец-то шепнуть на ухо: «Люблю! А ты?», он ждал ответа. То ли счастье, то ли приговор…
– Я вас совершенно заболтала! Простите, Павел, простите, вам будет тяжело тащить коробку, а ведь еще вертеп – вы мне обещаете, что он не потеряется? Пообещайте! Коробка в левом углу, а театрик в правом, вы по одному несите, хорошо?
Вертеп, обернутый пыльным холстом и туго перемотанный бечевкой, был громоздким и легким, он поместился на заднем сидении. А короб с фотографиями оказался совершенно неподъемным. Целый склад. Его пришлось волочить по ступеням; багажник так и не закрылся, Павел подвязал крышку георгиевской ленточкой, случайно завалявшейся в салоне. И, тяжело дыша, поднялся в третий раз. До чего широкие ступени!
Старушка выдохлась; лежала бледненькая, жалкая, хрипела. И как в начале встречи Павла изумила сила голоса в крохотном, усохшем теле, так сейчас он поражался грозной мощи хрипов, как будто он их слушал в стетоскоп.
В паузах между легочным клекотом Анна Леонидовна прошелестела:
– Вот и все… поговорили… Еще две вещи, Павел, пока не забыла. Первая вещь: владыченька писал записки, тетрадь вон там, на подоконнике, завернутая в целлофан. Взяли? Вот и хорошо. Сохраните их… и фотографии. А под кроватью… ящичек. – Она пошевелила пальчиками, показывая под кровать.
– Послушайте, вам нехорошо. Я вызову скорую.
– Не… надо. Все… пройдет. Бутылки.
Пришлось заглянуть под свисающий край одеяла. Он думал, что увидит паутину, обязательное старческое судно, а увидел темный отблеск вымытого пола и аккуратный ящик с круглой ручкой, вроде тех, что носят столяры.
В ящике лежали две бутылки. Очень старые, безнадежно вылинявшие этикетки. Округлая ликерная, с призывной надписью: «Ciokolata cu visine», и простецкий штоф – «Запiканка украïньска».
Старушка говорила все тише; так падает давление звука в настенных часах, перед тем как они остановятся.
– Владыченька… привез из Киева… три бутылки… положите в ящик, чтобы не разбились. Первую велел открыть, когда большевики уйдут.
– Я все-таки вызову скорую?
– Прошу… не надо. Мы ее выпили… Сладкая была… Владыка знал, что тетки будут пить.
– А эти две?
– Украинскую, сказал, «откроют на поминках». А иностранную – «оставьте на крестины». И… улыбнулся. А на какие поминки, какие крестины? кому будет надо, поймут… Возьмите… пусть теперь у вас… а я посплю… ко мне придут… ангела-хранителя…
Старушка перестала легочно хрипеть и вдруг засвиристела носом. Глаза приоткрыты, щеки впали, губы стали бледно-фиолетовыми и быстро высыхали, покрываясь коркой.
Саларьев посмотрел еще немного на лампаду, взял ящичек и, успокоенный, пошел к машине.
5Но покой оказался недолгим. Как только Саларьев выехал из города, и перед ним легла дорога, прямая, как стрелка на брюках, – накатила беспричинная тоска. Вокруг холодный свет, холодный воздух. Кончики пальцев стало покалывать; на тыльной стороне ладони, у кисти, где опасно сплетаются вены, проявилась легкая, почти приятная ломота. Первый признак надвигающегося гриппа. Так он всегда заболевал: и в детстве, и в университете, и тогда, в Стокгольме. Павел внимательно смотрел на белую дорогу с темно-желтыми песочными присыпками, и вроде ясно видел путь. Взметнулась порошковая поземка, сухо легла на стекло, и слетела. Но ровная картинка все не могла настроиться на резкость.
Перед глазами что-то вспыхнуло и ослепила головная боль, тонкая, невыносимая, как проволока, продернутая через кожу. Саларьев тормознул; воды не оказалось, и горькую таблетку пришлось жевать, с трудом удерживая тошноту. Как только боль ослабла, он снова тронулся, чувствуя, что все двоится. Он вроде бы и едет, и не едет; вдруг стало холодно, до клацанья зубами. Носоглотка чешется, глаза слезятся, в ушах стоит температурный гул.
Выезжая через мост на Невский, со стороны Васильевского острова, он краем глаза зацепил картинку: на Дворцовой площади толпа переодетых свиньями людей скандировала: «Хрюши – За – Хозяина»! Кричали так громко и так вдохновенно, что было слышно даже сквозь закрытое стекло; «не может этого быть», подумал Павел, «но и бреда тоже быть не может, я пока еще в сознании, что происходит?»
6Жар то спадал, то распластывал на мокрой простыне. Почему-то вспоминалось неприятное и стыдное.
Тата наконец-то забеременела. (На четвертый год или на пятый? Надо же, уже не помнит.) Беременность ей шла: никаких пигментных пятен. Щеки округлились, под широким платьем прятался животик. Пупок, до этого напоминавший впадину, вывернулся и торчал аккуратной фигулей. А глаза покрылись влажной пленкой и сияли странным светом, обращенным внутрь. Говорят, беременные женщины капризны, то им подай заморских фруктов, то еще чего-нибудь. Тата обходилась красной морковкой. Взрывчато грызла, хрустела, и была вполне довольна. Характер у нее переменился – конечно, временно; вспыльчивость ушла и наступила вяловатая покорность. Такое с ней случалось – редко, иногда, и всякий раз это приводило к дурным последствиям.
По средам и пятницам, свободным от усадьбы (тогда он бывал в Приютине три дня в неделю), Павел вел жену на выгул. Они не прятались от въедливого ветра; сворачивали на сквозную набережную, оттуда шли на продуваемую Стрелку, смотрели, как чернеет ледяной нарост, а через неделю вздыбливается, а через две уходит, отчаянно цепляясь льдинами за льдины. Весенний ветер заворачивался по спирали, высасывал тепло, но Тате почему-то нравилось, она с удовольствием медленно мерзла.
Перевалив за середину срока, Тата опять изменилась. Стала двигаться солидно, как полновесная дама. Посреди разговора смолкала и смотрела долго, не мигая.
Все случилось девятнадцатого мая. Отгуляв положенное, Павел прилег на диван с «Будденброками». На сцене похорон, где ужасающе, до тошноты описан мертвенно-величественный запах траурных венков, стал погружаться в сон. Вдруг позвонили в дверь; Павла будто подстрелили на лету. Он заполошно бросился ко входу. На пороге стоял их нижний сосед, крепкий отставник Иван Петрович. В майке, тренировочных штанах и тапках, розовых, с помпонами.
Бурклый голос нижнего соседа их всегда преследовал: стоило открыть окно – в квартиру сизой струйкой втягивался папиросный дым, а вслед за ним вползал приплюснутый голос майора. «Таак, значится, таак. А мы тебя сейчас положим, положим тебя сейчас, вот таак, ложись, да, ложись, вот таак, молодец… Я строгаю, Бэллочка, строгаю, говорю, строгаю. Мануэль, молчи, я сказал, молчать, Мануэль, не гавь».
Иван Петрович состоял из грохота, визгливых тяфков болонки, сварливых окриков жены. При этом стоило Саларьевым включить проигрыватель, или резко сдвинуть кресло, как Петрович набирал их номер, и, бесконечно повторяясь, выговаривал: «Ну мы же под вами живем, живем под вами, так сказать, ну ведь можно же потише, ведь мы под вами, не умеете сами, интеллигенция, понятно, так давайте я вам на ваши креслицы и стульчики, на стульчики и креслицы, набоечки из войлока нарежу и наклею, из войлока, и шума не будет, как же можно так шуметь».
Заслышав занудливый голос, Тата вышла в коридор; заспанная, безмятежная…
– Это что же такое, так сказать, что же это такое? вы как себя ведете? Вы решили дом, что ль, затопить? Да? Затапливаете, тскть, дом? Что же вы, дамочка, не следите за порядком? А, дамочка? Вы что же за порядком не следите?
Иван Петрович, кургузый, похожий на киношного лесовика, суетливо отодвинул Тату и собирался пронырнуть в квартиру. Павла затрясло от гнева; он рявкнул на отставника:
– Руки! Руки, сказал, убери!
Иван Петрович вдруг засуетился, на лице отобразились ненависть, растерянность, подобие испуга. Он отступил, и стал приплясывать на месте, как пес, которому случайно отдавили лапу:
– Вы ж затопили, посмотрите, это как же понимать? как же понимать, хозяюшка, не стыдно как же? совесть надо же иметь?
– Вон пошел! Ты слышал меня? пошел! Иди, сказал, считай убытки! Принесешь расчеты, оплачу. Ты, суч, не видишь, что жена беременна? Ты на кого тут вякал? Замолчал, понятно?
Сосед умолк, попятился, и уже на лестнице продолжил хрипло причитать: вот, б’дь, соседи, вот интеллигенты, вот как не везет, никакого здоровья не хватает, доконают, изверги, соседи, б'дь, интеллигенты…
Павел ринулся на кухню. Двери плотно закрыта. Отворил, а оттуда – потоп. Теплая вода потоком устремилась в коридор. Растерянная Тата в легком балахоне для беременных была как разогнувшаяся прачка с картины девятнадцатого века; в одной руке пластмассовое синее ведро, в другой совок. Саларьев поспешил открыть затычки в раковинах, зачем-то плотно заткнутые Татой, свернул равнодушные краны, бросил простыни под комнатные двери, чтоб не заливало через щели, зачерпывал воду ведром, сгонял ее веником…
Через час все было кончено. Коридорный паркет выгнулся горбом; на плитке оставались мокрые разводы, а в воздухе распространялась сырость, наводящая тоску. Он почувствовал щекочущую боль в ногах; оказалось, пальцы и суставы вздулись пузырями, стерлись о края сандалий в кровь.
И тут Саларьев снова посмотрел на Тату. Лучше бы он этого не делал. Жена стояла в той же позе и на том же месте; в одной руке совок, в другой ведро, на лице – безобидная тупость. Можно было ничего не спрашивать. Тата открыла кухонный кран: залить посуду пеной против жира. Вспомнила, что надо бы наполнить ванную, пустила воду. Забыла и про то, и про другое, пошла вздремнуть. Если бы она оправдывалась: Пашук, не буду больше! или же, наоборот, ругалась: а ты бы сам помыл! я могу побыть беременной? или хотя бы скрылась с глаз долой – он, скорей всего, сдержался бы. Но Тата покорно молчала. И никуда не уходила. А тупых и беспомощных он ненавидел. Так, что готов был убить.
И в этот раз холодная волна пошла от низа живота, ударила в виски, перед глазами побежали яркие мурашки, он затрясся:
– Ты что же, дура, делаешь!
– Я думала…
– А тебе не надо думать! Бог не дал мозгов, так просто делай, как положено! Зачем хватаешься за все? не можешь – так пошла в кровать, залегла, закрылась, ешь свою морковку, сволочь!
А она стояла и молчала.
Он так орал, что самому становилось страшно; до срыва голоса, до визга; вгонял себя в раж.
Если бы она хоть что-нибудь сказала! Но Татьяна – молчала.
Павел потерял контроль над собою, метнулся к этажерке с книгами (как хватило силы, непонятно; в нормальном состоянии он не оторвал бы этажерку от пола), швырнул ее Тате под ноги. Книги выбило из полок, они взметнулись веером, обрушились на пол, а этажерка разломилась.
Тогда жена сказала тихо: ох. И наконец ушла к себе. Нет бы сделать это пораньше.
Припадок гнева завершается не сразу, он медленно выпаривается, нервы стынут, подступает смутное похмелье. Через час-другой наступит следующая стадия, смесь умиления с презрением, и это будет невозможно вынести. Не дожидаясь этой стадии, ты с отвращением идешь мириться. В надежде, что она перед тобою извинится первой. Но с полным пониманием, что этого – не будет. Скребешься в запертую дверь. Слушаешь в ответ молчание. Не то молчание, которое ввергало в ярость. А другое, беспощадное, убийственное.
Тата лежала на спине, подхватив живот руками. Глаза закрыты, губы сжаты, голова закинута.
На секунду ему показалось, что обоняние вернулось, и он слышит кисловатый запах металлической стружки.
– Тат, эй, ты чего?
Молчок.
– Тата?
Ни звука, ни движения. И этот странный – то ли запах, то ли фантом. Он подошел поближе. У Таты обморок? А это что за липкое пятно? Кровотечение? В больницу? Тата, Тата!
Она очнулась и сказала, слабо и спокойно, без обиды:
– Слушай, Паша. Мне, кажется, нехорошо. Придется вызвать скорую. Поищи в столе медицинскую карту и полис. И подай, пожалуйста, трусы и балахончик.
Пощупала себя внизу живота, посмотрела на пальцы, добавила – и вновь без паники, почти что равнодушно:
– И мокрое полотенце.
А потом был ужас. Ужас. Ужас. Гробик, так похожий на обувную коробку. И Татина жестокая болезнь.
7Тата поскреблась в кабинет, предупреждая: Паш, встань, задерни штору.
Вошла в махровом охристом халате, утренняя, свежая; даже то, что бледная – красиво. Вкатила на милой советской тележке завтрак. Прозрачный чайник с густо-красным крепким чаем, его любимая бадейка, пузатая, объемом в два стакана, желто-белый, как в детстве, омлет. На тарелочке с синей потертой каймой лежали таблетки, похожие на канареечные зерна.
– Поклевать принесла? Смотри, избалуюсь.
– А ты и так, мой милый, избалован.
Тата присела на край кровати, завернув простыню: аккуратистка!
– Но я тебя за это и люблю. Знаешь, Паш, не обижайся, но я даже рада была, что ты свалился – ешь, ешь давай, еще чайку подлить? – как тебя еще посадишь на привязь? А сейчас вот поправляешься, и хорошо, но жалко. Скоро опять усвистаешь… усвищешь… как правильно сказать?
– Скажи – отчалишь, не ошибешься, – ответил Павел с неприлично набитым ртом. Омлет был очень вкусный, воздушный, при этом упругий, просто лучше не придумаешь. – С чего это ты вдруг сентиментальничаешь? Вроде раньше так не было, а?
– Сама не знаю. Люди меняются, верно? Может, засиделась взаперти, как собачка на привязи. Кстати, а не хочешь завести собачку?
– А гулять кто будет? Особенно днем, на свету?
– Да, ты прав.
И Татьяна увлеченно начала рассказывать о каком-то смутном сне, приснившемся ей этой ночью.
Вроде живешь с человеком годами, выучил его наизусть. Тата только начинает говорить, а уже ясно, к чему она ведет. В магазине можно даже не гадать, в каких отделах застрянет, какие обойдет стороной. Ей нравятся тугие свитера, домашние толстые кофты. А брюки в обтяжку не нравятся. Ей действует на нервы, когда он слишком низко наклоняется к тарелке и громко хлюпает. Зато она довольна тем, что у него такие узкие очки. Вот если бы они вдруг были круглые и толстые, в роговой оправе, это был бы настоящий ужас. Она не может пройти мимо грязи, но только если эта грязь перед глазами; будет часами отдраивать каждое пятнышко. А под кроватью пыль сбивается в комки, и они на сквозняке гоняют друг за другом, как невесомые мыши…
– Обычно сны дурацкие, а этот какой-то другой, после него даже хочется плакать… Да ты меня совсем не слушаешь?
– Ты чего?! Конечно, слушаю. А сахару, прости, не принесешь? Я запомнил, где ты остановилась, честно.
– В смысле, напился-наелся, жена, убери посуду, исповедь окончена? Заходите к нам на огонек? Таблетки выпей.
– Зачем ты так? Я ничего такого не имел в виду.
– Ладно, тяжелый больной. Прими антиеботик, и бифидобактерии не забудь. Давай сюда стакан. Кстати, тебе с нарочным доставили тяжеленную коробочку. На ней почему-то написано «Приглашение». Принести?
– Валяй, конечно.
На тонком металлическом листочке, немного темнее, чем сталь, но гораздо светлее титана, было выгравировано:
Многоуважаемый господин
Саларьев,
имею честь пригласить Вас
на торжества
по случаю
15-летнего юбилея
обновленного Торинского металлургического комбината.
Торжества состоятся в г. Торинске, 14 марта с. г.
Председатель Наблюдательного СоветаМ. Х. РойтманRVSP. Стиль Black tie.
К металлической пластине прилагалось письмо на бумаге, рифленой, небрежно-желтоватой, с водяными знаками; Юлик дружески, но в то же время чуть начальственно писал, что рад будет свидеться, на приеме покажут их демо-ролик, надо бы приехать дня за два до вылета, все прогнать еще раз; кстати, полетим на ройтмановском самолете.
Павел бросил приглашение на ящик с фотографиями; из-за внеплановой болезни отвезти в Приютино наследство дяди Коли у него не получилось, и пришлось пристроить обе коробки в кабинете. Забыв про слабость, бросился к компьютеру, срочно вызвать Шачнева по скайпу; тот, видимо, ушел из кабинета – и на скайповский звонок не отвечал.
Тата стояла в дверях, маленькая, невеселая.
Что, опять улетаешь?
Опять.
Когда.
В Москве надо быть числа четырнадцатого.
Значит, успеешь поправиться. Можешь занавески отдернуть, пока.
8Воздух был холодным и наждачно жестким. Павел процарапывался сквозь него, щеки горели. Но лучше бежать по сырому морозу, чем бесполезно дергаться в машине: чтоб вас, снова прозевал момент, еще бы пять минут назад решился вылезти, и, глядишь, успел бы; будет здесь когда-нибудь зеленый? или Маяковского забита, шансов ноль?
Он вошел в свое купе заранее, удобно устроился в кресле, достал дорожный ноутбук, наушнички, отправил Тате смс, доложившись о прибытии.
Успел.
С Богом!
Как мало человеку надо. Настроение отличное; во вторник утром вылетать в Торинск, до сих пор он дальше Красноярска не был, любопытно. До этого они успеют поработать с Юликом, немного дотянут программу, применят к реальным торинским условиям. А вчера он созвонился с дедушкой, это тоже большая удача: Теодор мобильники не жаловал, или оставлял в гостинице, или забывал включить. При этом Деду в голову не приходило, что можно вечером вернуться, посмотреть, кто днем звонил. Он был выше всякой телефонной суеты, как был выше Интернета, в котором ничего не понимал и (по крайней мере, на словах) гордился этим.
– Чтобы по клавишам стукать, у меня есть секретарша. Государство ей исправно платит, а я доплачиваю. Галина Антоновна, распечатай, прошу тебя, всех писем, кто что писал, я прочту.
Бесполезно набирая дедов номер, Павел бормотал себе под нос: да возьми же ты, зараза, телефон! Он был готов уже махнуть рукой на все и передать через Печонова, что уезжает, как вдруг звонки оборвались и в трубке зазвучал тяжеловесный голос.
– Шомер слушает. А, Павел Савельевич. Здравствуй, мой дорогой. Ты что же исчезаешь так надолго? Заболел? Сочувствую. Но мог бы, вообще-то говоря, и сообшчить.
(Тебе, пожалуй, сообшчишь).
– Как идут дела? – спросил сам себя Теодор Каземирович. – Дела идут. Завтра посещаю важного начальника, посмотрим, что из этого получится. – Интонации сгустились, Шомер явно приосанился, расправил плечи; Павел знает наизусть его повадки. – Воскресенье проведу в Москве, имеются еще кое-какие планы, а в понедельник на рабочем месте. И надо бы нам повидаться. Приглашаю тебя пообедать.
– Теодор Казимирыч, родной, в понедельник никак не могу!
– То есть? Уточните, пожалуйста, – надулся обидчивый Шомер и перешел на «вы».
– Мне во вторник утром на московский самолет, Ройтман продает свой комбинат, а я делал ему виртуальный музей… зато я в Москве в воскресенье… – Павел бормотал, как школьник у классной доски, но Теодор дослушивать не стал и перебил:
– Что я слышу? Ройтман? Тот самый, который? Вы знакомы? Павел, что же вы молчали?
(Как же, молчал; вы, дедушка, стареете, становитесь весьма забывчивы.)
– Вы должны… ты, Пашенька, просто обязан рассказать ему о наших бедах.
– Да какое ему дело до Приютина?
– Не скажи, он такой влиятельный. Пусть этим позвонит, которые сафари. Или пусть твой Ройтман выкупит усадебные земли и подарит их обратно нам! А? ты понимаешь, мой дорогой? обратно.
– Понимаю, – с неохотой согласился Павел.
– Значит, поговоришь?
– Значит, да.
Тем временем в купе вметнулась девушка. Вслед за девушкой, как верный пес, через порожец перевалился безразмерный чемодан. Она кинула на Павла секундный взгляд: этот не поможет? тут же отвела глаза: нет, не годится, коротышка.
Павел твердо улыбнулся. Кивнул на чемодан; девушка приязненно пожала плечами: дескать, как считаете возможным, но буду благодарна, если выйдет. Не знаете вы, девушка, что у людей коротенького роста отработаны приемы верхнего броска, иначе им не выжить в мире гулливеров.
Павел закинул тяжеленный чемодан на полку; на лице попутчицы отобразился интерес. Она забралась в дорожное кресло с ногами, скинула туфли, стала похожа на девочку-подростка, открывшую настежь окно и усевшуюся на подоконнике в ожидании большой любви.
Вслед за девушкой впорхнули два японца; четкие, как черно-белые рисунки. Младший схожим отработанным движением вбросил на полку багаж; старший чуть кивнул в знак благодарности. Японцы уселись напротив Саларьева, вынули одинаковые путеводители и сосредоточились.
Оба места рядом с Павлом пустовали. Повезло и можно вытянуться в собственное удовольствие? казалось бы, пятничный поезд, должен быть битком набит.
За окном зазвучала прощальная музыка, поезд скользил по рельсам, как нож по топленому маслу, перрон внезапно оборвался, мимо побежали унылые домики, и тут стеклянные двери их купе раздвинулись. Раздался грубый и как будто бы знакомый голос:
– Какого ччерта? чуть не опоздали.
В дверях стоял загорелый мужик, широкий в кости, русопятый, соломенные волосы ежиком, брови выцветшие, белые. Мужик был одет щегольски: на фоне загара сверкала рубашка в синюю полоску, с ярко-белым твердым воротником; на выступающих манжетах – запонки с граненым синим камнем; клубный пиджак ночного цвета с едва заметной вышивкой инициалов на нагрудном накладном кармане, черные брюки, тонкие ботиночки. Все на нем сидело как влитое, но выглядело диковато; так дорогая стильная одежда смотрелась бы на сельском манекене.
Мужичок не входил, терпеливо смотрел вдоль прохода, и по меняющемуся взгляду можно было определить, как далеко сейчас его жена, из-за которой они задержались. Вот перед ней открылась дверь из тамбура; вот, слегка покачиваясь по ходу поезда, пробирается по узенькому коридору; а вот и вплотную приблизилась. Небось роковая красотка.
Мужик подвинулся, освободил проход.
А ведь и впрямь красотка.
Волосы холеные, иссиня-черные. Подвижное лицо. Пропорции чуть мелковаты, но живое: тонкая белая кожа, огромные зеленые глаза, с кошачьей поволокой и веселой наглостью, намеренно пригашенной. Проскочила мимо мужа, как проскакивает искра. Полумгновение – она уже сидит по правую руку от Павла. Миниатюрная, как будто скроенная для нарядов, недоступных большинству унылых женщин: черные джинсики в трубочку, с широкой медной молнией на бедрах, короткая курточка, чуть ниже уровня груди – крохотной, но полноценной, округленной; спина балетная, прямая. Похожа на Татину куклу, из самых лучших, самых дорогих. Наверное, укутана в тонкие запахи, без удушающей тяжеловесности, но все же сладкие; ненавязчивая сладость ей к лицу.
Хорошая девушка. Ладная. Приятно рядом ехать.
Багажа у этой пары не было – у нее роскошная приемистая сумка Louis Vuitton, а у него – путевой портфельчик от Hermes’а. Павел включил свой старенький компьютер, сделал вид, что следит за процессом загрузки, и краем глаза наблюдал, как женщина (у нее не сережка, а клипса, белое золото, черный брильянт) положила ласковую ручку на загорелую руку мужа, поросшую выгоревшими волосами. Стала поглаживать, почесывать ноготком. Не зазывно, а просто по инерции, следуя инстинкту домашней ласки.
А «Bvlgari» ей совершенно не идет, на тонком пальчике тяжелое кольцо – как сложносоставная гайка.
У мужа зазвонил телефон. Он резко произнес знакомым голосом, который не хотелось узнавать:
– Алё. На проводе. Но в поезде я, понял? говори.
Из трубки раздавалось недовольное бульканье. Муж терпел собеседника, потом ему надоело, он оборвал:
– Послушай сюда. Я же свою репутацию отдаю в твои руки. Я же буду полный мудак, если не сделаю. Понял теперь? Давай, до связи. Завтра с супругой в Москве.
Красотка ровно смотрела перед собой, как будто перед ней был не экран дорожного видешника, а зеркало; тихо и умиротворяюще поглаживала мужа по выцветшей шерсти. Молчала.
И правильно, молчи, молчи, я тебя умоляю. Только ничего не говори. Оставь мне право не признаться самому себе, что все уже понял!
Но все-таки она произнесла:
– Николаша, так не надо, здесь не офис.
Фиолетовый голос. Ночной.
Это совершенно невозможно!
Это есть.
– Позвони, я это сделаю. Сделаю, сделаю. У себя сделал, и тебе сделаю. Ты мне, главно-дело, позвони.
…Она оказалась другой, чем он представлял себе. Неузнаваемо другой. Не полнокровной, а скорее худосочной. Но в главном-то он не ошибся; она была именно женщиной, во всем, в любом своем жесте, даже в повороте головы, без малейшей примеси мужского.
И что теперь ему делать? Если он заговорит, она его узнает. И что? она внимательно посмотрит, не оценивая, не пытаясь смерить взглядом, просто спокойно посмотрит, как смотрит сейчас на экран, улыбнется, и станет ясно, что больше звонить ей не надо.
Дверь растворилась, в проеме появилась толстенькая, ладненькая проводница. Бодро, пионерски, прокричала:
– Билетики, билетики сдаем. Таак, спасибо. Гив ми, плиз, ваш тикет. Два места. Харррашо. И ваш, ага, отлично. Молодой человек, а ваши проездные документы.
Павел молча протянул билет.
– Вам копия билета нужна?
Он кивнул.
– Командировка? Возвращаетесь домой в Москву? Или уезжаете из Питера?
Павел покрутил в воздухе пальцами, сморщился: что-то вроде этого, неважно. Проводница пожала плечами, ну не хотите говорить, не надо; обратилась к пассажирам в целом:
– Вам положено горячее питание. Что будете: рыбу или мясо? Фиш ор флайш? Ага, записала, что фиш. А вы?
Восточная девушка прикрыла трубку:
– А мясо у вас какое?
– Кореечка свиная.
– Тоже рыбу.
Старобахин брезгливо помотал головой: не буду ничего. Чаю вот принеси и спасибо.
– А молчаливый господин?
Павел мотнул головой. И остался без оплаченного ужина.
– А выпить что желаете? Коньяк «Московский», водка, пиво, соки? Это тоже включено в меню, платить не надо.
И выпивкой пришлось пожертвовать.
Наконец проводница ушла.
Павел подумал: а если вот так же к нему обратится она? Что тогда будем делать? косить под немого, мучительно выдавливать из горла голос: ыы-ыы, и разводить руками? Чтобы до конца не провалиться, он поскорее захлопнул компьютер (прощай, работа), закрыл глаза и неудобно привалился головой к стене вагона.
Спать не хотелось, да и воркование мешало: девушка напротив, видимо, едет в Москву, к полюбовнику. «Да, я женщина проблемная. Нет, со мной нет никакой проблемы. Если я говорю правду, значит, так оно и есть.» Саларьев сквозь прищур смотрел в окно: деревца́ среди заснеженных полей, мерзлые озера, красноватый закат, стелющийся плоско, вдоль. Один раз решился мельком взглянуть на нее. Она читала книжку; от дорожной лампочки шел ровный столбик яркого дневного света; что за книжка, Павел не увидел. Увидел только любопытные глаза и заметил, что она по-детски шевелит губами.
Сквозь стеклянную перегородку было видно, что через тамбур движется официант с тарелками, на которых алеет форель; официант пружинит, как сапер на минном поле.
Двери снова растворились и раздался голос проводницы; на этот раз она не звенела, говорила негромко:
– Кстати, не хотите улучшить класс обслуживания? – И одними губами добавила: – Пять тысяч.
– Но это же и так первый класс? – на секунду отвлеклась от разговора влюбчивая девушка с тягучим акцентом.
Проводница ничего не стала отвечать. И при этом не ушла.
– Вы не в теме, – пояснил Старобахин, доставая портмоне из крокодильей кожи. – Тут у них свой бизнес. Отдельное купе сдают в аренду, понимаете? Но вы все равно опоздали. Вот, подруга, пятихатка, мы пошли. Влада, догоняй, а то займут местечко.
А, значит, Влада. Имя классово далекое, но для нее, возможно, подходящее. Пусть будет Владой. Но как ей не идет быть Старобахиной! Это же несправедливо.
Они наконец-то скрылись из виду.
Павел снова включил ноутбук, достал из портфеля бутылку нарзану, закинул голову, солоноватые пузырьки шибали в нос; вдруг раздался ржавый скрежет, поезд экстренно затормозил, бутылка плеснула, как южный фонтанчик, и залитый компьютер погас. Павел, чертыхаясь по примеру Старобахина, долго промокал клавиатуру бумажной салфеткой, дул в нее, высушивая влагу – ничего не помогало. Батарея умерла.
Смущенный и подавленный, Саларьев перебрался в вагон-ресторан. Место оставалось лишь за стойкой; заказав сто пятьдесят (водка называлась «Золотая», стоила немерено), порцию селедки с луком (будем пахнуть) и неизменной дорожной солянки в горшочке (жир в собственном соку), он уткнулся лбом в стекло и ни о чем не думал. Стекло вибрировало, дрожь передавалась телу.
Что за год такой невероятный – то перебрасывают номера, то буравят в сердце дырочки и закачивают подростковую влюбленность, то женщина, которую он пожелал, ни разу с ней не встретившись, оказывается вдруг соседкой по купе, и не дает ему ни малейших поводов для разочарования, а значит, ни малейших шансов выскочить из этой ситуации…
За зеркальной выгородкой высилась величественная директриса ресторана; советским поставленным голосом она командовала официантам:
– Так, двести грамм «золота» на третий стол… и селедочка поехала, поехала… ты рыбную солянку дал? Кофе два раза, Сережа, что с кофем? Кто заказал Мартель XO? Красное и черное? Стендаль. Достойный выбор достойного человека. Так, внимание, четыре рыбные, одни блины, работаем!
Но если выскочить нельзя, зачем тогда сопротивляться, прятаться от ложного, запутанного счастья? Выпив рюмку за свое здоровье, Саларьев сдвинул крышечку мобильного и вставил питерскую симку.
Ну, что из этого получится?
Из этого сначала получилось, что оператор рад приветствовать. Потом посыпались напоминания о всех пропущенных звонках.
И под конец мелькнуло, бросив в холод:
«Хотите услышать – услышьте:-)».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































