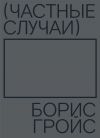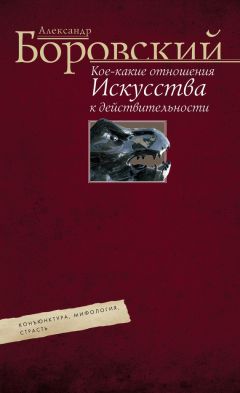
Автор книги: Александр Боровский
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Впрочем, в проекте часто появляется образ новорожденной ехидны – очень уютный такой зверек. На самом деле – первозверь, животное фантастической выживаемости. Так и не решил, почему к нему так часто обращается Брускин. Для снижения интонации, как всегда делает современное искусство, когда имеет смелость «включить» большой нарратив – разговор без дураков, о сущностно важном? Или в назидательных целях, в упрек технотронным амбициям: сколько «времен „Ч“» пережил этот зверек на своем видовом веку? А может, это оберег?
2012
Формат Янкилевского
Мне довелось несколько раз писать о Владимире Янкилевском. Не скажу, что совсем уж не удовлетворен написанным, но оставалось ощущение некоторой недосмотренности, недодуманности…
Что ж, по крайней мере, стучит молоточек re: re-thinking. В нашем языке нет полного аналога этому понятию, часто встречающемуся в англоязычной искусствоведческой литературе. Передумывать – здесь есть какие-то негативные коннотации: дескать, думал-думал, да и раздумал. Переосмысливать – слишком уж пафосно. Мысленно возвращаться? Самонадеянно – дескать, мы уже впереди, и с этих позиций… Не пойдет. Так что правильнее: re-thinking, запущенный механизм реактуализации…
…Советская идеология очень ревниво относилась к категориям пространственно-временного контроля. Это касалось, естественно, служебно-репрессивной сферы: прописка, высылка, отбывание в колонии-поселении, запрещение проживания в таких-то городах и т. д.
И – служебно-мифологической: от Москвы до самых до окраин, наш адрес – Советский Союз, от съезда к съезду, время – вперед. Принцип пространственно-временного контроля с не меньшей последовательностью распространялся и на сферу культуры. Выбор пространства и времени (не прописки, не пребывания, не жизни даже – внутреннего самоопределения, по-пушкински говоря, самостоянья, собственной навигации во времени и пространстве) нельзя было оставить на самотек, на волю художника. Власть неизбежно пристраивалась, норовила руководить. Безусловно, поощрялось идеологизированное пространственно-временное мифотворчество: письма сразу в XXI век, обращения к товарищам потомкам, протягивание руки дружбы через моря и континенты. Самостоятельность идентификации по параметрам пространство – время до добра не доводила. Как там у Ахматовой в «Anno Domini»: «А мы живем, как при Екатерине: молебны служим, урожая ждем». И это написано летом 1917-го, а напечатано – в 1922-м?! А Пастернак с его «Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?»… Государство било по рукам своевольничающих, не определившихся или неправильно определившихся. Ахматову «прописывало» между будуаром и моленной. Зощенко отводило место «на помойке». Тем не менее контроль, как угодно жесткий, все-таки символизировал жизнь, какое-то материнское внимание («Родина знает…»). Отказаться от него самостоятельно было невозможно, государство научилось включать не только тактически репрессивные (семья, близкие и т. д.), но и какие-то древние, архаические механизмы символической родовой ответственности. А вот отказ государства от этого контроля был, по крайней мере в риторике его вождей, возможен, и он означал своего рода ритуальный обмен на небытие, на гражданскую и физическую смерть. Именно так воспринимались – в пору молодости моего героя – хрущевские филиппики по поводу распустившейся интеллигенции: «выслать!», «сдайте паспорт и уезжайте!». Только полная выработка и функциональных, и символических ресурсов режима способствовала тому, что отъезд стал восприниматься буквально – как отъезд. Но всему свое время.
Все это не могло не вызывать ответную реакцию, разумеется, в более вегетарианские, по выражению той же Ахматовой, времена. Даже «простые советские художники», и не помышлявшие ставить под сомнение правила игры официального искусства, возможно, подсознательно, испытывали дискомфорт в связи с регламентированностью, фиксированностью своего пространственно-временного пребывания в жизни и в культуре. Отсюда, например, – неожиданный, несвоевременный как в плане простой логики развития искусства, так и с функциональной, служебной точки зрения официоза разлив «советского импрессионизма» в 1950–1970-е годы: нет тебе ни служения, ни государственных задач, ни осознанного протеста, есть ощущение течения моего личного времени, сиюминутного протекания моей жизни – рефлекс на чашке, томительное шевеление зелени, вовремя положенный завершающий мазок… Отсюда – более отрефлексированный эскапизм шестидесятников «левого МОСХа-ЛОСХа» в стародеревенское, семидесятников – в некое усредненное театрально-историческое пространство. И только несколько мастеров «неофициального круга» смогли осознанно тематизировать ситуацию «здесь и сейчас» как проблему выбора. Илья Кабаков, продолжая зощенковскую «мусорно-старьевщиковскую» традицию, освоил положение «вшкафусидящего», самостоятельно выбирая точку (ракурс) пребывания-наблюдения. Группа «Коллективные действия» по-своему противодействовала описанному выше контролю, в своих занятиях по ориентировке на белой, заснеженной местности снимая как идеологические, так и персоналистские вешки… (Правда, постепенно расставлялись иные указатели, landmarks, но это другой разговор.)
К чему я веду? К Янкилевскому. Думаю, идентичность этого художника как раз в органичном неприятии контроля, прежде всего пространственно-временного: любого огораживания (этот конкретно-исторический термин конца XVII века вполне применим к тоталитарным режимам: огораживаются, физически и метафорически, уже не общинные земли, а пространства бытования социальных групп и личностей), офлажковывания (по Высоцкому – «Обложили меня, обложили»), пришпиливания к точке в любой системе координат. Этот отказ от навязанной, фиксированной позиции, повторюсь, носит именно органи ческий, почти биологический, а не исторический характер. Исторический – это когда художник осознает наличие искусственно созданных барьеров, координационных сеток, «купчих крепостей» и нацеливает себя, затачивает себя, как говорят сегодня, на борьбу (это может быть не прямая борьба, но и иные способы силовых взаимоотношений – игра, перемирие, взаимное позиционное выматывание и пр.) с ними. Органический – это когда художник, вполне осознавая ситуацию (не в эмпиреях же он витает, с советского детства небось помнит ленинское – «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»), тем не менее каким-то образом становится над ней.
«Исторический отказ» имеет свои преимущества: «упоение в бою», возможность победить и вкусить плоды победы. Имеет и уязвимые моменты: опасность увязнуть в политически обусловленном, фиксированность в конкретно-историческом времени, то есть неспособность соскочить с клячи истории. Мы сталкивались со всем этим, когда описывали содержание отечественного искусства второй половины XX века исключительно в терминах преодоления барьеров: официальное/неофициальное, андеграунд, другое искусство. Оказалось – победа далась дорогой ценой: зацикленность на борьбе с барьерами как главном содержании художественного процесса сама способна стать барьером. Именно поэтому заслуженная музеефикация многих явлений нашего отечественного андеграунда 1960–1980-х годов (соц-арт в его кондовых, усредненных проявлениях, концептуалистская сомнамбулическая завороженность советскими означающими и пр.) все-таки тяготеет к формату своего рода военно-исторического музея, а не музея contemporary art.
«Органический отказ», то есть самопозиционирование вне диктата социально-политических реалий, вне действия установленного (властью, общественными настроениями и пр.) пространственно-временного контроля, – тоже не без уязвимости. Ахиллесова пята этой установки – предрасположенность к мегаломании, к модернистским демиургическим комплексам, к персоналистской мифологии. Только реальный масштаб художественного явления нейтрализует эти, прямо скажем, раздражающие факторы.
Многолетний творческий путь Янкилевского – художника, в принципе не чуждого профетического, – показывает, что у него на каждом повороте доставало масштаба и вкуса обойти эти объективно присутствующие угрозы. Похоже, даже не задумываясь о тактике и стратегии маневра. Видимо, его пространственно-временная «расконвоируемость», говоря сегодняшним языком, «невлипаемость» в дискурс контроля действительно природна.
Хочу быть верно понятым. Я вовсе не имею в виду некую оторванность, отвязаннность от реалий века (мандельштамовское – «Попробуйте меня от века оторвать!»). Ничего подобного – сам художник, его герой (не alter ego даже, попросту отец, как в моем любимом «Триптихе № 14») отформован временем, конкретно-историческим и повседневным, до последней пуговицы (недаром фигура – самого художника? отца? – в упомянутом произведении, по сути дела, реди-мейд: муляж, одетый в натуральное советское мешковатое пальто – аналог мандельштамовского пиджака «эпохи Москвошвея»).
Янкилевский эту свою связь с веком, даже с культурой повседневности прекрасно осознает, ценит момент протекания времени «здесь и сейчас». Но не менее ценит он и свою способность принадлежать каким-то другим измерениям. Включаются неведомые силовые установки – ядерные реакторы или механизмы ускоренной эволюции антропологического плана, – и человек оказывается и в ином масштабе, и в ином пространстве! Собственно, в каждом раннем триптихе прямо визуализируется работа этих установок. Не миметически, естественно, и не чертежно-технически, хотя здесь и можно найти какие-то подобия схем и проекций космо-, био– и синергетических процессов. Нет, на квазинаучность (термин mock – mockethnography etc. – как определение мистифицированно-научных или игрово-научных стратегий в современном искусстве как раз входил в моду на Западе в период становления Янкилевского-художника) он не претендует. Мы имеем дело именно с визуальной метафорой некоей топки, тропом претворения энергий (едва ли Янкилевский был в то время знаком с наследием К. Редько, с его «электроорганизмами», но объективно здесь складывается определенная традиция).
Потенциал «выброса» в иное измерение человека, казалось бы, до корней волос сформированного своим временем, намертво вросшего в «здесь и сейчас», совершенно по-новому поставил так занимавший художников поколения Янкилевского вопрос взаимоотношений с властью. Нет, художник пережил все перипетии высвобождения «из-под глыб» советского тоталитарного опыта, участвовал, кажется, во всех исторических акциях и выставках, включая знаменитую «манежную» встречу с Н. Хрущевым в 1962 году, сполна хлебнул прелестей противостояния дряхлеющему, но маниакально нетерпимому к художническому инакомыслию политическому режиму. Но этот достойный всяческого уважения сопротивленческий процесс не мог определять его настроения и настроения его искусства. Он был, как ни многообязывающе это звучит, несомасштабен интенциям Янкилевского. Да, художник был настроен критически по отношению к своему (в широком смысле – общехудожническому) положению в социуме. Но он был критичен и по отношению к положению самого социума – в пространстве, времени, на эволюционной лестнице. Он ощущал, как, воспользуемся метафорой А. Блока, «дышит интеграл», как аккумулируется энергия, способная изменить это положение дел. Вывести человека на другие – космические, антропологические и прочие орбиты. При таком замахе – до стратегий ли независимой выставочной политики андеграунда, до иерархий ли внутри его, да и до самих ли «происков КГБ»? Мелковато…
Формат поэтики Янкилевского был другой. А именно: тотальная неудовлетворенность положением человека в любой сетке координат. Носит ли она, эта сетка, социальный, биологический, антропологический или любой иной характер. Драма фиксированности, привязанности человеческой экзистенции ко времени и месту…
Надо заметить, этот «формат Янкилевского» сам по себе был, так сказать, не совсем ко времени и месту… Нет, космизм постановки вопросов бытия был вполне в духе литературной традиции («У нас в запасе вечность», «вечности заложник»: неудовлетворенность отпущенным, жизненно-биологическим, историческим и социальным, легко проследить во всем течении великой русской поэзии, не говоря уже о специальных жанрах мифопоэтического и фантастического плана, в 1960-х годах набравших невиданную популярность).
Но изобразительной? Правду сказать, в позднесоветском контексте сама тема космоса была скомпрометирована морем разливанным изображений людей в скафандрах, затопившим не только выставочные залы, но и городские брандмауеры. Возможно, резкое сокращение масштаба, смена горизонта, вплоть до самопозиционирования, метафорического и физического, художника в самой низкой «точке» бытового пространства (живучесть подобной установки сознания выразил современный писатель П. Санаев в названии своего романа «Похороните меня за плинтусом»), тематизированные хотя бы «кругом И. Кабакова», были в какой-то степени и реакцией на официально-космическое.
Поэтому сам замах Янкилевского, хоть отчасти, притом только внешне, напоминавший обо всей этой проблематике, многих настораживал.
Если брать западный контекст, то и здесь были нестыковки. Конечно, была мощная традиция абстрактного искусства, давно уже научившегося вне репрезентации «заглядывать за плечо природы» (Рильке), ее продолжал хотя бы Л. Фонтана с его Spatial consepts, инспирированными «наукой об атоме» (у нас, со стороны абстракции, в какой-то степени к этой проблематике приближался со своими «сигнальными сериями» Ю. Злотников). Но искусство репрезентирующее, работающее в числе прочего с перцептивным планом сознания? Напомним, это было время лиотаровского скептицизма по отношению ко всем метанарративам и главному из них – освобождению человека, этому «самооправдывающемуся и самодоказывающемуся мифу», время постмодернистской дематериализации реальности и поиска репрессивности в любом последовательном методе. На этом фоне большие мировоззренческие проекты выглядели архаично. Мало кто из художников позволял себе метавысказывания стратегического порядка. Ну, Й. Бойс. Одним из сквозных метанарративов Бойса является выявление контекста, в котором, например, существует животный мир. Он, по Бойсу, формируется между двух полюсов – эволюции и инкарнации. Художник не может примириться с фиксированностью положения животных на ступенях эволюции, невозможностью вырваться за пределы эволюционной шкалы. (Это переживание выражено в многочисленных вариациях темы загона, клетки, например в инсталляции 1965 года «Эволюция».) Определенную – опосредованную – перекличку идей, общность экзистенциальной тревоги уловить нетрудно. Но подобные считаные аналоги дела не меняли. При всем участии в коллективных действиях Янкилевский смолоду одинок. С его серьезностью, архаической, так сказать, антипостмодернистской внеироничностью, амбициозностью и масштабностью проекта он не вписывается в господствующие артдискурсы, как ни менялись они в течение почти полувека. Менялись в телеологии и языках описания, оставаясь, увы, замкнутыми на себя, на некую функциональную партийность и конвенциональность.
Предложенный Янкилевским формат, конечно, вызывает уважение… Но, согласитесь, не о мировоззренческих же вещах сегодня говорить…
А язык описания… Здесь тоже проблемы: художника не ухватить неводом любого фиксированного телеологически современного дискурса, приспособленного к искусствопониманию. Неофрейдизм? Конечно, можно попытаться интерпретировать повторяющиеся цветоформы Янкилевского как проекции неких матриц подсознания… Дискурс телесного? Культуральные исследования? Как-то никто из терминодержателей не берется апроприировать Янкилевского. Отпугивают не только его серьезность, невстроенность в игровые практики. Скорее останавливает понимание того, что результатом такой попытки будет дырка от бублика.
Янкилевскому-то что: сколько энергетических дыр он – в буквальном смысле – пробил в своих полотнах. «Нас не догонят!»
Янкилевскому, похоже, наплевать на свою ускользаемость от господствующих арт-дискурсов. Он человек внесистемный. Он не меняется и не подстраивается. Он и внешне, кстати сказать, меняется мало. Все то же, что и при первой встрече много лет назад: как-то очень цельно, одним объемом вылепленная голова, крепкая подтянутая фигура, крупные, прямо прочерченные, не просевшие с годами черты лица. Та же жизнь, подчиненная работе. Та же муза. Та же цель – свободная навигация, борьба с фиксированной позицией присутствия – с масштабными, хронологическими, пространственными, социальными сетками. Сетями. Шкалами. Ящиками. Он свободно проходит сквозь среды обитания: московскую, нью-йоркскую, парижскую. Все свое он носит с собой. У него на плечах ранец с каким-то особым двигателем. Работающим на реакции сиюминутного и длящегося… Как сегодня говорят, – безлимитно…
Однако откуда что взялось?
Янкилевский происходит из семьи, художественные интересы которой были потомственными: художником был не только его отец, в свое время учившийся у В. Фаворского, но и осевший в начале века в США дядя, ставший известным рисовальщиком и иллюстратором. Родители, по воспоминаниям художника, были честными советскими людьми, то есть сохраняли определенную веру в советские идеалы. Хотя семья, как это было заведено в интеллигентском московском (конечно, не только московском) ев рейском (конечно, не только еврейском) кругу, была бита жизнью: война, эвакуация, вечный страх за близких – на фронте и не в меньшей степени – в мирное советское время с его бесконечными чистками и идеологическими кампаниями. Московская средняя художественная школа, Полиграф (Московский полиграфический институт) – заведение, достаточно прогрессивное по тем временам, все-таки там профессорствовал А. Гончаров, какие-то курсы вел и Э. Белютин (впрочем, вскоре местные профессора ополчились на Белютина и выдавили его из института за «профнепригодность», Янкилевскому пришлось заниматься у него самостоятельно). Белютин, в поведенческом плане, очевидно, склонный к несколько наивному политическому прожектерству, был человеком, несомненно, просвещенным и преданным новому искусству. Он выводил учеников на «интуитивную» абстракцию, учил «переключать сознание», по тем временам это было совсем не мало. Несомненный след в творчестве Янкилевского оставила выставка П. Пикассо 1956 года в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Последующие «американские» выставки конца 1950-х, столь революционизировавшие сознание многих художников поколения Янкилевского, видимо, не оказали на него подобного воздействия… Далее, если брать основные хронологические вехи, идет знаменитая встреча Н. С. Хрущева с художниками на выставке в Центральном выставочном зале, Манеже, посвященной 30-летию МОСХа. Но прежде чем перейти к этому эпизоду, напомню вот о чем: Янкилевский был одним из немногих художников своего поколения, готовый уже тогда предъявить не заготовки и заявки, а достаточно целостный, репрезентативный образ своего искусства.
Так что придется вернуться к самым ранним произведениям художника. Тем более – судя по тому, что он сам их сегодня собирает, возвращает себе, – в них содержится что-то важное.
Если не считать рисунков штудийного плана, уже очень ранние серии выдают осмысленность задач. Первая группа работ явно инспирирована Пикассо, прежде всего, я думаю, его линогравюрами. В них эксплицированы (самими линиями, движениями штихеля) приемы «силовой» работы с формой: ни аналитичности, ни особых аллюзий, какой-то античный, голодный аппетит к обладанию, перемалывающий свое и чужое, включающее иконографию, сюжетику и пр.
Мне думается, уже в ранних работах можно прочесть нечто большее, чем школьно-модернистские «уроки условного». Да, молодой художник пытается преодолеть навыки примитивно-миметического рисования: особое внимание уделяет массе, весу, утрирует силуэты и т. д. Но за этим стоит осознание более важного – вектора силы. В процессе формообразования есть и элементы «правильного» объемнопространственного построения (хотя бы в виде борьбы с ним, преодоления его), есть и попытка «схватить» характерное. Но появляется и иное – начатки понимания того, что в формообразовании принимают участие и какие-то иные силы. Это понимание присутствует уже в «Двух фигурах на берегу» и многих работах второй половины 1950-х, окончательно сформируется оно в «landscapes of the forces».
Вторая линия в раннем творчестве Янкилевского связана с поисками в области цвета. У него есть несколько работ, которые можно с очевидной приблизительностью назвать фовистскими – это пейзажи и натюрморты с повышенной «температурой цвета». Но, вглядевшись, понимаешь специфический характер этих вещей: автор не столько «переживает» цвет, сколько анализирует его работу. Здесь нет сложных цветовых замесов и отношений, вообще «колоризма». Как цвет работает «одним куском», как – силуэтно, как – в контражуре, как – «режет» форму? Вот что интересует художника. К сожалению, в советской художественной жизни не было ничего, подобного арт-практике хотя бы группы «Zero» (или ее аналогов), сосредоточенной на морфологии цвето– и формообразования. В этом была логика развития европейского искусства, на каком-то этапе ощутившего потребность вернуться к этой версии concrete art: цвету и форме как таковым, вне любых коннотаций. В России многие художники поколения Янкилевского испытывали ту же потребность, однако им пришлось брать эту проблематику из вторых рук, обращаясь к опыту авангарда. Получалась все же цитация, ненужная рафинированность. Янкилевский пытался доходить до морфологии своим умом… Впрочем, чистая морфология цвета и предметностей ему давалась с трудом: в натюрморте с расческой и яйцом синий круг (каким-то образом предметно мотивированный – браслет? что-то еще?) неожиданно затягивает зрителя, как в энергетическую воронку…
Наконец, была и еще одна линия. Она возникла ближе к рубежу 1950–1960-х. В это время художника уже глубоко и серьезно захватил дискурс научного, о котором я буду подробно говорить ниже. В русле этого подхода он уже наработал определенный язык, связанный с претворением в едином визуальном плане знаков, схем, векторных стрелок и других проекций «техно». В целом, повторюсь, он серьезно и последовательно нащупывал ту визуальную поэтику, которая была бы адекватна каким-то базисным представлениям его формирующегося мировосприятия. Здесь не было места ничему снижающему интонацию, тем более – пародийному.
Тем не менее одновременно со всем этим появляется линия, в которой элементы, так сказать, «большого стиля Янкилевского» претворены в совсем ином, гротесковом ключе. Человеческие фигурки «прорастают» элементами техно, а то и складываются из них, как из составных частей («Художник и модель»). Не только телесное – эталонно-прекрасное тоже «биотехнизируется»: распадается на винтики, схемы и микроэлементы и снова под воздействием каких-то сил возрождается в виде некоего нового технотелесного канона (цикл «Структура Афродиты»). В свою очередь, образы «технотронного» ведут себя вполне по-человечески: вступают в споры, любят, позируют и пр.
Возможно, появление этой линии было ситуационным: Янкилевский зарабатывал на жизнь оформлением научно-популярной литературы. Здесь были свои законы жанра, требовавшие, во-первых, «очеловечивания» техники, а вовторых, некоего нарративного начала. Вот художник и утилизировал наработанное, по крайней мере его внешний план.
Есть и более основательное объяснение. Янкилевский смолоду ощущал свой дар рисовальщика, «щупывателя» (выражение В. Розанова) реальности, способность «схватить» острохарактерное или придумать его. Триптихам, вообще базисным мировоззренческим вещам эта гротесковая стихия была внеположна (до времени – постепенно она будет подкрадываться и к «большой форме», а в пентаптихе 1985-го «Содом и Гоморра» захлестнет ее). Но гротесковая, фантасмагоричная, эксцентричная часть сознания художника требовала своего… (Более того, именно она вызвала к жизни распространившееся в профессиональных и «сочувствующих» кругах определение Янкилевского как «сюрреалиста», характеризующее не столько художника, сколько тогдашние, 1960–1970-х годов, московские представления о современном искусстве.)
Думаю, это «компенсаторное» объяснение более состоятельно.
К 1963 году Янкилевский создает некую типологию мужского портрета – голову с вытянутой вперед лицевой частью и трансформированной черепной коробкой. Сам этот архетип – плод некоей антрополого-технической революции, все еще длящейся… Отсюда – некоторая подвижность архетипа, отсутствие окончательной формовки, окостенелости (в этом – проекция вечной неудовлетворенности художника любой завершенностью). Внутри него идет постоянная борьба: побеждает то пришелец, то робот, то мутант, то – человек… Внутренняя борьба влияет на антропологию: голова, череп то приближаются к человеческому, то отдаляются от него. В целом эта борьба драматична, но иногда Янкилевский, как уже говорилось, позволяет себе гротесковые и даже юмористические ноты. Так, он любит работать со стертыми метафорами, в обиходном языке обозначающими работу (или недоработку) сознания: котелок варит, шарики зашли за ролики, думает – аж дым идет, включи мозги и пр. Художник визуализирует эти тропы буквально – дымятся какие-то реле, перегорают проводки в лампочках и т. д. («Голова», 1964, «Черные головы», 1984). Дело не ограничивается «головами»: художник точно так же овнешняет (выражение М. Бахтина) заборные, а то и архаические метафоры, касающиеся «телесного низа». Это – чисто антропологические мутации (без вмешательства техно): носы уподобляются половым органам, заставляя вспомнить старого доброго Арчимбольдо, между ног снует пышущий жаром паровоз…
В дальнейшем у Янкилевского появятся вещи, в которых в русле его поэтики техно взаимодействует скорее не с антропо и даже не с психо, а с такой сложной материей, как, например, женственность. В пастели 1980 года «Торс» женская фигура построена внешне достаточно для него традиционно: формы телесного сочетаются с фирменной репрезентацией техно – пружинками, реле, векторами… Однако происходит «обратное присвоение»: знаки присутствия техно апроприируются женственным. Провода оборачиваются… косами или весьма чувственно очерчивают грудь, изображения реле читаются как след поцелуев или как тату…
Пора, однако, вернуться к стратегии, к главному кредо Янкилевского, которое можно описать как укорененность в «здесь и сейчас» и одновременно – нацеленность на свободную навигацию во времени и пространстве.
Напомню – эта укорененность являлась своего рода антидотом. Она «обезвреживала» потенциальную для такого масштабного проекта опасность гигантомании и ходульности.
«Здесь и сейчас» – это прежде всего опыт понимания культуры повседневности. Имеет ли current history такое значение для Янкилевского, ведь он, откровенно говоря, едва ли воспринимается как художник исторической, тем более бытовой проблематики. («Вшкафусидящий» – это не про него. И «Похороните меня за плинтусом» – тоже. Впоследствии он многократно обращается к мотиву «человек в ящике», однако установка здесь – внешняя, было бы неправильным искать здесь некое самопозиционирование «внутри ящика». При всей свободе навигации, в определенные точки пребывания-наблюдения художник себя не загоняет, сохраняя свободу маневра.)
Культура повседневности может быть предметом его произведений (впрочем, редко), может служить средством художественного анализа и, чаще, выразительным средством. Но со всей безусловностью она выступает в качестве среды, формирующей его поэтику.
Сказанное может показаться трюизмом – среда естественно формирует художника, что уж об этом говорить особо. Но на деле мы, охотно пользуясь термином, скажем, «поколение» (например, поколение шестидесятников, к которому принадлежит Янкилевский), на деле ограничиваемся констатацией нескольких социально-исторических банальностей (типа «оттепель», протест против прессинга официоза, в лучшем случае – несколько наблюдений над «экономикой» тогдашнего арт-производства – терминология типа «дип-арт» и пр.). Главным же образом сосредоточиваемся на собственно художественных аспектах (творческий генезис, поиск индивидуальных стратегий, внутрихудожественная контекстуальность и пр.). Однако интерес к повседневно-антропологическому способен помочь точнее понять и поколенческую, и собственно творческую индивидуальность. Особенно по отношению к шестидесятникам – первому поколению советских художников, которому жизненная и бытовая фактура помогала впрямую, вне идеологических ритуалов, выработать собственное понимание «человека исторического» (разумеется, были и предшественники – воспринимавшийся комически «Переезд на новую квартиру» К. Петрова-Водкина воспринимается сегодня – мною, во всяком случае, – именно в таком качестве).
Кстати сказать, недостаточность повседневно-антропологического в наших искусствоведческих интерпретациях породила целую художническую литературу – тексты И. Кабакова, В. Пивоварова, Г. Брускина да и В. Янкилевского. Меня всегда удивляла их внимательность и кропотливость именно в этом, повседневно-историческом пространстве, сегодня я понимаю компенсационный характер этой направленности. Социально-психологическое прочтение исторического процесса в формах повседневного было основой их рефлексии и, кроме того, формопорождающим фактором.
Повседневное, эксплицированное в текстуальной форме и впрямую – в форме речевых актов, – стало основой стратегии московского концептуализма.
Мир советских идеологем, коварно погруженный в советское повседневное, стал основой деконструктивистской в идеологическом и формообразующем плане арт-практики соцарта.
У Янкилевского – другое. Фактура социально-психологического прочтения исторического в формах повседневного проявилась у него прежде всего в фактуре мироощущения. А именно – в том напряжении между повседневным и космическим, которое в конечном итоге выражается в его формообразовании, в том, что Филонов называл психикой живописи.
Перечитывая давнюю повесть Янкилевского «И две фигуры…», я обратил внимание на следующий фрагмент: «На столе стояло вперемежку большое количество разнообразной пищи. У каждого на тарелке был как бы микромир стола, рыба рядом с паштетом, сладким пирожком, вареной колбасой, селедкой, холодцом и несколькими кусками черного и белого хлеба»[14]14
Янкилевский В. И две фигуры… М.: НЛО, 2003. С. 20.
[Закрыть]. У Янкилевского ничего не бывает случайно, и нехитрая бытовая зарисовка «прорастает» большим: характером видения. А именно – способностью увидеть в бытовом, повседневном некую модель бытия (микромир).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?