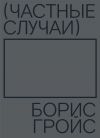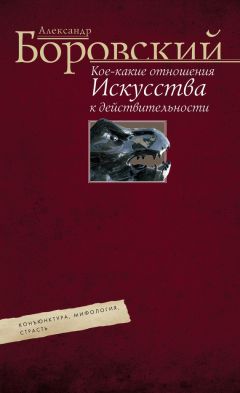
Автор книги: Александр Боровский
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поэтика Янкилевского формировалась так, что для него всегда важна была некая целостная картина (модель) мира (об этом подробнее будет написано ниже). В отличие от многих своих современников и соратников он никогда не подвергал остракизму именно эту целостность. Базисную роль в этой картине играла научность. Вообще говоря, в корпоративном мышлении либеральной, неофициозной линии советских художников конца 1950-х – начала 1960-х (оппозиция официальное/неофициальное появилась позже, кроме того, она не вполне адекватна описываемому феномену) мифологию современной научности трудно переоценить (тем не менее отечественными исследователями этого периода она явно недооценивается). Она обладала своей структурой. Здесь, несомненно, был момент объективного признания значения новейших научных открытий. Они формировали мировоззрение художников повсюду, причем на Западе этот процесс начался десятилетием раньше: в США уже action painting Дж. Поллока трактовалась в свете теории ядерных взрывов, свой, уже упомянутый спациализм Л. Фонтана напрямую связывал с современными достижениями физики, примеров подобному несть числа.
У нас была своя, советская социально-политическая специфика функционирования этого нарратива научности (скорее даже нарратива «большой физики»). Он волей-неволей противостоял официальной идеологии: последняя уже явно не справлялась ни с объяснением мира в целом, ни с мотивацией политики (повторяющиеся пассажи по поводу волюнтаризма принятия тех или иных решений вопиюще противоречили претензиям советского руководства на знание объективных, научных законов развития общества), ни с обоснованием очевидных обывателю экономических провалов. И как ни использовала советская пропаганда достижения советской науки, прежде всего манифестированные победами в космосе, разрыв между нарративом советскости и нарративом научности постепенно углублялся. Собственно, он начался еще в сталинскую эру, когда в ходе создания атомной бомбы власти прагматично отказались от проведения идеологических и антисемитских чисток в среде ядерщиков: без них уже было не справиться, с наукой приходилось считаться. Тем более – позже: без яйцеголовых (в нашем случае – фрондирующих академиков и молодых бородатых, по В. Высоцкому, «кандидатов в доктора») прогресс не мыслился, а ведь советское общество не представляло себя иначе как прогрессистским. Более того, возникала иллюзия независимости: в конце концов, «физики» должны были как-то помочь, отвергнуть идеологические ритуалы, отодвинуть догматиков и бюрократов. Это были искренние надежды советско-либеральной интеллигенции, причем не только молодой, шестидесятнической, они накрепко вошли в ее культуру повседневности. Они окрасили и корпоративное сознание тогдашней прослойки мыслящих художников, наиболее радикальной части которой суждено было стать деятелями неофициального искусства (корпоративность – термин, вполне применимый к этой профессиональной прослойке, существовавшей с конца 1950-х по 1980-е годы: ее объединяли элементы общей судьбы, система политических взглядов и мифов, поведенческие стратегии, система опознавания «свои – чужие», своя «этнография», культурные и собственно корпоративные ценности, к которым на определенном этапе, несомненно, и относился нарратив «большой физики»). Это выразилось и в открытости передовым физическим идеям, ставшей характерной чертой тогдашнего общества. Как напишет несколько позже И. Пригожин, «открытие нестабильных элементарных частиц или подтверждение данными наблюдений гипотезы расширяющейся Вселенной, несомненно, являются достоянием внутренней истории естественных наук, но общий интерес к неравновесным ситуациям, к эволюционизирующим системам, по-видимому, отражает наше ощущение того, что человечество в целом переживает сейчас некий переходный период»[15]15
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Наука, 1989. С. 47.
[Закрыть]. О метаморфозах материи художники, естественно, рассуждали на дилетантском, обывательском уровне, однако на этот уровень накладывался профессионально-художнический. В результате отрицание жизнеподобия, на котором зижделся официоз, резко радикализировалось, не будем забывать этот фактор в общем «кризисе миметического».
Физическое и художническое переплелись и на институциональном и поведенческом уровнях: «физики» с их независимостью и фрондой, как могли, поддерживали современное искусство: академики покупали произведения «спорных» художников и предоставляли под неофициальные выставки помещения своих институтов, энтузиасты из числа молодых научных сотрудников составляли восторженную аудиторию. Так что в том, что именно вокруг редакции издательства «Знание» собралась группа очень сильных художников, к которой примыкал и Янкилевский (Ю. Соболев, Юло Соостер, И. Кабаков, В. Пивоваров), был не только практический, но и символический смысл.
Что делал в этом плане Янкилевский?
Выше я пытался рассмотреть становление художника, в сущности стремительное. На рубеже 1950–1960-х он уже способен предъявить свое видение некоей целостности картины мира. Этим он отличался от многих своих соратников, которых новые, открывающиеся, несмотря на изоляцию, внешние влияния и импульсы бросали из стороны в сторону.
Цельность подразумевает потребность в некоей системе координат. В этом было что-то лежащее вне чисто формального, внутрихудожественного саморазвития, связанного с приращением визуальной культуры и индивидуализацией авторского почерка. В дело, уверен, вступили мироощущенческие факторы, тот, описанный выше, нарратив «большой физики», вошедший в плоть и кровь тогдашней культуры повседневности. Причем в объяснении с позиций некоей целостности нуждаются обе картины мира, воплощения которых жаждет Янкилевский: собственно космической, материеобразующей, и антропологической. В работе 1961 года «Диалог» специально акцентируется этот момент целостности: в некоем пространстве сосуществуют, «проплывают» не просто изображения, но именно, пользуясь телевизионным термином, картинки мира. Отсюда – тема рамки и даже некоей карты: Янкилевский показывает, что имеет дело не с фрагментами, а именно с целостностями, с самодостаточными мирами. Причем данными в соответственном масштабе. И специально отработанной визуальности. «Диалог» вообще чрезвычайно важен в этом плане: именно здесь Янкилевский подступает к визуализации базисных для него понятий «космическое», «антропологическое», «биологическое», находит свои способы воплощения энергетического и сексуального. В триптихе № 1 «Классический» (1962) миропонимание Янкилевского находит уже вполне устойчивую форму. Здесь заложены и основы впоследствии легко узнаваемого визуального языка Янкилевского: рудименты прямой изобразительности и сугубо авторская символика и иконография. Сам масштаб триптиха, его разворот во времени и пространстве адекватен мирообъясняющим амбициям (и «техникам») художника. Здесь космосы Янкилевского окончательно индивидуализируются и структурируются. Боковые стороны триптиха визуализируют мужское и женское начала. Между ними – космос: и, так сказать, физический, и антропологический, и энергетический. Все эти состояния космоса обретают конкретную визуализацию и находятся в постоянных интерференциях, взаимопроникновениях. Мужское и женское разъединены, но есть некая надежда на восстановление целостности. Это – пронизывающие все данные состояния космоса энергии. Художник здесь, пожалуй впервые, находит способ «записи» этих энергий (космических? сексуальных? каких-то иных?). Это – некий симбиоз скорописи формул на доске, трассирующих линий-разрядов, импульсивных, в духе action painting, живописных жестов.
Триптих № 2 «Два принципа», созданный в следующем году, позволяет оценить, как Янкилевский, уже вполне отрефлексированно, работает с дискурсом «картины мира» (собственно, картин мира). Это – диалектика укрупняющей и отдаляющей оптики, принцип макро– и микрорепрезентации земного и космического. Репрезентации, при которой невозможно определить изначальную точку, с которой художник видит мир и, соответственно, «мир» видит зрителя. П. Клее называл подобное взаимопозиционирование «космическим». Назовем и мы, не забывая, впрочем, что космос может быть многообразным: и микромиром, и космосом психической жизни, и т. д. В этих триптихах художник разрабатывает и систему кодов, аккумулирующих его представления об универсуме. Одни из них апеллируют к общепринятым символам и знакам – изображению молекулы, символу ДНК, другие отсылают к каким-то формулам и схемам, третьи носят абсолютно авторский, не поддающийся расшифровке характер.
Да, Янкилевский тяготеет к некоей целостной картине мира. Является ли она действительно позитивистской, то есть действующей по законам целесообразности и детерминизма? Разумеется, нет. Это своего рода поэтический позитивизм. В целом, как мне представляется, работы начала 1960-х оптимистичны: даже пентаптих № 1 «Атомная станция» не несет эсхатологических коннотаций. Свойственные этим вещам исключительно глубокие, дышащие темно-охристые тональности, богатые фактуры, вообще артикуляция «эстетического» имеют вполне отрефлексированную направленность – вочеловечить техно, придать ему гуманистическое измерение.
В 2008 году в Музее Виктории и Альберта состоялась отличная выставка – Cold War Modern. Design 1945–1970. Изобразительный ряд (и тексты в каталоге) самым непосредственным образом перекликаются с проблематикой, затронутой выше, – надежды и разочарования, связанные с дискурсом «большой науки», начали привлекать внимание. Один из текстов (и разделов каталога) назывался «The Bomb in the Brain» (Jane Pavitt). Так вот, «бомбы в голове» у Янкилевского, похоже, не было.
Вот примерно тот материал, с которым молодой художник вышел на знаменитую «манежную» встречу с руководителями партии и правительства (на выставке он был представлен, пожалуй, наиболее солидно: триптих № 2, пентаптих «Атомная станция», другие вещи). Выставка, в ее молодежной, неподцензурной части, была организована наспех, собственно, Янкилевский мог и не «попасть» на нее. Но – попал, и в этом проявилась какая-то историческая закономерность. Обычно главное внимание исследователей «другого искусства» сосредоточено на последствиях манежной выставки. Это справедливо: организаторы «встречи» с Хрущевым преследовали провокационные цели, провокация тактически удалась, однако стратегически вызвала непредсказуемые для официоза последствия. Но мне интересно вернуться к тому, что предшествовало событию. А именно: с чем, собственно, молодые художники пришли на встречу с персонификатором государства? Ну, столпы режима и деятели официоза, с ними все понятно: они пришли с камнями за пазухой. Но художники? У них-то камней не было. Мне представляется, тогда, на какой-то короткий срок, в среде думающих художников разных направлений установилась некая общность в желании наладить хоть какой-то диалог с государством (хотя государство к тому времени давно уже разучилось воспринимать любые содержательные месседжи со стороны искусства, по крайней мере изобразительного, вполне довольствуясь ритуалами, сигналами послушания и соблюдения правил игры).
У творческой молодежи (не только, разумеется, молодежи) к концу 1950-х накопилось множество вопросов к власти. Добро бы по поводу «жизни в искусстве», то есть вопросов социального статуса, распределения благ, свободы экспонирования и реализации своих произведений и пр. Но нет. Они требовали ответов не столько по поводам бытования искусства, но прежде всего – его бытия (поэт Борис Пастернак в довоенном еще телефонном разговоре со Сталиным с великолепной наивностью предложил ему поговорить «о жизни и смерти», естественно, вождь прервал разговор). Государство в лице Хрущева ответило немотивированно агрессивно и грубо. Была ли эта агрессивность прямым результатом провокации или сложности положения самого Хрущева в контексте внутриполитической борьбы, были ли еще какие-либо причины, – не важно. Дело было сделано. Попытка, возможно, наивно-романтическая, со стороны либеральных сил хоть как-то достучаться до власти провалилась.
Какая-то часть мыслящих художников поколения осталась на поле официального искусства, все еще надеясь на лучшее развитие событий: некую общественную пользу, которую принесет их честный труд в деградирующей стране, на возможность автономного независимого развития и пр. (о карьеристах я не говорю). Подобный выбор сыграл злую шутку со всем этим кругом художников, сформировавших впоследствии левое крыло МОСХа и ЛОСХа. Я имею в виду не только развитие их собственных творческих судеб, подчас исковерканное разочарованием в самых благих ожиданиях, но и реакцию на их арт-практику со стороны художников и критиков следующих поколений. Эпитеты «разрешенное», «сдавшееся», «конформистское» были не самыми злыми из тех, что раздавались художникам этого круга. Сама потребность в диалоге с властью воспринималось с конца восьмидесятых как постыдная слабость, никто не хотел и задумываться об укорененности этой потребности в российской политической и художественной культуре (никто из тогдашней радикальной молодежи, столь критично настроенной по отношению к предшественникам, не мог и представить себя в списках сегодняшней Академии художеств – ирония судьбы!).
Янкилевский, судя по его воспоминаниям, воспринял ситуацию достаточно спокойно. Какие-то иллюзии «труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком» (Б. Пастернак) разрушились. Зато «добавилось новое ощущение реальности, которое уже жило во мне раньше, но взрывом вышло наружу»[16]16
Цит. по: Другое искусство. Москва 1956–1976. К хронике художественной жизни. Т. 1. М., 1991. С. 107.
[Закрыть].
Во второй половине 1960-х, как мне представляется, меняется психологический модус творчества Янкилевского. При этом целостность картины (картин) мира остается для него внутренней необходимостью. Другое дело – что часто предметом его искусства становится как раз кризис этой целостности. В чем причина изменений? Проще всего напрямую связать их с текущими общественно-политическими процессами в стране. И эти прямые связи есть – общее наступление официоза, не оправдавшиеся ожидания либерализации режима, осознание прямого конфликта независимых художников с режимом и их последствий. Но было и множество других, менее читаемых связей, обусловленных процессами внутри культуры повседневного. Инертность общества, его равнодушие к переменам оказались гораздо более сильными, чем ожидалось. Последствия антропологической контрреволюции, как назвал один религиозный философ Октябрьский перево рот, значительно серьезнее. Нарратив «большой физики» не оправдал ожиданий: независимость ученых оказалась мнимой, их возможности в реорганизации общества – невостребованными. Все это составляло фактуру повседневного и одновременно – историчного, культура повседневности неотвратимо влияла на мироощущение, на переживание истории, в том числе современной. Г. С. Кнабе называл подобное «экзистенциальным переживанием феноменологии исторического быта»[17]17
См.: Кнабе Г. С. Избр. труды. Теория и история культуры. М.: РОССПЭН, 2006. С. 672.
[Закрыть]. Изменился модус научной фантастики, и отечественной, и широко популярной у нас западной (которая воспринималась властями как критическая по отношению к западному обществу и потому разрешалась к публикации), в ней отчетливо зазвучала тема цивилизационных ошибок, аномалий, вообще цивилизационного сора. Пожалуй, наиболее ярко она воплотилась позднее в «Сталкере» А. Тарковского (по мотивам повести братьев Стругацких). Думаю, совокупность всех этих факторов породила определенную установку сознания художника, то «новое ощущение реальности», которое возникло у него, судя по приведенным выше воспоминаниям, после «исторической» манежной встречи (Ю. Герчук дал ей удачное определение, ставшее названием его книжки: «Кровоизлияние в МОСХ, или Хрущев в Манеже»).
Видимо, в том числе и личные переживания исторического момента «отката от оттепели» подтолкнули Янкилевского к культурно-антропологической проблематике. Разумеется, она не могла выступать эксплицитно: напрямую она связывалась с общефизической и обществоведческой проблематикой. С теми общими категориями, которые сформулировал тот же И. Пригожин: «Обратимость и жесткий детерминизм в окружающем нас мире применимы только в простых предельных случаях. Необратимость и случайность отныне рассматриваются не как исключение, а как общее правило». Так, в триптихе 1965 года «Адам и Ева» культурно-антропологическая тема разрешается парадоксальным образом: Адам и Ева являют собой симбиоз био и техно, продукт неких недоступных позитивистской науке операций, метафорой которых становится центральная часть, манифестирующая некую процессуальность, которая может быть и генетической, и технико-лабораторной.
Думаю, «лабораторные опыты» Янкилевского по созданию новых симбиозов могли бы восприниматься как чисто головные, интеллектуальные, а то и игровые арт-практики. Могли бы, если бы не были глубоко укоренены в жизненном опыте рефлексирующего представителя определенного поколения. То же можно сказать и о многочисленных и многолетних графических сериях (рисуночных и гравюрных). Укорененность в собственном опыте, осознанном как исторический, проявляется в сериях «Анатомия чувств», «Мутанты», «Содом и Гоморра» и др. Эти серии Янкилевского вполне можно объединить общим названием: это графика мутаций. В живописных и коллажных симбиозах, о которых шла речь выше, большую роль играл отбор, конструкт, во всяком случае, внешнее «руководящее» начало. В графических сериях торжествует самостоятельная жизнь мутантов (сознательное начало – рука ученого, кукловода и пр. – не ощутимо). В этих сериях Янкилевского нет выявленной общественно-критической или анархической (что, собственно, версии одного и того же) позиций, было бы упрощением навязывать им и прямые политические коннотации (хотя в некоторых вещах мутанты сорганизуются в некие общности и даже демонстрируют нечто вроде ритуалов – шествий и пр.). Смысл здесь иной, бытийный. Исковерканно-телесное обременено ошибками творения – генетическими, анатомическими, иными, обусловленными, возможно, техногенными катастрофами. Эволюционные срывы позволяют мутантам заполнять определенные, предназначенные им ниши социальности. Но некоторые особи, в генезисе которых не было подобных ошибок и катастроф, стремятся заполнить те же ниши, отталкивая природных мутантов. Исковерканно-телесное соревнуется с исковерканно-нравственным и исковерканно-сексуальным, художник с тревогой ожидает победителя…
Культурно-антропологическая метафорика – конечно, отражение неудовлетворенности нарративами «большой физики» и «большой науки о человеке». При всей этой неудовлетворенности Янкилевский не отказывается от идеи целостности картины мира, от наличия неких объективно действующих координат. В произведениях художника просматривается отдельная линия, в которой тематизируется именно эта целостность, незыблемость, почти эмблематическая уравновешенность, – вещи, созданные между 1964 и 1974 годами (триптихи № 4 «Существо во Вселенной» (посвящается Д. Шостаковичу), № 6 «Мы в мире», № 11 «Мгновения вечности» (посвящается Александру Рабиновичу). Любопытно, что они, при всей своей опосредованности, наиболее прямо связаны с фактурой тогдашней повседневной жизни – смертями, отъездами в эмиграцию… Тогда же создавались произведения куда мень шей упорядоченности, артикулирующие случайное и преходящее. Целостность в них нарушается (хоть и подразумевается, остается «в уме»), координаты смещаются. Но именно от первых веет космическим холодом структурированного бытия…
Пора перейти к универсалиям искусства Янкилевского… Замечу только, что художник подобного типа, в меру своих сил, творит универсальный образ действительности. На меньшее он не согласен. Этот образ многомерен, он включает, помимо обычных компонентов, опыт, привнесенный в индивидуальное и общественное сознание именно 1960–1970-ми годами. А именно, как выразился один философ, – «наплывание» жизни на научное знание. Словом, универсалии искусства поверяются этим опытом, во многом инструментированным культурой повседневности.
Специфика визуальных искусств такова, что фундаментальные категории бытия и сознания в них овеществляются, «овнешняются». Соответственно, овнешняется у Янкилевского и категория времени. Она выступает в неразрывной связи с двумя другими базисными для его мироощущения категориями – энергией и пространством.
Собственно, все три параметра неразрывны и не могут пластически реализовываться в отрыве друг от друга. И все – что неоднократно подчеркивалось выше – глубоко укоренены в жизненно-историческом опыте, во всех его составляющих. Ибо чистые умозрительность, условность, формализм, вообще абстрактные и игровые стратегии, как также уже упоминалось, Янкилевскому если не чужды, то во всяком случае не приоритетны. А приоритетна диалектика обобщение – вживание, космическое – повседневное.
Каким образом удается художнику – причем концептуально, последовательно – «проводить в жизнь» эту диалектику? Думаю, это связано с неким неклассическим типом рациональности, к которому интуитивно приходит художник. Для этого типа сознания полагание событий в их линейной последовательности, заданности, повторяемости есть, как писал выдающийся современный философ М. Мамардашвили, «частный случай на фоне концептуально продуманной проблемы рождения, развития и исчезновения новых форм». Он же признает и одновременное и равнонаправленное существование множества временных циклов, – принцип, потрясший в свое время современную науку, но вполне неоспоримый для архаического сознания. Так что актуализация элементов архаического сознания – для Янкилевского одновременно концептуализированная и вполне естественная, априорно данная константа его поэтики.
Это ощутимо даже на внешнем уровне – архаическое, я бы сказал, «ацтекское», постоянно присутствует в его формообразовании. И если в самых первых вещах – по сути дела, опытах пластической самоидентификации – неизбежен был интерес к классическому модернизму (при этом художника волновали не внешние знаки, маркирующие индивидуальность конкретных мастеров, а скорее свобода, волюнтаризм индивидуалистического формообразования), то очень скоро ему на смену приходит некий индивидуализированный архаический архетип с его типологическими качествами не только пространствообразующей, но и космо-мистической активности, тотемности.
Этот архетип-эталон останется навсегда, возможно, как результат и метафора свободных путешествий по потоку времени – «вперед и назад», «туда и обратно». Тем более что почти всегда он сосуществует с неким эталоном технократических иллюзий – причудливым синтезом лампочек, электросхем, векторов и т. д. – визуальным образом искусственного, технического. Впрочем, все это техно архаизировано и антропологизировано в духе авторского формообразования Янкилевского. В этом – та же его любимая метафора относительности понятий «туда» и «обратно» применительно к путешествиям во времени. Вперед, в прошлое, или назад, в будущее? Ацтекское, тотемное в формообразовании Янкилевского отсылает к этим вечным вопросам.
Но это – срез пластической реализации. Результат артикуляции элементов архаического сознания ощутим прежде всего на уровне базисных, мироощущенческих установок. Например, тех, о которых писал К. Леви-Стросс: «Время представлялось первобытному сознанию в виде пространства, имеющего свои отрезки, пространство же воспринималось им в виде вещи». (Разумеется, под артикуляцией архаического я понимаю не искусственное его культивирование за счет некоего отказа от рефлексии, полного погружения в архаический способ мышления. Напротив, речь идет о проблематизации элементов архаического как раз путем рефлексии. Впрочем, наверное, не только ее, но и эзотерических практик.)
Естественное чувство архаического (как наиболее адекватного бытию, синкретичного, дорационального, не расчлененного анализом) лежит в основе описанной выше диалектики режимов времени у Янкилевского.
Но не будем забывать о столь же естественном чувстве повседневного.
Мне думается, наиболее серьезным примером не просто визуализации, а материализации current history является уже упоминавшийся триптих № 14 – «Автопортрет. Памяти отца» 1987 года. Но сначала напомню, так сказать, содержательную канву и топографию произведения. Центральная часть триптиха дана ассамбляжно – это сутулая фигура горожанина в мешковатом пальто, в шапке-ушанке, с потертым портфелем, читающего газету в тряском вагоне метро. Художник в буквальном смысле овеществляет (впрямую используя «найденные объекты» – found objects) конкретное «московское время», для российского интеллигентного зрителя здесь щемяще узнаваемое, читаемое, биографичное. Эта же фигура в левой и правой частях триптиха, данная силуэтно, как бы в ажуре и контр-ажуре, врезается (не метафорически, а технически, впрямую – как прорезь или аппликация) в другое пространство и другой поток времени. Этот режим протекания времени не локализован «говорящими» деталями и другими подсказками, это не бытовое, не частное, вооб ще не календарное время. Типичный московский интеллигент опрокинут в мировое, планетарное время, в дискретный временной поток, в вечность. Вагон метро несется никуда или, наоборот, во-всекуда, к некоей универсальной цели.
Сама история моего восприятия этого произведения (а я сталкиваюсь с ним почти постоянно в течение десяти лет, с тех пор как оно вошло в собрание Русского музея, а знаком еще дольше) в какой-то степени репрезентативна: оно показывает процесс развития искусствопонимания (или непонимания) человека моего поколения, сформировавшегося как искусствовед в 1970-х годах.
Разумеется, первое, что меня зацепило, – масштаб программной установки. Он не мог не вызывать, я бы сказал, изумления и даже некоторого испуга: мы в ту пору всем своим предшествующим опытом были приучены к тому, что бытийную проблематику следовало искать в большой литературе, к тому же чаще всего и запрещенной. Шок новизны, который я испытывал, шел, однако, от самой визуальности, от формального разрешения содержательной задачи. Это разрешение разительно противоречило привычному. Привычному как с точки зрения официального искусства, к тому времени уже постоянно подвергавшегося критическим процедурам как раз по причине общей миметической, жизнеподобной установки, по определению бескрылой и конъюнктурной, так и с позиций более продвинутого искусства тогдашнего левого МОСХа-ЛОСХа: неудовлетворенные вялостью жизнеподобной конвенциональной формы официоза, их представители оперировали категориями условности и обобщения, создавая бодрую и культурную версию формализма, которая, увы, не пережила своего брата-врага – позднесоветской версии реализма. Так вот, поражало то, что в триптихе Янкилевского оппозиции натуроподобное/условное не было вовсе. Точнее, не было борьбы с одним ради победы другого. Сама борьба была неактуальной, ибо обе категории преодолевались «изнутри»… Миметическое снималось за счет того, что жизнеподобие доводилось до абсурда, до манекена, «куклы», в реальном секонд-хендовом облачении. Условное, формальное (вырезанный силуэт, «абстрактные», трассирующие линии фона и общий оптически-кинетический эффект наложения одного на другое в боковых частях триптиха) преодолевалось методом от противного, то есть обретая достоверность и жизненность, – тем, что «вынос» вагона в иное измерение экзистенциально мотивировался (не знаю, повлиял ли на Янкилевского конкретный кинематографический контекст, но мотив «сумасшедшего», выброшенного в иную экзистенцию вагона витал в интеллигентском сознании – от классики типа «Cassandra Crossing» или «Человек-зверь» Ж. Ренуара до современных фильмов).
Вот примерно то из плана визуальной реализации, что навсегда запомнилось из первого знакомства. Содержательный же ракурс был, повторю, опознаваем сразу, разве что углублялся с годами. А вот лет через пять внимание фокусировалось, похоже, уже на другом. Формальное разрешение произведения, резкий отрыв от конвенциональной эстетической проблематики советского периода воспринимались уже как само собой разумеющееся. Диалектика условного – жизнеподобного ушла (на какое-то, понятно, время) из категории актуальных. На первый план выходила контекстуализация – причем западная. За короткий период был пройден большой информационный путь: от наивного умиления – и у нас как у всех, и мы владеем транснациональными выразительными средствами – к пониманию естественности, необходимости этого «владения» как некой обязательной программой. Интересовали прежде всего адекватность приема его содержательным контекстам («содержательность» – термин, переживший период невостребованности и вновь, похоже, обретающий актуальность). Опыт насмотренности был уже другим: понималось, что сам по себе ассамбляж с использованием манекеноподобной человеческой фигуры и элементов редимейда – ход в современном искусстве распространенный. Кто только ни использовал его – от Э. Кенхольца (Ed. Kienholz) до Р. Гобера (R. Gober) и Ч. Рэя (Ch. Ray), каждый – с какой-то своей целью: от поисков новой, основанной на поп-артовском опыте, нарративности до манифестации гендерных или разного рода поведенческих стратегий. И смысл сопоставления Янкилевского с этими именами был не в приятной констатации того, что он – в одном ряду с теми, кто находился на острие художественного поиска, а как раз в нащупывании индивидуальности его устремлений.
Какие задачи преследовал Янкилевский, в поисках какой идентичности он одевал свой манекен в реальные носильные вещи, «опредмечивал» беспредметное, мотивировал прорыв в иные измерения? Я, во всяком случае тогда, усматривал индивидуальную стратегию этого триптиха Янкилевского, «примеряя на него» западные контексты, как раз в актуализации советского опыта. И дело было уже не в фиксации примет этого советского, не только в этом. Типично советским мне представлялось само столкновение «усталого» человеческого материала (при этом – как бы двойной троп – данного манекеном, то есть с отсылкой к тоталитарной метафорике всех этих заменяемых винтиков, рядовых и пр.) с некими нечеловеческими скоростями. Это было очень советским – режим видел себя прогрессистским, гиперпередовым, осваивающим невиданные горизонты, претворяющим в быль научную фантастику. И вот этому космизму, фантазмам, запанибратскому обращению к грядущим векам мешала как раз усталость, истраченность, медлительность отягощенного советским опытом конкретного человека. Боковые артикулирующие схематизм и едва ли не чертежную твердость руки части триптиха воплощают как раз это неунывающее советское техно (впрочем, возможно, я упрощаю, и здесь же присутствует момент критики этого космизма: темнота, кромешность правой части, может быть, несет и нечто библейски-державинское: «Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей…»). Ну а усталая сутулая фигура пассажира метро – «человеческое, слишком человеческое». Советская идентичность виделась мне и в другом. Сама многоплановость вещи, ее основательный разворот во времени и пространстве, нескрываемость некого сущностно важного месседжа выдавали «нашенский» – литературоцентристский – тип культуры. И в этом было своего рода достоинство: напомню, как раз тогда западную культуру отличала массовая боязнь метарассказов, «великих повествований» (Ф. Джеймсон).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?