Текст книги "Философия культуры"
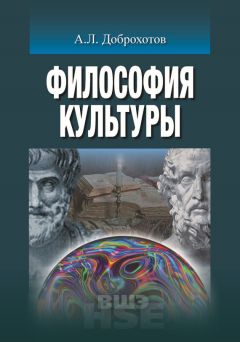
Автор книги: Александр Доброхотов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
(Из лекционного курса)
Поворот к новой философии культуры начинается с неокантианства. Предыдущий период можно обозначить несколькими «измами». Первый – эпоха редукционизма, т. е. попытки свести пространство высших смыслов к «позитивному», фактически данному. В этом – главная программа XIX в. Второй «изм» – попытка блокировать представление об абсолюте и показать, что все относительно, поскольку объяснимо через разного рода эмпирические контексты: исторический, психологический, социальный, экономический… Это релятивизм. Еще один дополнительный к редукционизму «изм» – экстернализм: стремление объяснить построение теории внешними причинами (например, потребностями эпохи или характером автора). Противоположный метод – интернализм, который пытается описать внутреннюю логику процесса без учета контекстов. Частично избавиться от этих «измов» с большим трудом удалось лишь к началу XX в. (хотя они и сейчас являются одной из альтернативных моделей объяснения), и период, о котором пойдет речь, это время, когда всем обманчиво убедительным методам впервые удалось что-то противопоставить.
Попытка редуцировать идеальное к конкретно-предметному и историческому – это сильная методология, которая действенна и сейчас. Она возникла в 30-40-е годы XIX в., когда ушло поколение тех, кого вдохновляли создатели трансцендентального метода с его интуицией единства исторического и логического, – Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. При всем различии версий этой интуиции предполагалось, что историческое – это необходимый момент развития Разума, который кодирует «идею» на языке «интересов», вовлекая тем самым маленьких людей в большую историю. Новое поколение сказало, что сама идейная конструкция в любом ее виде порождена интересами. Все идеальное – превращенная форма интересов, попытка перевести земное, конкретное на язык возвышенного. Главная задача интеллектуала – демонтировать и разоблачить скрытые в идеях интересы. Радикальный тезис, который прозвучал в 1830-1840-е, гласил, что идеального как такового вообще нет, а есть только культурная техника зашифровки интересов в идеях с целью навязать другим то, что выглядит как общезначимая идея, но по сути – всего лишь классовый, групповой, личный интерес. «Разум», таким образом, оказывается источником полезных фикций. Шопенгауэр был первым, кто решительно заявил: мир есть фиктивные представления, порожденные реальной волей, которой эти представления нужны для самоутверждения. Эта схема бесконечно воспроизводилась и в 1830-1840-е годы (с вариациями Конта и Фейербаха), и позже, вплоть до французского постструктурализма, вооруженного методами Фрейда и Маркса. Особняком в этой традиции стоит датский мыслитель Керкегор, который полагал, что основой бытия является не некая позитивная сущность, а чистое (и потому бессмысленное) существование. Керкегор из этого тезиса сделал столь радикально религиозные выводы, что эпоха его отвергла и забыла вплоть до конца века.
Логично, что именно неокантианцы первыми показали: эта весьма убедительная для реалистически настроенной эпохи модель «забуксовала». Ведь кантовский трансцендентальный мир был своего рода системой методов соединения опыта с понятием, порождающего через взаимодействие практического и теоретического весь действительный мир. Редукция идеального к реальной основе становится бессмысленной в такой парадигме, поскольку реальное есть не данное, а созданное. И уже Кант показал, что в конечном счете эта активность воплощает себя в культуре. Это не «отражение» объективной реальности, а теоретическое конструирование, моральное действие, эстетическое переживание, историческое проектирование, в результате которых реальность появляется как интерсубъективность человеческого и объективность природного мира. Кант все эти виды активного творчества соединяет в некий универсум культуры, о чем и вспомнили неокантианцы, когда позитивные методы показали, что они скорее радикально упрощают задачу, чем решают ее. Две школы неокантианства – каждая со своей спецификой – начиная с 1870-х годов выпускают ключевые публикации, завершившие эру позитивизма. Нам в первую очередь интересна баденская, юго-западная школа, которая развивает учение о ценностях и о двух типах наук. Тут впервые появляется новая философия культуры. Первым был Вильгельм Виндельбанд с его программными статьями, а затем Генрих Риккерт развил эти установки в системное, тщательно продуманное учение. Влияние неокантианцев было значительным: обе школы – это университетские центры, где училось много талантливой молодежи, в том числе и из России. (В России как раз в это время появляется захваченная философскими идеями молодежь, и несколько студенческих поколений прошли через неокантианскую школу. В Марбурге, кстати, учились Пастернак и Андрей Белый.)
Понятие «метод» для новой неокантианской модели принципиально. Кант говорит, что объекты не даны нам в чистом виде, они создаются методом (путем, т. е. meta hodos) использования трансцендентального аппарата. Главный тезис Виндельбанда, который развил Риккерт, заключался в том, что нет двух изначально разделенных миров – культурного и природного. Есть один и тот же мир фактов, который мы формируем двумя методами и превращаем в два разных мира. В сущности, метод есть не что иное, как беспрерывная деятельность по артикуляции, структурированию миров. Одну и ту же вещь можно поместить в мир культуры и мир природы. Соответственно, Виндельбанд говорит, что существуют два способа описания феномена: номотетическое, которое задает общие законы мира (так ведут себя естественные науки), и идиографическое (от греч. idios – частное, отдельное), изображающее частное, отдельное, особенное, которое нельзя свести к абстрактному закону. (Необязательно – единичное: иногда в учебниках некорректно пишут, что идиографическим методом описывается единичный, неповторимый факт. Но если он совсем неповторимый, то от него никакого толку нет. Даже неповторимый факт искусства на самом деле повторим, потому что мы его переживаем, интерпретируем, транслируем.) Исторические события, творения духа – все это такая область, которая необъяснима теми же законами, какими мы объясняем природу. Риккерт именует эти методы немного по-другому: номотетический он называет иногда генерализирующим, а идиографический – индивидуализирующим. Применяя эти два метода, мы можем разделить универсум на мир культурно-духовных событий и мир закономерно повторяющихся природных фактов.
Следующий теоретический шаг делает Риккерт: он вводит понятие ценности. Утверждается, что есть объекты, которые существуют, а есть те, которые «имеют значение» (Geltung; Wert – значимость, ценность), но не существуют как налично данные вещи. Мы сейчас в подобных случаях употребляем слово «виртуальное» (лат. virtus). Geltung – это то, чему мы приписываем ценность независимо от того, на каком материальном субстрате она реализуется. В результате у фактов природы появляется дополнительная значимость, некая ценность, Wert. Метод естественных наук, наоборот, стремится взять идеальное и ценностное в скобки, чтобы это не мешало анализировать нейтральные причинные механизмы. Wertfrei, как называют иногда это неокантианцы, – «бесценностный» метод.
То, благодаря чему появляется культура, это, напротив, конституирование и приписывание событиям ценности. Ценности – это искусство, религия, этика, социальные нормы, которые регулируют отношения… (Риккерт, обобщая, выделяет шесть основных групп ценностей). Важно, что мы, приписывая факту ценность, осуществляем определенный тип деятельности, в результате чего появляется объективное (но не абсолютное) значение. Объективность заключается в том, что ценность значима для многих субъектов (потенциально – для всех) и может передаваться по определенным правилам: я не просто выдумываю что-то, но могу по правилам рационального дискурса убедить других в том, что это и в самом деле – ценность, а не произвол моей фантазии или воли. Механизм кантовской гносеологии объясняет, откуда берется такая возможность: идеальное является потенциально общезначимым и необходимым, и поэтому, если метод работает в данном направлении, мы будем придавать ценности объективную значимость.
Подчеркну, что здесь мало простой конвенции: люди не могут взять и договориться о том, чтобы нечто было ценностью. Такого конвенциализма неокантианцы не предполагают: изначально я создаю то, что вправе претендовать на согласие. В чистом виде Кант описал это в случае с искусством. Никто не обязан соглашаться со мной, что нечто прекрасно, и не обязан то же самое переживать, но когда создается произведение искусства, то в нем заложена эта потенция коммуникации; претензия на то, что другие будут со мной согласны, а уж там – как получится. Но для культуры именно это и важно: с претензией на что я создаю ту или иную структуру.
Вторая школа, марбургская (Коген, Наторп), была более заинтересована естественными науками, и она ищет метод естественных наук. Но именно из нее вырос Кассирер – один из главных философов культуры. Интересно, что Кассирер, анализируя способ, каким порождаются понятия о естественном мире, пришел к идее, что и над культурным, и над природным началом стоит нечто общее, некая активная творческая морфема: символ (в частном случае – миф). И естественные конструкты, а равно и культурные можно рассмотреть как продуцирование на основе фактов некого мифа.
В 1880-е, 1890-е годы появляются мыслители, которые, уже испытав влияние неокантианства, не совсем довольны таким жестким разделением ценностного и природного, культурного и естественного и т. д. Из этих мыслителей для нас самые интересные и важные – Дильтей и Зиммель. Собственно, с них начинается современная философия культуры. Есть, правда, трудность в реконструировании их доктрины. Дильтей так и не успел завершить итоговых работ: многое осталось во фрагментах или недописанным. Зиммель писал чаще всего гениальные, но не очень системные эссе, а его большие книги обычно посвящены великой личности; им много написано про Гёте, про Рембранта, про Канта. Тем не менее попробуем реконструировать хотя бы контуры их учений.
Хронологически первым был Дильтей. Он прошел свой теоретический путь, как отмечают исследователи, по вехам трех ключевых понятий. Начинал он с «психологии». Психология была в его время новорожденной наукой, ее только-только изобрели в 1860-е годы, и она сразу была позиционирована как естественная, а не философская наука. Но Дильтею казалось, что психология может стать базой для объяснения не только душевной жизни, но также истории и культуры, потому что она соединяет потенциал естественной науки (связь причин и следствий) и личностный характер своего предмета. Дильтея особенно волновало то, что XIX в. утратил ощущение живой индивидуальности, с одной стороны, и ощущение мирового целого – с другой. Если представлять сверхзадачу его мира мышления, то это – попытка выявить две утраченные ценности и каким-то образом их соединить.
В раннем периоде своего творчества он пытается создать такой психолого-биографический метод, который помог бы нам понять великих людей и их деяния в контексте своей эпохи. Дильтей был очень заинтересован исследованием литературы, искусства; он пишет книгу о Шлейермахере, о молодом Гегеле. Довольно много у него написано о религиозной жизни ранней Европы Нового времени, о Реформации, о гуманизме. Ему кажется, что в великом человеке можно выявить какие-то ключевые переживания (Erlebnis) и пояснить, почему они стали значимы для эпохи, попытаться вжиться в них, осуществить Einfühlung (правда, сам Дильтей редко употреблял это выражение). Однако последующие интерпретаторы его метода говорят о необходимости вжиться изнутри в мир не обязательно великого – любого человека, чтобы его понять. Как это проверить? Дильтей прекрасно понимает зыбкость критериев «вчувствования», поэтому он отнюдь не предлагает нам просто вживаться в чужой мир, а пытается построить правила интерпретации этого мира, которые имели бы общее значение.
Наука о правилах понимания уже была, и называлась она «герменевтика». В Средние века необходимо было найти объективные критерии того, что мы правильно понимаем Священное Писание. Это дело серьезное: ведь тут речь идет о спасении, о вечной жизни. Так возникает целая наука (да и искусство) экзегетики (разъяснения) и герменевтики (понимания). Потребность в этом искусстве резко обострилась в эпоху раннего протестантизма, потому что для протестантов нет другого пути к вере, кроме как через Писание: ни традиции, ни авторитет клира здесь не помогут, каждый должен читать и понимать сам.
Затем романтик и мыслитель протестантской традиции Шлейермахер создает уже не богословскую, а философскую науку о том, как устроен любой акт понимания. Он, конечно, заинтересовал Дильтея, на новом уровне ставящего все тот же вопрос: какие бы ни были правила толкования, нужен критерий, по которому можно проверить сами правила. Наиболее интересный шаг, который он делает, это попытка представить, что герменевтика не метод перехода от непонимания к пониманию, а переход от первичного понимания, которое есть с самого начала, к более содержательным его стадиям: от состояния к процессу.
Если искать предшественников Дильтея, то можно вспомнить платоновский диалог «Теэтет», который ставит вопрос, что такое истина. Платон нам виртуозно показывает, что истину мы знаем с самого начала, иначе мы не могли бы даже поставить этот вопрос. Мы не знаем, чем ее содержательно наполнить, но что значит истина, мы знаем. Платон открыл возможность первичного понимания. В каком-то смысле Декартово когито тоже имеет к этому отношение, потому что любая возможность любого знания заложена в самосознании. В самосознании чего? Мы ведь даже о себе можем ничего не знать, но самосознание мы, тем не менее, осуществляем и затем начинаем сопоставлять с ним более содержательные акты познания. Дильтей превратил эти философские интуиции в учение о некоторых культурных механизмах и процессах.
Как мы выясняем, поняли мы что-то или не поняли? Для этого, говорит Дильтей, существует бесконечная коммуникация. Она бесконечна, потому что состоит из цепочки предварительных проектов и их коррекции, возможной благодаря общению. Скептик может сказать: если у нас нет окончательной точки опоры, значит нет и критерия понимания, но Дильтей так не считает. Как и для неокантианцев, не конечное состояние, а процесс является для него энтелехией понимания, поскольку он рождает субъектность более высокого порядка: личность, способную к бесконечному развитию и бесконечному общению с другими личностями. В отличие же от неокантианцев (ранних, по крайней мере), он полагает, что акт понимания идентичен для естественных и гуманитарных наук; т. е. герменевтика – это не только понимание одной души другой или понимание исторического факта современником или, наоборот, не современником. Естественно-научное понимание – частный случай такой же интерпретации. Просто в этом случае, по Дильтею, «мой „партнер“ молчит. Я сам задаю вопросы и сам же за него отвечаю». Это открытие Дильтея (или переоткрытие старой истины) объясняет, почему Сократ любил беседы, а Платон писал диалоги вместо того, чтобы написать внятный трактат, как это уже делал Аристотель. Они были уверены, что система «вопрос – ответ» – это и есть мышление. Причем когда я сам себе задаю вопросы, интериорно мыслю, – это все-таки второсортное мышление, а настоящее мышление – это когда я что-то обсуждаю вслух с другими. Здесь к мысли присоединяется жизненная ситуация и личная ответственность за понимание. Не так ли в античной Греции работали и демократические процедуры принятия решений, и судебная система, и институт Дельфийского оракула. А гераклитовские фрагменты разве не так построены? Это и была у греков стихийно сложившаяся герменевтика.
Дильтей, таким образом, понял, что наивный редукционизм XIX в. с его стремлением превратить собеседника в вещь, которой можно располагать, – это не работающий для объяснения культуры метод. Необходима герменевтика бесконечного диалога. Но это лишь первый этап понимания. Второй – это попытка определить, на что можно опереться в процессе выяснения отличия удачной интерпретации от неудачной. Уже Шлейермахер нашел такой способ и назвал «герменевтическим кругом». Он достаточно прост: я сначала беру части, из них складываю целое, но потом, узнав целое, опять возвращаюсь к частям и прочитываю их сквозь призму целого. Проделав это, я понимаю, что целое опять изменилось, и этот круг начинает вращаться. Он вообще не должен останавливаться: это и есть адекватная интерпретация.
Дальше Дильтей пытается сделать следующий шаг, желая понять, что же такое искомое целое. Мы знаем априори, что целостность – это Zusammenhang, совокупность. Иногда Дильтей говорит «Totalität» – тотальность. Фактически тотальность дана нам в процессе жизни. Жизнь – это всегда есть стихийно складывающаяся тотальность. Во второй период своего творчества Дильтей переходит к новому концепту – к концепту жизни в широком смысле этого понятия. Беду всех прошлых методов понимания он видит в том, что они для понимания объекта должны были его умертвить, превратить в мертвую, пассивную структуру. А реальная ситуация – даже в естественных науках – это всегда многоконтекстный диалог людей друг с другом и с предполагаемым целым, в которое они встраиваются. Именно по этому поводу Дильтей и произносит свою афористичную фразу о том, что в естественных науках мы объясняем, а в науках о духе мы понимаем. Это совершенно разные процедуры. Объяснить – значит поместить факт в сетку общих понятий, а понять – значит воспроизвести внутренне то, как чужое «я» видит мир. Действие по воспроизведению на самом деле и есть ключевой момент: это не идея, не картинка, а именно способ, которым люди что-то делают, умственно в том числе.
Мы здесь вправе вспомнить еще одного мыслителя – Дж. Вико, который сказал, что наука о делах человеческих возможна потому, что у нас есть представление о том, как делается человеческий мир: усилиями воли, мысли, поставленными целями. Важно, что я знаю, как это делается, и реконструирую это же в других. И все же, если я строю науку, я должен научиться хотя бы временно отличать понятое от непонятого. И Дильтею в последний период своего творчества понятие жизни уже кажется не очень функциональным. Оно хорошо тем, что описывает эти пресловутые контексты, по отношению к которым все остальное – уже деление на части, но искомый нами критерий отличения понятого от непонятого здесь отсутствует.
Дильтей переходит к понятию духа, казалось бы скомпрометированному XIX веком. Для него это теперь синоним слова «культура». В самом деле, в отличие от «души», о «духе» говорят тогда, когда появляются его определенные объективации, позволяющие ограничить психологический произвол. Теперь у Дильтея появляется новый идейный союзник – Гегель, на которого он отныне часто ссылается. В 1883 г. Дильтей пишет «Введение в науки о духе». Как всегда у него, эта работа осталась недописанной, но это уже начало новой эпохи. С этого момента он пытается выстроить некую универсальную структуру самопонимания культуры, индивидуумов.
Почти перед смертью Дильтея, в 1910 г., появляется его работа «Строение исторического мира в науках о духе» („Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften“). Такова поздняя формулировка герменевтического предмета. (Ранняя формулировка его задачи выглядела как написание «критики исторического разума», на манер Канта.) Именно этот вариант оказался чрезвычайно влиятельным. В 1920-е годы Хайдеггер прочел поздние работы Дильтея и был потрясен. Да и не только он. Работа открыла новые горизонты и новые возможности. Например, возможность сблизить герменевтику с феноменологией, которую успел в конце жизни осознать и сам Дильтей. Есть еще один документ его поздней теоретической эволюции Дильтея: переписка с графом Йорком фон Вартенбургом, опубликованная после смерти Дильтея. Из переписки, в которой Йорк не уступает в интеллектуальной силе Дильтею, хорошо видно, что идеи нового понимания исторической темпоральности пропитывали атмосферу эпохи. (Хайдеггер цитирует переписку в своей книге «Бытие и время».) В 1890-е годы у Дильтея был острый спор с психологами. Один из классиков психологии, Г. Эббингауз, темпераментно объяснил Дильтею, что его герменевтика – это бесперспективная псевдонаука. В то же время граф Йорк подталкивает его к иному решению. С его точки зрения, псевдонаука – это как раз современная психология с ее утратой чувства историчности: надо не отказываться от истории, а, наоборот, пойти дальше и посмотреть, что делает историю историей, а не просто цепочкой событий.
Поздний Дильтей лозунгом своего метода делает триаду «переживание – понимание – выражение». Переживание, чтобы стать фактом культуры (идеей, текстом, поступком, институтом), должно получить знаковую оболочку. В этом случае оно становится выражением – посредником, который допускает участие в себе субъектов переживания и ставит предел произволу толкований. Отсюда начинается движение к тому, что Дильтей назвал «универсальной историей»: к такому измерению историчности, в котором интегрирующей силой являются не абстрактные универсалии, а сама целевая деятельность агентов истории. Поскольку она идентична во всех субъектах «универсальной истории», открываются перспективы искомой «науки о духе». Гегелевский «объективный дух», интерпретированный в категориях «выражения» и «значения», становится также категорией Дильтея.
В итоге Дильтей так представляет себе цепочку интерпретаций: 1) есть «переживание», первый уровень, или уровень целостности, поскольку он имеет дело с жизненным миром (мы здесь имеем право воспользоваться концептом позднего Гуссерля, так как само аналогичное представление есть у Дильтея); 2) переживания становятся «выражениями» благодаря знаковым системам, которые закрепляют значимые переживания и делают их транслируемыми; 3) «понимание» объясняет, каким образом переживание так связано с выражением, что мы в состоянии этот комплекс передавать другим. Итак, Дильтей весьма далеко отходит от своих ранних опытов по вживанию в иной духовный мир. Теперь перед нами – именно наука: наука о культуре, которая предлагает вместо растворения в «чужом» интенсифицировать «свое» и тем самым достигнуть «объективности» духа, не редуцируя дух к природе. Другими словами, вместо того чтобы стремиться к культуре как к некой объективной эрзац-природе, нужно включить природное в историческое, сделать культуру открытой и потому не субъективной системой. Здесь Дильтей, несомненно, осуществил прорыв.
Второй создатель новой философии культуры – Зиммель. Он начинал как неокантианец; вместе с Максом Вебером и Дюркгеймом создал новую социологию. Но осуществляя революцию в социологии, он понял, что средой и почвой для всех социальных и индивидуальных феноменов является культура. Зиммель убеждается, что в процессе рождения культуры работают три силы, а именно: 1) природа, независимая от культуры; 2) дух, который выдвигает вопреки природе свои ценности и идеалы, и 3) продукт взаимодействия природы и духа – это культура как застывшая форма, которая фиксирует каждую стадию их взаимодействия. Поскольку эти силы постоянно побеждают друг друга и пересматривают заключенные соглашения, то в итоге получается история культуры. Ситуация эта драматична, а строго говоря, даже трагична: именно так ее описывает Зиммель. Как известно, отличие трагедии от драмы в том, что в драме сталкиваются добро и зло, а в трагедии добро сталкивается с добром, и в этом – безвыходность ситуации. Но, по Зиммелю, именно так устроена эта триада, потому что все эти силы имеют свою правду: в природе – жизнь, в духе – ценности, а в культуре – формулы их временного примирения. Современный мир, как пишет Зиммель, это уже борьба не с временными договорами между означенными силами, а с самим принципом договора. Об этом рассказывает его работа «Конфликт современной культуры».
Вторая важная интуиция, о которой Зиммель начинает писать уже в 1890-е годы, – это применение на практике того идиографического метода, о котором неокантианцы только писали, но который сами почти не реализовали. Зиммель показал, как это сделать. Он первым начинает писать о том, о чем философы культуры не писали никогда (может быть, только Монтень в этом отношении как-то сопоставим с Зиммелем): о руинах, о женской моде, о спорте, о приключениях и т. д. Зиммель издал сборник эссе, который назвал «Философская культура» (иногда неправильно переводят как «Философия культуры»), и показал в нем, что через микроанализ микрофеноменов можно увидеть очень большие и очень серьезные процессы и морфемы. Это был настолько новаторский подход, что он остался почти незамеченным. Но теперь мы видим, что это – гениальные очерки описания культурных морфем. Первым таким зиммелевским опытом были не эссе, а солидная книжка, вышедшая в 1900 г., – «Философия денег». Это совсем не политэкономическая работа, а рассказ о том, как знаковая система денег становится символом и шифром, через которые можно прочесть эпоху с ее предпочтением абстракций живым человеческим отношениям.
Освоение Зиммелем новых для культурфилософии тем связано с его версией философии жизни. В каком-то смысле он делает шаг назад, к Шопенгауэру, уже полузабытому в начале XX в. Шопенгауэр учил, что изначальная воля реализует себя в материи (жизнь) и в идеальных формах (культура). Шопенгауэр подчеркивал, что культурные формы не имеют другого смысла, кроме как самоструктурирование жизни, которая не хочет быть бесформенным континуумом. Воля хочет волить все в большей и большей степени, и для этого она должна себя, как это ни парадоксально, ограничить формами. Формы помогают воле и жизни стать силой более высокого порядка, но они же ее в какой-то момент начинают ограничивать: когда они становятся старыми и косными, жизнь начинает с ними борьбу.
Если для Шопенгауэра интересней рассматривать этот сюжет на биологическом материале, то Зиммель видит его в культуре, особенно – в ее малых формах. Здесь надо учесть и влияние на него Маркса. (Дильтей просто не заметил Маркса, но для Зиммеля был важен не только Маркс, но и целый круг мыслителей, использовавших некоторые идеи Маркса.) Во-первых, Маркс изобрел жанр рассказа о том, как производительные силы меняют производственные отношения. Для Зиммеля это вполне «рифмовалось» с Шопенгауэровой историей манифестаций воли. Во-вторых, Марксу принадлежала идея товарного фетишизма, т. е. наполнения вещи символами социально-экономических отношений. В-третьих, у раннего Маркса была идея отчуждения продуктов труда и процесса труда от труженика. Зиммель, не особенно ссылаясь на Маркса, исследует все эти процессы символических воплощений смыслов и воли в культуре. Это и заставило его изучать очень конкретный материал: моду, любовь, женское движение, деньги.
В отличие от всех прошлых философов жизни, Зиммель говорит, что никакого развития в мире форм нет: каждый раз жизненная энергия оформляется здесь и сейчас в данных формах, но потом жизнь радикально меняется, и эти неразвивающиеся формы становятся ненужными. Жизнь даже не всегда с ними борется; она может их обходить, игнорировать, а когда становится достаточно сильной, просто сметает их. В какой-то момент формы начинают терять свою главную функцию: они не артикулируют жизнь, а мешают ей. И это уже трагедия современной – да и всякой – культуры, потому что примирить эти две силы невозможно: дух и жизнь разнородны. Специфическая же проблема современности, по Зиммелю, в том, что наша культура находится в тупике, потому что она начинает уничтожать сам принцип формы. Раньше она боролась с устаревшими формами, но теперь сам принцип формы мешает жизни. Здесь у Зиммеля очень тонкий социологический и культурфилософский анализ болезней современности. Он видит, что непосредственное выражение жизни оказывается достаточно сильным, а иногда и самодостаточным. Зиммель, в отличие от всех романтиков и неоромантиков, считает, что это плохо. Он – один из немногих, кто жестко критикует принцип непосредственности, тогда как весь XIX в. – это критика лицемерной, фальшивой культуры и воспевание непосредственности во всех видах: от культа наивной простоты до культа гения.
Зиммель увидел большую трагедию в том, что непосредственность рано или поздно начинает уничтожать не только устаревшие формы, но и все формы культуры. Он показывает, что борьба непосредственного за самоутверждение оказалась успешной, потому что ее импульс совпал с ослабеванием культурных форм: они выдохлись, устарели, а культура, вместо того чтобы искать новые, сказала, что можно обойтись и без них. Происходит тонко отмеченное Зиммелем расслоение на два полюса. На одном полюсе – формы культуры, которые стали еще сильнее; они усложнились, дифференцировались, возвысились, но и герметически замкнулись; они стали работать сами на себя. Это замкнутый мир высокопрофессиональных культурных игр. Что-то подобное культура знала уже в эпоху александрийства в античности, или в эпоху поздней схоластики, но там все-таки была потребность в обновлении, а вот теперь, по Зиммелю, ее нет: элитный мир просто замкнулся в себе и живой культуре он больше не нужен.
На другом полюсе – культура низкая, массовая, она начинает работать сама на себя, не нуждаясь в высоких образцах. Но здесь приходит в действие, если употребить не зиммелевское мотто, принцип энтропии. Побеждает наиболее вероятное состояние; сложное и насыщенное энергией уступает простому, рассеивающему энергию и т. д. Значит, эта эпоха непосредственности будет вырождаться и преимущественно выбирать те системы, где нужно меньше энергии и труда, интеллекта, формы и где больше прямого выплеска эмоциональной энергии. Зиммель считает, что это очень опасно; и не потому, что плохо (плохое можно пережить, регенерируя формы), а потому, что эта система на самом деле жизнеспособна; она может работать, расколов элиту и низы, достаточно долго. Тут работает новая сила, которой, как кажется Зиммелю, раньше не было: это работа эффективных абстракций, опустошающая мир. Принцип непосредственности, как ни странно, прекрасно работает с формами. Просто ему нужно их опустошить и дальше работать так, чтобы они ему не мешали и ни к чему не обязывали.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































