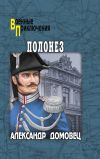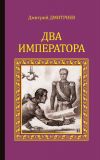Текст книги "Орлы Наполеона"

Автор книги: Александр Домовец
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Я сразу установил за Гурго негласное плотное наблюдение. Выяснилось, что генерал поддерживает тесные отношения с двумя другими наполеоновскими генералами – Бертраном и Монтолоном. Они переписываются, иногда встречаются.
– Очень интересно! Если не ошибаюсь, все трое были адъютантами узурпатора и приняли его последний вздох на острове Святой Елены?
– Совершенно верно, сир. За ними также установили наблюдение. Выяснилось, что все трое ведут частную жизнь и вроде бы ни во что не вмешиваются. Но, с другой стороны, все они активно, из года в год, разъезжают по стране, много встречаются с людьми…
– Что за люди?
– Главным образом бывшие офицеры и чиновники Наполеона, пострадавшие от его падения. Есть также коммерсанты и финансисты, сделавшие состояние на поставках для армии узурпатора. Такой, знаете, избранный круг отъявленных бонапартистов, сир. Но не только. Мои агенты установили, что два месяца назад гостями Монтолона стали несколько оппозиционеров – либеральных депутатов распущенного парламента. А Гурго и Бертран не раз общались с действующими офицерами вашей армии.
– Вот как? О чём же генералы беседуют на этих встречах?
– Таких сведений получить пока не удалось. А сейчас, в связи с наступившими событиями, уже и не до этого. Но меня, сир, не оставляет одна мысль… Вернее, предположение…
Министр замолчал, словно не решаясь высказать анонсированную идею.
– Смелее, граф, – подбодрил король. – Я весь внимание.
– Вы совершенно правы, сир, восстание развернулось чрезвычайно быстро, – негромко произнёс Лабурдоннэ. – Больше того: ощущение, что оно хорошо спланировано и кем-то управляется. Словно за спиной простолюдинов на баррикадах стоя́т стратеги, знающие толк в военных операциях. И кто-то ведь надоумил наших солдат переходить на сторону народа…
– Делайте же ваш вывод!
– Определённого вывода нет, сир. Но разве нельзя предположить, – с долей фантазии, конечно, – что трое ближайших сподвижников Наполеона, фанатично преданных и бывших с ним до конца, увезли со Святой Елены ненависть и неистребимую жажду мести? И теперь они приняли живейшее участие в мятеже, цель которого очевидна, – свержение династии Бурбонов? (Лицо Карла болезненно скривилось.) Более того, сами его и готовили, опираясь на многочисленных бонапартистов? Но если так, то им оставалось лишь дождаться, пока власть даст повод для народного возмущения. И власть его дала…
– Вы имеете в виду…
– Да, ваше величество. Злосчастные ордонансы. – Неожиданно Лабурдоннэ упал на колени. Вскрикнул: – Заклинаю всем святым, сир, отзовите их! Может быть, ещё не поздно! Может быть, нам удастся успокоить народ! Неужели ужас восемьдесят девятого года изгладился из вашей памяти?
От усталости и отчаяния бледного министра била нервная дрожь. Карл силой заставил его подняться и усадил на стул. Налил фужер вина.
– Выпейте залпом. Вот так! И посидите спокойно.
Сев за стол, король принялся что-то быстро писать на собственном именном бланке. Лабурдоннэ отрешённо смотрел на Карла. В эту минуту красивое удлинённое лицо монарха с упрямым подбородком было исполнено решительности, большие глаза прищурены, густая прядь поседевших волос энергично пересекла высокий лоб… Таким и запомнил министр своего короля, которого, – о том знать он не мог, – видел в последний раз.
Закончив писать, Карл тщательно сложил и запечатал бланк.
– Отвезите это Полиньяку, – сказал отрывисто, протягивая графу письмо. – Пусть он стягивает верные части к Сен-Клу.
– Но как же, сир…
– А ваш совет насчёт ордонансов я обдумаю.
«Господи, когда он собирается думать? Времени уже ни на что нет…»
– И ещё…
Карл подошёл вплотную и, понизив голос, произнёс:
– Всё, что вы сказали насчёт бывших адъютантов Наполеона, звучит убедительно. Так это или не так, сейчас разбираться некогда. Но вы мне их головы доставьте. И чтобы не позднее завтрашнего дня. Вам ясно, граф?
– В каком смысле, головы? – глупо переспросил Лабурдоннэ.
– Можно в прямом.
И, словно смягчая жестокую шутку, Карл широко улыбнулся.
«Ещё шутит! Тут бы свои уберечь… Или не шутит?»
Лабурдоннэ склонился в почтительном поклоне и, с трудом передвигая ноги, направился к выходу. Выполнять приказ монарха он вовсе не собирался.
Через пять дней Карл Десятый под давлением оппозиции и народа отрёкся от престола. На этом правление династии французских Бурбонов завершилось. Навсегда.
Лабурдоннэ вместе с другими членами правительства Полиньяка арестовали. Он так никогда и не узнал, что природу восстания, в общем-то, угадал верно. Однако даже проницательный министр не мог представить всей правды…
Глава четвёртая
Непризнанный художник – человек озлобленный…
Мечта заявить о себе на творческой ниве не сбылась. Общество равнодушно к его искусству. Миру не нужны выстраданные им картины, книги, симфонии. Взлёты ума, порывы вдохновения, душевные муки, бессонные ночи – всё, всё брошено на алтарь Минервы[15]15
Минерва – богиня мудрости и искусства в Древнем Риме.
[Закрыть]. И всё втуне.
Неутолённая жажда признания выжигает душу дотла. А где-то рядом аплодируют чьей-то музыке, зачитываются не твоими книгами, восхищаются чужими полотнами… Сознавать это невыносимо.
Кого винить? Кому мстить?
Роман Прокофьевич Звездилов принялся рисовать лет в пятнадцать. А уже в шестнадцать – погиб. В роли губителей выступили родные мать с отцом, сестра, дворня и ближние соседи, наезжавшие в хлебосольное имение Звездиловых. Все в один голос (кто искренне, кто снисходительно) хвалили работы отрока, рисовавшего взахлёб. Наслушавшись комплиментов, юный Роман твёрдо решил, что он – талант и что искусство – его призвание, о чём и сообщил родителям в самых восторженных выражениях.
Те, впрочем, смотрели на жизнь более трезво. Сына определили на правовой факультет университета, а после учёбы пристроили в крупную нотариальную контору. Годы юридической службы Звездилов потом вспоминал как затянувшийся дурной сон – тоскливый и бессмысленный.
Рисовать приходилось исключительно вечерне-ночной порою. Тем не менее страсть к искусству никуда не делась, напротив, с годами она становилась только сильнее. Горько думалось, что присутствие, посетители и документы крадут время, которое можно было бы посвятить живописи. И так сладко мечталось, что придёт день, когда с утра, напившись кофе, он вместо опостылевшей конторы твёрдым шагом устремится в собственную мастерскую – творить…
Между делом Роман Прокофьевич женился. Избранницей стала девушка, которая на званом вечере, заикаясь от волнения, похвалила вдохновенный рисунок, оставленный молодым человеком в её альбоме. Звездилов решил, что нашёл родственную душу, и без колебаний сделал предложение. Правда, следом выяснилось, что девушка вообще заикается. Но слово уже было дано…
Родители ушли в один год – друг за другом. Роман Прокофьевич унаследовал недурное имение, приличный счёт в банке и наконец-то расстался со службой. Теперь ничто не мешало отдаться живописи. И он ей отдался со всем нерастраченным творческим пылом. В уездной лавке, торгующей предметами искусства, до сих пор бережно хранят легенду о покупателе, который однажды возник на пороге и, пылко сверкая очами, смёл весь наличный запас кистей и красок, не забыв при этом про карандаши, альбомы и мольберт. Погрузил покупки в экипаж и с криком: «Трогай!» унёсся в цветущую весеннюю даль. (По другой версии, в заснеженную зимнюю.)
Теперь дело было за вдохновением, и оно не подвело. Избавленный от забот о хлебе насущном (к слову, приданое за женой-заикой взял изрядное), Звездилов без устали рисовал всё, что попадётся под руку. Героями его полотен становились люди и предметы, природа и животные. Сначала картины развешивали на первом этаже дома, потом дело дошло до второго, а затем наступила очередь хозяйственных пристроек. Роман Прокофьевич щедро дарил свои работы знакомым, дальним родственникам, даже бывшим сослуживцам, но полотен вроде как и не убывало.
Шли годы. Со временем Звездилов начал смутно ощущать что-то неладное. Счёт написанных работ уже шёл на пуды. Жена с тёщей от его картин по-прежнему были без ума, хватало комплиментов и от соседей, но… где же общее признание? Где газетные заметки и восхищённое обсуждение в обществе? Где, наконец, покупатели и заказчики?
Роман Прокофьевич занялся организацией собственных выставок. Его передвижной вернисаж кочевал по уезду, останавливаясь на постой во всех заведениях, где только соглашались принять. Общество друзей пожарных, церковно-приходская школа, дом призрения, самодеятельный театр… Со временем Звездилов географию расширил и начал гастролировать со своими картинами в окрестных городах. И рисовал, рисовал…
Однако ничего не менялось. Творчество Звездилова оставалось вещью в себе. Профессиональные художники, которым он показывал свои картины, пожимали плечами и уклончиво хвалили за трудолюбие. В салонах, где он увлечённо говорил о своих полотнах, вежливо переводили беседу на другие темы. Число посетителей выставок уверенно стремилось к нулю.
Многолетняя бесплодная борьба за признание не прошла даром. Мало-помалу Звездилов озлобился. Он и мысли не допускал, что его картины просто-напросто бесталанны и поэтому никому не интересны. Чёрта с два! Воспалённый ум подсказывал иную причину: интриги. Интриги собратьев по кисти! Это они, давясь от зависти, хулят искусство талантливого художника, высмеивают его работы, распускают слухи о творческой несостоятельности…
Но было и другое объяснение. Он, Звездилов, силой и масштабом дарования опередил своё время. Его просто-напросто не понимают… Думая об этом, Роман Прокофьевич проклинал недалёких современников и горько жалел себя. Слава будет, непременно будет, но – посмертная. А хотелось прижизненной!
Хоть так, хоть этак, – дело швах. Но упорный Звездилов не сдавался. За признание своего творчества он был готов биться энергично и беспощадно. Состоялся решительный штурм академии художеств. Президент академии Белозёров принял его, против ожидания, быстро и выслушал сочувственно. Однако, ознакомившись с привезёнными (отборными!) полотнами Романа Прокофьевича, поскучнел. Осторожно высказал несколько профессиональных замечаний и согласился провести за счёт академии художественную экспертизу работ.
Консилиум мастеров единодушно решил, что в картинах Звездилова искусство и не ночевало (хотя сформулировали в более мягких выражениях). Роман Прокофьевич был потрясён. Неужели хула недоброжелателей успела достичь столицы и повлияла на выводы экспертов? Оставалось одно: провести выставку работ в академии (а такие вернисажи традиционно собирали большую аудиторию), и пусть своё слово скажет публика – народ, далёкий от профессиональной кухни с её интригами и дрязгами. Вот это будет объективно!
О, как Звездилов возжелал этой выставки… Но Белозёров идею встретил холодно. Напрасно преисполненный жёлчи Роман Прокофьевич обивал порог президентского кабинета. Кончилось тем, что Белозёров наотрез отказал в проведении вернисажа и фактически назвал бездарностью. И это стало последней каплей. Уходя, Звездилов с мутной от гнева головой матерно пожелал Белозёрову провала его парижской экспозиции, о которой сообщали столичные газеты. Яростно хлопнул дверью. Мосты к признанию по линии академии были сожжены.
Отныне всю ненависть, на которую только способен непризнанный и поруганный демиург[16]16
Демиург (др. – греч.) – творец, создатель.
[Закрыть], Роман Прокофьевич сосредоточил на Белозёрове. Убить бы его на дуэли… но, по наведённым справкам, тот как бывший гусарский офицер, в отличие от Звездилова, был дуэлянт искушённый и опытный. Сам убьёт. А ненависть, между тем, жгла душу и требовала выхода. Звездилов вставал и ложился с мыслями о мести – жестокой и беспощадной. Но какой?
Постепенно в голове созрел некий план. Для начала Роман Прокофьевич вслед за Белозёровым устремился в Париж, где уже не бывал давненько. Он был уверен, что выставка непременно провалится. Уж кто-кто, а французская публика с её тонким вкусом и стремлением к новизне не примет картины, созданные в классической манере. Убого! Скучно! Это вам не импрессионизм… Звездилов мечтал увидеть позор Белозёрова и великодушно, свысока, посочувствовать обескураженному обидчику. Тогда можно было бы считать, что месть состоялась.
Но вышло иначе. Выставка произвела фурор. Конечно, этому в известной мере способствовал скандал, устроенный бонапартистами на открытии, но всё же, всё же… Представляя торжество Белозёрова, Звездилов пил коньяк, не пьянея, и сходил с ума от ярости. Внутри всё клокотало – до головокружения, до потери чувств. Очередной успех, международное признание, восторг прессы… И кипельно-белый конь, на котором восседает Белозёров, будь он трижды проклят!
Гостиничный номер Звездилова был завален парижскими газетами, которым, кажется, нечего было публиковать, кроме заметок о выставке русской живописи. Некоторые из них поместили интервью с Белозёровым. Художник говорил о желании создать несколько полотен на французские темы. С этой целью он в ближайшие дни выезжает в провинцию, где будет писать средневековый замок и живописные виды близ коммуны Сен-При-Ла-Рош. Там и поживёт недели три…
– Стоп! – выкрикнул вдруг Звездилов.
Отбросив «Нувель де Пари», он залпом допил стакан. Рухнул в кресло. Рассудок, затуманенный ненавистью и спиртным, заработал – хаотично, лихорадочно. Белозёров хочет писать средневековый замок? Природные виды? Будет ему и замок, и природа…
Вызвав звонком портье, Звездилов попросил найти ему географический справочник Франции и расписание поездов. А ещё поручил отнести на почту телеграмму в Россию. В ней Роман Прокофьевич сообщал жене, что задержится в Париже ещё недели на две-три.
Выпроводив портье, Звездилов принялся укладывать вещи. Он был, как в тумане, и свои дальнейшие шаги пока представлял смутно. Однако с каждой минутой план действий складывался в голове всё четче…
А тем временем Белозёров со своей небольшой свитой, состоявшей из Фалалеева, Долгова и Марешаля, ехал в Ла-Рош.
Недолгое путешествие из Парижа прошло приятно. До Орлеана доехали первым классом, в удобном вагоне с мягкими креслами. На небольшой привокзальной площади, зажатой между плотно стоящими трёх-четырёхэтажными домами, заботой Марешаля их ожидал просторный экипаж, запряжённый парой гнедых лошадок. По старой гусарской привычке Сергей машинально оглядел их и остался доволен: коренастые, крепкие. В атаку на таких, вестимо, не поскачешь, но куда надо, довезут исправно. Тем более, по французским-то шоссе.
Наполеон в начале века накрыл империю превосходной дорожной сетью, что, впрочем, потом против него же и обернулось. В тысяча восемьсот четырнадцатом году по этим трактам русские, австрийские и прусские корпуса наступали на Париж форсированным маршем, и все отчаянные усилия императора остановить их оказались тщетными. Какие сражения кипели здесь несколько десятилетий назад…
– О чём задумались, Сергей Васильевич? – поинтересовался Фалалеев, выглядывая из окна экипажа.
Энергичный Семён Давыдович уже проследил, чтобы кучер уложил багаж путешественников, и теперь, томясь нетерпением, торопил спутников.
– Да так, ничего особенного, – рассеянно откликнулся Сергей.
Не объяснять же Фалалееву, что вдруг представил он поле битвы, на котором русские кавалеристы столкнулись в безжалостной сече с наполеоновскими полками. И он, Белозёров, на вороном коне, с саблей наголо, сшибается с французским драгуном в ярко-красном доломане и яростно рубит его в капусту! А потом мчится дальше, в самую гущу сражения, увлекая за собой отважных товарищей-гусар…
Почему-то в последнее время всё чаще вспоминалась военная юность. Вспоминалось Николаевское училище, родной Киевский гусарский полк вспоминался. О несбывшейся офицерской карьере Сергей не жалел, но мысли о давней службе приходили светлые, и были они подёрнуты печалью. Жизнь в разгаре, главное (хочется верить!) впереди, но многое уже и не повторится. Раньше он об этом как-то не задумывался, безоглядно шёл вперёд, а теперь душа нет-нет да и загрустит по ушедшему безвозвратно. Стареет, что ли?..
Но, впрочем, невесёлые размышления вскоре сменились более приятными. За окном экипажа проплывали аккуратные пшеничные поля, в конце апреля уже тронутые озимой зеленью. Кучер посвистывал и время от времени щёлкал кнутом, но больше для порядка – гнедые и так шли уверенной ровной рысью. Покачиваясь на мягких каретных подушках, Сергей с удовольствием предвкушал будущую работу. Напишет древний полуразрушенный замок на воде и деревушку напишет – уютную, с мощёными улочками, с красивыми домами, не соломой крытыми. Рассказывали ему, что французские сёла на русские совсем не похожи. Живут здесь богаче и чище. Европа…
Ехали с остановками часов пять, и наконец вечером вдалеке завиднелась огни коммуны Сен-При-Ла-Рош. Последняя верста пролетела быстро. Придерживая лошадей, кучер аккуратно въехал в деревню. Уже стемнело, и путь в гостиницу пролегал по узкой улочке, между светляками домашних окон. Насколько Сергей рассмотрел в прохладных сумерках, дома здесь были серокаменные, под шапками из буро-коричневой черепицы.
На пороге гостиницы «Галльский петух» их встретили немолодые мужчина с женщиной, – надо полагать, хозяин с хозяйкой. Марешаль, первым выскочивший из экипажа, обменялся с ними несколькими фразами.
– Приветствуют и спрашивают, как доехали, – пояснил он. – Я сказал, что всё хорошо.
Дюжий слуга, стуча сабо[17]17
Сабо (фр.) – башмаки, выдолбленные из дерева.
[Закрыть], вместе с кучером отнёс чемоданы и саквояжи путников в гостиницу.
«Галльский петух» был длинным двухэтажным зданием с выбеленным фасадом и аляповато исполненной вывеской, запечатлевшей боевую птицу. Первый этаж занимал трактир, словно сошедший со страниц «Трёх мушкетёров». Стены были увешаны начищенными до блеска сковородками, связками лука и пучками пряно пахнущих трав. В глубине обеденного зала горел большой камин. Из настежь распахнутой кухонной двери доносились ароматы жареного мяса, овощей и каких-то приправ.
Сергей с любопытством осмотрелся. За грубо сколоченными столами без скатертей сидели десятка полтора селян в коротких куртках поверх рубах и длинных узких штанах, громко разговаривали, пили вино из деревянных кружек и хлебали варево из глубоких глиняных мисок. У многих были трубки, и дымили они беспощадно, до сизого тумана под низким потолком обеденного зала. Грубые лица и натруженные руки – точно такие же, как у русских землепашцев… Крестьянское дело одинаково тяжело повсюду.
При появлении незнакомцев разговор смолк. Сергей почувствовал на себе изучающие хмурые взгляды и внутренне поморщился.
– Неласково смотрят, – тихонько сказал Фалалеев.
– А чего ты ждал? В деревнях чужаков не любят, – заметил Сергей, пожимая плечами. – Хоть в русских, хоть в каких угодно. Нам-то что?
Оставив Марешаля с Фалалеевым общаться с хозяином и вносить задаток, Белозёров и Долгов по скрипучей лестнице поднялись на второй этаж. Их сопровождала хозяйка. Здесь, собственно, и располагалась гостиница, состоявшая всего из нескольких комнат. Хотя, если разобраться, для глухого уголка, не избалованного приезжими, вполне достаточно.
Против ожидания, номер оказался довольно сносным. В просторной комнате было всё необходимое: стол, пара стульев, платяной шкаф, обширная кровать. На комоде стоял жестяной таз для умывания вместе с кувшином, там же примостился шандал с тремя свечами. На стене висело большое распятие. Ну да, католики же.
Через четверть часа в комнату постучал вездесущий Фалалеев.
– Что делаете, Сергей Васильевич? Раскладываетесь? Бросьте и пошли вниз. Нас на ужин приглашают, – бодро сообщил он.
Как выяснилось, постояльцев кормили на первом этаже, но не в общем зале, а в отдельной выгороженной комнате. Здесь было чисто, длинный общий стол украшала светло-серая скатерть, а на деревянных стульях примостились мягкие подушечки для сидения. Стеклянные бокалы, фарфоровые тарелки и металлические столовые приборы словно подчёркивали, что трактир – это одно, а гостиница – совсем другое, к постояльцам тут относятся с пиететом и честью заведения дорожат.
Марешаль с Долговым уже сидели за столом и беседовали с мужчиной и женщиной, расположившимися напротив. Увидев Сергея, француз поднялся.
– Позвольте вам представить русского живописца мсье Белозёрова и его помощника мсье Фалалеева, – несколько церемонно сказал он, адресуясь к собеседникам. – Мы все участники одной, так сказать, художественной экспедиции.
Сергей с Фалалеевым слегка поклонились.
– А это наши соседи по гостинице, – продолжал Марешаль. – Мсье и мадам Лавилье.
Мсье и мадам? Муж и жена? Сергей-то было решил, что перед ним отец с дочерью.
Мужчина медленно, словно с трудом привстал и наклонил голову. Было ему лет за пятьдесят, и ничего интересного в нём не наблюдалось. Высокий, худощавый, гладко выбритый. Лицо невыразительное, отличающееся разве что нездоровым, каким-то блёклым цветом и устало полуприкрытыми глазами. Одет в приличный костюм, который явно знавал лучшие времена. И запонки на манжетах дешёвые. Небогат мсье Лавилье, заметно, что небогат…
Его супруга была не в пример интереснее.
Она выглядела намного моложе мужа – лет тридцать пять, не больше. Чуть курносый нос придавал приятному облику что-то милое и девически-простодушное. Взглядом художника Сергей мгновенно схватил в лице мадам Лавилье главное – контраст между белокурыми локонами и большими чёрными глазами, опушёнными длинными ресницами. («Очи чёрные», – мелькнуло в уме.) Контраст этот придавал ей то, что французы именуют шармом, сиречь очарование. Синее платье из недорогого муслина плотно облегало красивую фигуру и очень шло ей, как и скромная шёлковая косынка, скрывавшая декольте.
На стол подавала хозяйка заведения (по словам Марешаля, мадам Арно), дородная широколицая женщина в белом полотняном чепце и в белом же переднике, опоясавшем мощные чресла. Выпили по бокалу вина за знакомство и приступили к луковому супу. Знаменитое французское блюдо Сергея разочаровало. Ничего хорошего в пустой похлёбке из лука, кроме покрывавшей её сырной корочки, он не ощутил. Зато тушённый в красном вине кролик был хорош. И поданный на закуску сыр пришёлся по вкусу.
– У них тут кухня своеобычная, – заметил разомлевший после третьего бокала Фалалеев. – Наслышан, да-с. Надо будет завтра лягушек спросить.
Марешаль хмыкнул и выразил мнение, что борьба русского желудка с французской лягушатиной закончится плохо. «Ну, вы понимаете… Закажите что-нибудь попроще. Например, улитки…»
Попивая приятное, немного терпкое вино (как пояснила хозяйка, с местных виноградников), Сергей заметил некую странность. Сидевшая напротив очаровательная мадам Лавилье нет-нет да и поглядывала на одного из присутствующих мужчин, однако не на него. Это-то и было странно. Себе и своей внешности Сергей цену знал. Со времён гусарской юности он в любой компании привык к дамскому вниманию и ласковым женским взорам. И это, что скрывать, ему нравилось. Быть верным мужем не означает быть совершенным монахом…
Но сейчас мадам Лавилье почему-то украдкой смотрела на Марешаля. Самое интересное, что и Марешаль время от времени искоса смотрел на неё и, встретившись глазами, отворачивался. Впечатление, что интересуются друг другом, однако интерес этот скрывают.
То же самое заметил и подвыпивший Фалалеев. После ужина, покуривая во дворе, импресарио игриво ткнул в бок француза, с которым уже был накоротке:
– А что, Гастон, хороша бабёнка? – спросил, вкусно затягиваясь.
Марешаль очень естественно изумился.
– Ты о ком? О мадам Лавилье?
– Ну, не о хозяйке же. Не притворяйся! Эк вы глазки друг другу за ужином строили. Можно сказать, амуры…
Долгов засмеялся. Марешаль пожал плечами:
– Это, Семён, тебе показалось. Мадам недурна, кто спорит, однако она замужем, и муж рядом… Какие там амуры!
Из дверей гостиницы вывалилась троица подвыпивших крестьян. Не обращая внимания на Сергея со товарищи, они дружно устремились в ближние кусты, откуда сразу же донеслось нестройное журчание. При этом пьянчуги громко обсуждали какую-то красотку Мари, которая ломается, как сдобный пряник, и всё ждёт какого-то принца. Тоже, принцесса… А чего ждать? На сеновале важна не корона, а мужское достоинство! Обсуждение сопровождалось взрывами дикого хохота.
Сергей брезгливо нахмурился. Справлять нужду чуть ли не на глазах окружающих – дело скотское. Вот тебе и Европа… Понятно, что с пьяного быдла взять нечего, но всё-таки настроение отчего-то мигом испортилось.
– Пойдём, – сказал он своим, направляясь к входу.
В дверях он столкнулся с женщиной, закутанной в тёмный плащ. Чуть поклонившись, пропустил. Женщина легко сбежала с крыльца и наткнулась на пьяную троицу, бредущую в трактир допивать. Попыталась обойти, но не тут-то было.
– Ба, кого я вижу! – заорал один из них, плечистый детина, хватая женщину. – Крошка Жаннет, чтоб мне провалиться! Попалась!
В тусклом свете фонарей, освещавших гостиничный двор, двое других с хохотом обступили собутыльника, который, не теряя времени, грубо тискал плачущую жертву.
– Эй, Жак, не увлекайся! Нас тут трое! – осклабился низенький крепыш.
– Да брось ты! По очереди всем хватит! – хрипло возразил верзила в круглой шляпе, сдвинутой на затылок. – Тащи её, Жак, вон там кусты погуще! А мы следом!
– Твоя правда, Жильбер, – согласился Жак, легко поднимая женщину на руки.
Та истошно вскрикнула. Замолотила кулачками по кудлатой, нечёсаной голове.
Сергей резко обернулся и в два шага очутился рядом.
– Отпусти её, – коротко велел обидчику.
Жак тупо уставился на Сергея.
– Эт-то что ещё за гусь? – спросил крепыша, икнув.
– Ну, этот… сегодня вечером приехал, – объяснил тот и сделал движение к Сергею. – И говорил не по-нашему.
– А-а, чужак, значит, – глубокомысленно сказал Жак, прижимая к груди трепещущую в его руках женщину. – Ну, так ты ему объясни, Анри, чтобы свои порядки тут не устанавливал. И чтобы в наши дела не лез. Хорошенько объясни, ладно?
– Это можно, – согласился тот.
И без лишних слов двинул Сергея в скулу увесистым кулаком.
Всякое в жизни случалось, но чтобы на тебя подняла руку неумытая деревенщина… И пусть даже кулак просвистел мимо (успел увернуться) – без разницы… Гусарская кровь ударила в голову, и Сергей забыл про всё. Про статус. Про Европу. Про осторожность, необходимую в чужой стране. На него напали, – тем хуже для обидчика.
Английскому боксу Сергей не учился, но на силу и быстроту не жаловался, да и рука была тяжёлая. Не успевший опомниться крепыш Анри с воплем полетел на землю, хватая воздух разбитым ртом и ощущая, что число отпущенных природой зубов вдруг уменьшилось. А Сергей уже крепко схватил за горло застывшего от удивления Жака.
– Отпусти её! – прорычал, тяжело дыша, и детина нехотя повиновался.
Женщина с громким плачем побежала прочь. А Жак, освободившись, неожиданно кинулся на Белозёрова. Одной рукой цапнул за грудки, другой же вознамерился врезать в лицо. Но – не успел. От сильного удара под дых согнулся пополам и, задыхаясь, рухнул прямо на стонущего Анри.
Неясный звук за спиной заставил Сергея оглянуться. Он совсем забыл про Жильбера. Впрочем, им уже занимался Долгов – молотил с душой, и с каждым ударом верзила шатался всё сильнее. Беспорядочно размахивая кулаками, он пытался достать противника, но любитель бокса всякий раз уклонялся и бил, бил. Дело кончилось сокрушительным прямым в челюсть, после которого ноги Жильбера подломились, и к двум телам на земле прибавилось третье.
– Сзади хотел вас ударить, – сказал Долгов, тяжело дыша. – Здоровый, гад. Я его бью, а он всё не падает…
Сергей с благодарностью протянул руку. Боевой чиновник в министерстве иностранных дел нынче пошёл, как есть боевой. С таким хоть в атаку…
– О-ля-ля! Это нечестно! – капризно воскликнул Марешаль, топнув ногой. – Мсье Долгов уложил одного, мсье Белозёров сразу двоих, а мне?
Бледный Фалалеев схватил его за плечо и сказал, словно всхлипнул:
– Не переживай! Сейчас всем хватит. Связались на свою голову…
И действительно, из трактира на крики и шум драки выскочили ещё человек шесть или семь. Ситуация была ясна с первого взгляда: заезжие постояльцы уложили трёх земляков. За что, почему, – какая разница? Вопль «Наших бьют!» на разных языках звучит по-разному, но смысл-то один… И этот вопль прозвучал незамедлительно. Возбуждённые винными парами крестьяне, разминая кулаки и засучивая рукава рубах, неторопливо двинулись на обидчиков.
Сергей, Долгов, мигом посерьёзневший Марешаль и даже Фалалеев встали плечом к плечу.
– Как это по-русски… стенка на стенку, вот, – сказал сквозь зубы француз и не к месту поправил галстук.
– Семён Давыдович, иди в тыл, за спину, – скомандовал Сергей, зорко поглядывая на неприятелей, подходивших всё ближе.
– А как же вы тут? Без меня-то? – рыдающе спросил Фалалеев.
– Бегом! – гаркнул Белозёров.
Команда была выполнена с образцовой быстротой.
Пострадавшая троица – Жак, Анри и Жильбер, – стеная и охая, предусмотрительно поползла в сторону, подальше от места новой битвы.
Когда, казалось бы, до первого обмена ударами остались считаные секунды, из гостиницы выскочили хозяин с хозяйкой. Они кинулись между противостоящими шеренгами с явным намерением предотвратить драку. При этом в мощной руке мадам Арно поблёскивал большой черпак – очевидно, миротворческий аргумент.
– Разойдитесь, ребята! – надрывался хозяин, тряся обширным животом. – Я запрещаю! Никаких драк! У меня приличная гостиница!
– Эти олухи сами виноваты! – в свою очередь вопила хозяйка, тыча пальцем в жестоко пострадавших Жака, Анри и Жильбера. – Они хотели… (далее последовало незнакомое Сергею слово)… мою девочку Жаннет! А постояльцы её отбили!
– Ну, хотели, и что? – крикнул кто-то. – Велика важность! Дело молодое! От неё не убудет!
– Пусть ещё спасибо скажет! – добавил другой. – На неё охотников что-то не видать. Ребята просто сегодня перебрали, а тут она и подвернулась…
Раздался взрыв грубого смеха. Разъярённая мадам Арно резко взмахнула черпаком.
– Да я за мою крошку сама им глаза выцарапала бы! – молвила зловеще. – И любому выцарапаю, кто хоть пальцем тронет, ясно? Вы все меня знаете.
Судя по тому, что вражеская шеренга попятилась, мадам Арно знали все.
В этот момент в разговор неожиданно вступил Марешаль.
– Эй, мужики! Ну, вы чего? – весело крикнул он, обращаясь к неприятелям. – Подрались и подрались, эка невидаль. Все живы и здоровы… почти. Пора пить мировую. Всем ставлю выпивку! – Повернулся к хозяину. – Мсье Арно, вы слышали? Подайте ребятам хорошего вина и еды. Плачу́ я.
Ребята, подумав, одобрительно заворчали.
– Ну, мировую так мировую, – произнёс кто-то.
Селяне во главе с хозяином и хозяйкой потянулись в трактир. Следом заковыляла побитая троица, бросая на обидчиков недобрые взгляды.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?